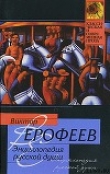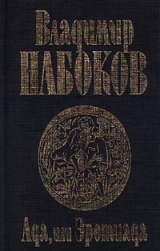
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Для ученой публики, которой суждено не без тайного трепета (ничто человеческое ей не чуждо) прочесть эти запретные мемуары в потаенных закоулках библиотек (где свято хранятся образчики грязной порнографии – скабрезности, стишки, задницы), автор обязан добавить на полях корректуры, которую героически правит прикованный к постели старик (ибо эти нетвердой рукой выведенные змейки – последняя капля в чаше несчастий автора), еще пару замечаний [конец предложения разобрать невозможно, но, к счастью, следующий абзац нацарапан на отдельной блокнотной страничке. Примечание редактора].
…по поводу восторга познания естества Ады. Пусть кретины, которые и в самом деле могут решить, что средь звездной вечности моя, Вана Вина, и ее, Ады Вин, связь, начавшаяся где-то в Северной Америке в девятнадцатом столетии, составляет всего лишь триллионную частичку одной триллионной всей значимости нашей крошки планеты, пусть себе они кричат ailleurs, ailleurs, ailleurs[207]207
Дословно: «в другом месте» (фр.), по звучанию напоминает русское местоимение «её».
[Закрыть] (лишь на французском это слово содержит эффект звукового сходства), ведь познание естества Ады под лупой реальности (той, единственной) выявит сложнейшую систему хрупких мостиков, преодолеваемых чувствами – смех, объятия, запускание в небо цветов, – в чувственном пространстве между плевой и мозгом, и все это, даже в момент постижения, было и будет всегда одной из форм памяти. Я слаб. Я еле пишу. Я умереть могу нынче ночью. Мой ковер-самолет уж не парит больше над пологом ветвей, над разверстыми гнездами птиц и над редчайшими ее орхидеями. Вставить.
Педантка Ада как-то сказала, что выискивать слова в словаре – как в образовательных целях, так и в искусстве – зачем-нибудь, но не ради выражения мысли, есть нечто среднее между декоративным подбором цветов (что все-таки не лишено некоторой поэтичности, особой, девически приподнятой) и составлением цветных коллажей из разрозненных крыльев всяких бабочек (что неизменно пошло, а зачастую и преступно). Per contra[208]208
С другой стороны (лат.).
[Закрыть], она высказала Вану предположение, что все эти вербальные фокусы, «словесные выкрутасы», вся эта «чехарда» и тому подобное могут быть отмечены особой работой интеллекта, необходимой для создания великолепного логогрифа или вдохновенного каламбура, не исключая при этом обращения к словарю, как во благо, так и во вред.
Потому-то она и признавала «Флавиту». Название происходило от алфавит, древнейшей русской игры случая с примесью мастерства, основанной на выстраивании букв алфавита в том или ином порядке. Впервые мода на эту игру возникла в Эстотии и Канадии где-то году в 1790-м, интерес к ней был возрожден «манхателями» (как некогда звали жителей Нового Амстердама) в начале девятнадцатого столетия, затем после кратковременного спада к 1860 году возникла новая громадная волна интереса к этой игре, и теперь, спустя сто лет, она, пожалуй, снова входит в моду, но уже, как мне говорили, под названием «скраббл» – изобретения некого гения совершенно независимо от изначальной игры и ее разновидностей.
Особо чтимый меж русскими ее вариант, популярный в пору Адиного детства, игрался обитателями крупных усадеб ста двадцатью пятью кубиками-буквами. Играющим предлагалось выстраивать слова по горизонталям и вертикалям доски с полем из двухсот двадцати пяти клеток. Двадцать четыре клетки были коричневого цвета, двенадцать – черного, шестнадцать – оранжевого, восемь – красного, а все остальные – золотисто-желтые (иначе, флавидные[209]209
От flavus (лат.) – огненно-желтый, золотистый.
[Закрыть], созвучно изначальному названию игры). Каждая буква алфавита кириллицы означала определенное число очков (редкая русская «Ф» – целых 10, а такая обычная, как «А», всего лишь 1). Коричневая клетка удваивала число очков буквы, черная утраивала. Оранжевая удваивала число очков всего слова, красная – утраивала общую сумму очков. Позже Люсетт будет вспоминать, как в сентябре 1888 года в Калифорнии кошмарными видениями средь бреда стрептококковой лихорадки являлись ей ликования сестры, сумевшей вдвое, втрое и даже вдевятеро (если заполнялись красные клетки) преумножить в цифрах значение слов.
Перед началом игры каждый участник выбирал себе семь кубиков из коробки, где они лежали буквами вниз, после чего игроки по очереди выставляли на доске свое слово. При первом ходе игроку на пустом еще поле требовалось лишь расположить любые две или же все семь букв так, чтобы захватить центральный квадрат, помеченный блестким семиугольником. Затем из имеющихся на доске букв выбиралась ключевая для составления слова по диагонали или вертикали. Выигрывал тот, кто набирал, буква за буквой и слово за словом, наибольшее число очков.
В 1884 году трое наших детишек получили от барона Клима Авидова{73}, старого друга дома (как именовались все бывшие Маринины любовники), набор, состоявший из огромной, обтянутой сафьяном складной доски и коробки увесистых квадратных фишек из черного дерева с инкрустированными платиной буквами, лишь одна из которых, а именно буква «j», происходила из латинского алфавита и значилась на двух фишках-джокерах (заполучить который было столь же волнительно, как чек на предъявителя с подписью Юпитера или Джуроджина). По случайному совпадению то был тот самый добродушный, но обидчивый Авидов (упоминаемый во многих расхожих россказнях того времени), который однажды в отеле Гриц, Венеция Росса[210]210
Красная Венеция (ит.).
[Закрыть], одному незадачливому туристу-англичанину вмазал апперкотом так, что тот катапультировался в швейцарскую, за то, что тот неловко пошутил, мол, как умно, отняв от своей фамилии первую букву, приспособить ее в качестве particule[211]211
Дворянской приставки «де» или «д» (фр.).
[Закрыть].
К июлю из десяти фишек с «А» осталось девять, а из четырех с «Д» – три. Недостающую «А» обнаружили под Атласной Агавой, но «Д» пропала, – примазавшись к участи своего двойника с апострофом, какой она представлялась Зэмоушн Скуаджен, эсквайру, в аккурат перед тем, как он с парой непроштемпелеванных открыток влетел в объятия онемевшего полиглота в швейцарской куртке с медными пуговицами.
Сам первоклассный шахматист, которому было суждено в 1887 году стать победителем матча в Чузе, где его противником оказался уроженец Минска Пат Риций (чемпион Андерхилла и Уилсона, Сев. Каролина) – Ван был озадачен неспособностью Ады при ее, так сказать, мамзелевой несобранности в игре подняться над уровнем девицы из старого романа или с цветной рекламы средства от перхоти, где красотка модель (созданная для игр иных, не шахматных) уставилась в плечо своей также лощеной, но на иной манер, соперницы по ту сторону от диким образом расставленных, выточенных на какой-то невиданный манер бело-алых шахмат «Лалла-Рук» – которыми ни один кретин играть не станет, даже если приплатить за деградацию блеклых умственных способностей под иззудившейся мозговой оболочкой.
Правда, время от времени Аде удавалось измыслить жертвенную комбинацию, подставив, скажем, королеву, – после чего, если фигура бралась, двумя-тремя ловкими ходами привести партию к победе; но она видела эту ситуацию односторонне, предпочитая в какой-то удивительной апатии и бездумной зашоренности не замечать возможности встречной комбинации противника, который может и не принять ее королевской жертвы, что повлечет неизбежно ее поражение. Однако на поприще игры в скраббл неумеха и нескладеха Ада преображалась во вполне отлаженную, вдобавок отличающуюся исключительной везучестью вычислительную машину, намного превосходящую ошарашенного Вана остротой ума, интуицией, реакцией, умением из самых безнадежных кусочков и обрывков составлять слова вкусные, длинные.
Ван считал эту игру слишком скучной и под конец торопился и небрежничал, не утруждая себя прибегать к услугам словаря, чтоб подыскивать «редкое» или «вышедшее из употребления», хотя вполне доступное слово. Что же до честолюбивой, несведущей и буйной Люсетт, то ей приходилось, даже в двенадцать лет, пользоваться время от времени подсказками Вана, на что тот шел прежде всего, чтобы сэкономить время и хоть чуть-чуть приблизить тот сладостный миг, когда девочку можно отправить в детскую и заполучить Аду ради третьего или четвертого в тот чудный летний день бурного всплеска. Особо докучали Вану препирания девчонок, какие слова можно использовать, какие нельзя: запрещались имена собственные и географические названия, но случались сопредельные случаи, сопровождаемые столькими горестными разочарованиями, что было невыносимо жалко смотреть, как Люсетт, оставшись с последними пятью буковками (когда уже ни единой фишки в ящике), выкладывает из них восхитительное «АРДИС», что, как сказала гувернантка, означает «острие стрелы» – да только, увы, по-гречески!
Но самым несносным было вне себя от злобы и возмущения проверять слова сомнительные, роясь в многочисленных словарях, лежавших, стоявших, раскинутых вокруг девчонок – на полу, под стулом, на котором коленками стояла Люсетт, на диване, на большом круглом столе с игровой доской и фишками, на висевшей над ним книжной полке. Это соперничанье, разворачиваемое между недоумком «Ожеговым» (большим, синим, дурно переплетенным словарем, содержащим 52 872 слова) и маленьким, но потрепанным «Эдмундсоном» в почтительном изложении д-ра Гершчижевского, эта безответность кратких словарей-пигмеев и самобытное величие четырехтомного «Даля»{74} («Даленька-далия», ласково мурлыкала Ада, отыскав старое жаргонное словцо у смирного бородача философа) – все это могло бы показаться Вану непереносимой скукой, не порази его как исследователя забавное сходство между игрой в скраббл и спиритическим сеансом. Впервые он ощутил это однажды вечером в августе 1884 года, на веранде детской в лучах заката, последний горящий отблеск которого змеился в углу бассейна, увлекая в последний полет стрижей и усиливая медный блеск кудряшек Люсетт. Обтянутая сафьяном доска была разложена на грубом сосновом, изрядно залитом чернилами, исписанным резными монограммами столе. Милашка Бланш, на мочке уха и на ногте большого пальца которой также играли розовые отблески уходящего солнца, – и источавшая запах духов, меж прислуги именуемых «Мускус горностая», – внесла до поры ненужную лампу. Уже бросили жребий, Аде выпало начинать, и она как раз, автоматически, по наитию, вытягивала из раскрытой коробки один за другим свои «счастливые» семь фишек, где они, каждый в своей золотисто-оранжевой бархатной ячейке, лежали лицевой стороной вниз, кверху обратив лишь ничего не говорящие черные тыльные стороны.
При этом Ада, небрежно роняя слова, приговаривала:
– Я бы все-таки предпочла бентенскую лампу, но в ней кончился керосин. Киска (Люсетт), будь другом, кликни ее – о Господи!
Семь вытянутых Адой букв, – С, Р, Е, Н, О, К, И, – которые она перебирала руками в своем спектрике (маленьком, крытом черным лаком корытце, предназначавшемся каждому игроку), внезапно и даже как бы сами собой преобразовались в ключевое слово случайной фразой, которой сопровождалось это неосознанное перемещение фишек.
В другой раз в тиши библиотечного эркера в громыхавший громами вечер (за несколько часов до возгорания амбара) фишки Люсетт открылись забавным словом ВАНИАДА, из которого она извлекла словцо, обозначавшее предмет мебели, который как раз в этот момент своим тоненьким, капризным голоском и помянула:
– Да-а, а может, мне тоже хочется на тот диван!
Вскоре после этого случая Флавита, как это часто случается с забавами, игрушками и каникулярными знакомствами, которые поначалу сулят радость без конца и без края, канула вслед за бронзовой и кроваво-красной листвой куда-то в туманную осеннюю мглу; и черный ящик был куда-то засунут, забыт – но случайно объявился (среди коробок со столовым серебром) через четыре года, незадолго перед отъездом Люсетт в город, где она с отцом пробыла пару дней в середине июля 1888 года. Случилось, что тогда трое юных Винов играли во Флавиту в последний раз. Потому ли, что с этой игрой кончились записи воспоминаний Ады на эту тему, а может, потому, что Ван сделал кое-какие пометки в надежде – не вовсе не сбывшейся – «углядеть подпушку времени» (а это, как он напишет впоследствии, «наилучшее рабочее определение всяких предзнаменований и пророчеств»), только последняя партия этой самой игры живо и навечно запечатлелась в его памяти.
– Je ne peux rien faire, – канючила Люсетт, – mais rien[212]212
Ничего у меня не получается… ну, ничегошеньки (фр.).
[Закрыть] с такими идиотскими Buchstaben[213]213
Буквами (нем.).
[Закрыть], P, E, M, H, И, Л, К… Л, И, Н, К, Р, Е, М…
– Смотри-ка, – шепнул Ван, – c'est tout simple[214]214
Это так просто (фр.).
[Закрыть], переставь слоги местами, и получится крепость в древней Московии.
– Нет, нет! – возразила Ада, в своей манере грозя пальцем где-то у виска. – Нет, нет! В русском языке нет такого замечательного слова. Это французское изобретение. Второй слог лишний.
– Может, поблажку ребенку? – вступился Ван.
– Никаких поблажек! – вскричала Ада.
– Что ж, – сказал Ван, – всегда можно, если угодно, отсюда выжать КРЕМ – или даже лучше КРЕМЛИ, так зовутся тюрьмы в Юконе. Пройдет прямо через ее ОРХИДЕЯ.
– Через ее дурацкую орхидейку! – подхватила Люсетт.
– Это что! – сказала Ада. – Сейчас Адочка вас почище обставит!
И, воспользовавшись ничего не стоившей буквой, незадолго до того опущенной опрометчивой рукой в седьмую лунку наивысшей по плодородности грядки, Ада с удовлетворенным придыханием выложила прилагательное ТОРФЯНУЮ, в котором буква «Ф» пришлась на коричневый квадрат и еще две – на красные (37x9 = 333), получив вдобавок приз в 50 очков (за выстраивание всех семи фишек одним махом), что вместе составило 383 очка, самый высокий выигрыш, когда-либо полученный за одно слово русским соискателем игры в скраббл.
– Вот! – произнесла Ада. – Уф! Pas facile[215]215
Трудновато (фр.).
[Закрыть].
И, смахивая тыльной стороной белой ладони с розоватыми костяшками бронзово-черные пряди волос с виска, она пересчитывала свои неимоверные очки тоном самодовольно-сладкозвучным, словно принцесса, рассказывая, как поднесла чашу с ядом надоевшему возлюбленному, но тут Люсетт, устремив на Вана немой, полный возмущения несправедливостью жизни взгляд, затем снова переведя глаза на доску, внезапно издала оптимистический вопль:
– Это географическое название! Такое нельзя! Так называется первый полустанок после переезда через Ладору!
– Ты права, киска, – промурлыкала Ада. – Ах, как ты, киска, права! Действительно, Торфяная, или, как именует ее Бланш, La Tourbière[216]216
Торфяник, торфяная (фр.).
[Закрыть], прелестная, хотя несколько унылая деревушка, где обитает семейство нашей Cendrillon'ы. Но, топ petit[217]217
Милая (фр.).
[Закрыть], на языке нашей матери, – que dis-je[218]218
Да, собственно (фр.).
[Закрыть], на языке нашей бабушки по материнской линии, на котором все мы говорим, на этом прекраснейшем, богатейшем языке, который, киска, не следует забывать ради канадизированного французского, – на этом языке это совершенно заурядное прилагательное женского рода, винительного падежа и означает «торфяную». Вот так, один этот ход принес мне без малого 400. Как жаль – недотянула (до 400 не вышло).
– Недотянула! – укоризненно повторила Люсетт, бросая взгляд на Вана, ноздри трепещут, плечики дрожат от возмущения.
Ван наклонил ее стул, чтоб Люсетт, скользнув с него вниз, отправиться вон. За партий пятнадцать выигрыш бедной малышки составил меньше очков, чем принес сестре этот последний, рукою мастера сделанный ход, да и Ван заработал едва ли больше Люсетт – но что за беда! Мерцание закатных отсветов на плече у Ады, бледно-голубые жилки подмышечной ложбины, древесно-угольный аромат ее волос, отливавших каштановым блеском на фоне пергаментного абажура (полупрозрачный пейзаж с японскими драконами) – все это стоило неизмеримо больше, чем за всю жизнь эти пальчики, цепкой гроздью облепившие огрызок карандаша, начертают ей выигрышей, вчерашних, сегодняшних, будущих.
– Проигравшая – немедленно в постель! – весело сказал Ван. – И оттуда ни-ни, а мы отправимся вниз и принесем ей ровно через десять минут большую (ту, темно-синюю) чашку какао (сладкого, густого какао «Кэдбери» без пенки!).
– Никуда я не пойду! – заявила Люсетт, скрестив на груди руки. – Во-первых, потому что еще только полдевятого, а во-вторых, потому что прекрасно понимаю, для чего вы хотите от меня избавиться.
– Ван, – после некоторой заминки сказала Ада, – не призовешь ли сюда мадемуазель? Она трудится с мамой над каким-то сценарием, который по глупости даже с глупостью этого несносного ребенка не может сравниться.
– Хотелось бы знать, – заметил Ван, – что именно Люсетт хочет сказать своим любопытным заявлением. Полюбопытствуй у нее, Ада, пожалуйста!
– Она считает, что мы будем играть в скраббл без нее, – сказала Ада, – ну, или займемся с тобой теми восточными упражнениями, которым, помнишь, Ван, ты начал меня обучать, если ты не забыл.
– Ну как же, помню! Помнишь, я показывал, чему мой учитель гимнастики, помнишь, его зовут Кинг Уинг, меня научил.
– Все «помнишь» да «помнишь», ха-ха! – усмехнулась Люсетт, стоя перед ними подбоченясь, расставив ножки в зеленых пижамных штанах и выставив вперед загорелую грудку.
– Наверное, проще всего… – начала Ада.
– Проще сказать, – подхватила Люсетт, – вы оба не смеете открыто признаться, почему хотите от меня отделаться!
– Наверное, проще всего, – продолжила Ада, – тебе, Ван, не отвечать, а врезать ей как следует по заднице.
– Пожалуйста! – выкрикнула Люсетт, нагло выставляя попку.
Ван легонько погладил ее по шелковистому затылку, чмокнул в ухо; и тут, внезапно разразившись истеричными рыданиями, Люсетт кинулась прочь из комнаты. Ада заперла за нею дверь.
– Она совершенно обезумела, честное слово, прямо какая-то похотливая цыганка-нимфетка, – говорила Ада, – а нам теперь надо быть гораздо осторожней… о… очень, очень, очень… о… осторожней, любимый…
37Шел дождь. Лужайки сделались зеленей, бассейн посерел, просвечивая сквозь мутное окно библиотечного эркера. Облаченный в черный спортивный костюм, подоткнув под голову пару желтых подушек, Ван лежа читал исследование Раттнера о Терре, произведение путаное и наводящее тоску. Время от времени он взглядывал на высокие, по-осеннему тикавшие часы, возвышавшиеся над рыже-бурой гладкой макушкой Татарии на огромном старом глобусе в меркнущем свете дня, скорее вызывавшего в памяти начало октября, чем начало июля. Ада в ненавистном Вану старомодном макинтоше с поясом, накинув на плечо сумку на ремешке, отбыла до вечера в Калугу – по официальной версии, приглядеть себе кое-что из одежды, по неофициальной – на прием к кузену д-ра Кролика, гинекологу Зайтцу (или, как она умышленно произносила его фамилию, «Зайцу», поскольку тот, как и д-р «Кролик», для русского уха относился к семейству заячьих). Ван отдавал себе отчет, что не единожды за этот месяц их любовных утех забывал о необходимых средствах предосторожности, которые, как это ни странно порой, бесспорно надежны, и недавно приобрел средство в виде футлярчика, каковые в графстве Ладора по какой-то непонятной, восходящей к прошлому причине разрешалось продавать только в парикмахерских. И все же он ощущал беспокойство – и это беспокойство злило его, – и Раттнер, без особого пыла отрицавший в своей книге объективность существования родственной нам планеты, однако с неохотцей допускавший его в своих невразумительных примечаниях (неудобно расположенных между главами), казался Вану нудным, как этот дождь, сеявшийся косыми, параллельными, точно карандашом прочерченными линиями, заметными лишь на фоне темневшего насаждения лиственниц, завезенных, как утверждала Ада, из Мэнсфилд-парка.
Без десяти пять тихонько вошел Бут с зажженной керосиновой лампой и с приглашением Марины зайти к ней в комнату поболтать. Проходя мимо глобуса, Бут провел по нему пальцем и, обозревая пыль на кончике, сказал, качая головой:
– Пылища кругом! Надо бы Бланш назад в деревню отправить. Elle est folle et mauvaise, cette fille[219]219
Вот уж чокнутая и злая девчонка (фр.).
[Закрыть].
– Ладно-ладно, – пробормотал Ван, едва оторвавшись от чтения.
Бут вышел из комнаты, продолжая качать своей дурацкой стриженой башкой, а Ван, зевая, позволил Раттнеру соскользнуть с черного дивана на черный ковер.
Когда в очередной раз он взглянул на часы, они набирали силу для боя. Ван поспешно поднялся с дивана, припоминая, что входила Бланш и просила, чтоб он за нее пожаловался Марине на мадемуазель Аду, уже в который раз отказавшуюся подбросить служанку до «Пивной туры», как местные шутники прозвали ее деревушку. Несколько мгновений краткий, неясный сон так сплелся с реальностью, что, даже вспоминая, как Бут тычет пальцем в ромбовидный полуостров, на который только что высадились армии союзников (что явствовало из ладорской газеты, раскинутой орлом на библиотечном столе), он все еще отчетливо видел, как Бланш стирает пыль с Крыма одним из оброненных Адой носовых платков. Ван вскарабкался по улиточным ступенькам в ватерклозет при детской; издалека услыхал, как гувернантка с бедняжкой воспитанницей читают вслух монологи из злосчастной «Береники»{75} (каркающее контральто вперемежку с точно заведенным тоненьким голоском); и решил, что, наверное, Бланш или, скорее, Марине любопытно было б узнать, серьезны ли его заявления, будто на днях он досрочно, в девятнадцать, отправится служить в армию. Еще с минуту он поразмышлял вокруг того печального обстоятельства, что (как было ему известно из его занятий) смешение двух реальностей, одной в одинарных, другой в двойных кавычках, есть симптом надвигающегося сумасшествия.
Неподкрашенная, простоволосая, в допотопнейшем своем кимоно (Педро внезапно удрал в Рио), Марина, полулежа на своей кровати красного дерева под золотисто-желтым пикейным одеялом, пила чай с кумысом, в отношении чего у нее был пунктик.
– Подсаживайся, выпей глоток чайку, – сказала Марина. – По-моему, коровье вон в том молочнике, что поменьше. Да, именно так! – И продолжала, когда Ван, чмокнув ее, в родинках, руку, опустился на иванильич(такой охающий, старый кожаный пуф): – Ван, дорогой, мне надо тебе кое-что сказать, о чем больше, я знаю, мне не придется с тобой поговорить. Бэлль с вечным своим пристрастием к точности выражений процитировала мне adage[220]220
Поговорку (фр.).
[Закрыть] – cousinage-dangereux-voisinage[221]221
Родство – опасное соседство (фр.).{244}
[Закрыть] – ах, «adage», вечно запинаюсь на этом слове, – и выразила возмущение, qu'on s'embressait dans tous les coins[222]222
Что вы целуетесь везде по углам (фр.).
[Закрыть]. Это правда?
Мысль Вана воспламенилась, прежде чем заработал язык. Да нет же, Марина, это чудовищное преувеличение. Ну, видала разок эта психопатка, как он нес Аду через ручей и поцеловал, потому что она поранила палец на ноге. Так ведь моя роль – не более чем нищий в той повести, что печальнее нет на свете.
– Ерунда (nonsense)! – сказал Ван. – Она видала однажды, как я переносил Аду через ручей, и превратно истолковала наше stumbling huddle (спотыкающееся слияние).
– Причем здесь Ада, дурачок! – сказала Марина, едва заметно фыркнув и склоняясь над чашкой. – Русский юморист Азов считает, что ерунда произошла от немецкого hier und da[223]223
Там и сям, местами (нем.).
[Закрыть], что означает «ни туда, ни сюда»{76} («это к делу не относится»). Ада уже девочка большая, а у больших девочек, увы, свои заботы. Разумеется, мадемуазель Ларивьер имела в виду Люсетт. Необходимо прекратить эти нежные игры, Ван! Люсетт – наивная двенадцатилетняя девочка, и хоть я уверена, что все это чистое озорство, yet (однако) в отношении ребенка, перерастающего в маленькую женщину, вести себя деликатно никогда не помешает. À propos de coins[224]224
Да, кстати об углах (фр.).
[Закрыть]: y Грибоедова в «Горе от ума» («How stupid to be so clever»), пьесе в стихах, написанной, кажется, во времена Пушкина, главный герой, напоминая Софи о том, как в детстве они вместе играли, говорит:
Хотя в русском оригинале это звучит несколько двусмысленно, еще чайку, Ван? (тот мотнул головой, одновременно взмахивая рукой, как его отец), потому что, видишь ли, – строку «и кажется, что в этом» можно еще понять, как «и кажется, что в этом», как бы указуя пальцем на некий угол в комнате. Представь – когда я репетировала сцену с Качаловым в театре «Чайка»{77} в Юконске, Станиславский, Константин Сергеевич, и в самом деле заставлял его изобразить этот cosy little gesture (уютненький жест).
– Да что вы говорите! – сказал Ван.
Появился песик, выкатил на Вана карий глаз, поплелся к окну, поглазел, как маленький человечек, на дождь и вернулся в соседнюю комнату на свою грязную подушку.
– Не выношу эту породу, – признался Ван. – Таксофобия.
– Ну, а как насчет девушек, Ван, много ль их у тебя? Ты ведь не любитель мальчиков, как твой бедный дядя, ведь нет? Среди наших предков попадались ужасные извращенцы, но… чему ты смеешься?
– Так, ничему, – сказал Ван. – Просто хочу официально констатировать, что питаю пристрастие к девическому полу. Первая у меня была в четырнадцать. Mais qui me rendra mon Hélène?[226]226
Кто мне вернет мою Элен? (фр.)
[Закрыть] Волосы у нее были черны как смоль, а кожа – точно снятое молоко. Потом было множество других, с большей примесью сливок. И кажется, что в этом?
– Как странно и как грустно! Грустно потому, что я почти ничего не ведаю о твоей жизни, my darling (мой душка). Все Земские были великие rakes (развратники), один обожал маленьких девчонок, другой raffolait d'une de ses juments[227]227
Воспылал страстью к одной из своих кобыл (фр.).
[Закрыть], велел ее привязывать как-то по-особому – сама не знаю как (всплескивает руками с выражением испуганного неведения), являлся к ней на свидание в конюшню. Кстати (à propos), меня всегда изумляло, как наследственные черты могут передаваться от холостяков, не иначе гены способны скакать, точно шахматные кони. В последний раз, когда мы с тобой играли, я почти выиграла, надо нам сыграть снова, только не сегодня – сегодня мне ужасно грустно. Мне бы так хотелось узнать о тебе все-все, но теперь уж слишком поздно. Воспоминания всегда чуточку «stylized» (стилизованы), как говаривал твой отец, такой неотразимый и противный; даже если бы ты показал мне свои старые дневники, я уж не сумею с ходу изобразить естественный эмоциональный отклик, хоть актрисы способны в миг расплакаться, вот как я сейчас. Видишь ли (шарит под подушкой в поисках платка), когда дети quite tiny (такие малютки), невозможно помыслить расстаться с ними хоть на пару дней, но потом все-таки расстаемся, сначала на две недели, потом на месяц, без них тянутся серые годы, черные десятилетия, и вот – opéra bouffe[228]228
Комической оперой (фр.).
[Закрыть] взрывается христианский уход в вечность. По-моему, даже самая краткая разлука – уже подготовка к Элизийским играм – кто это сказал? Я это сказала. А костюм твой, хоть он тебе и к лицу, все же какой-то траурный (funerary). Какую околесицу я несу! Прости мне мои дурацкие слезы… Скажи, могу я хоть что-нибудь для тебя сделать? Ну, пожалуйста, скажи что! Хочешь, подарю тебе роскошный, практически не ношенный перуанский шейный платок, его он, тот безумный мальчик, оставил? Не хочешь? Стиль не твой? Тогда ступай. И помни: ни слова бедняжке мадемуазель Ларивьер, она из лучших побуждений.
Ада вернулась перед самым ужином. Ну, что? Он столкнулся с ней, когда она с довольно усталым видом поднималась по парадной лестнице, таща с собой по ступенькам за ремешок сумку. Ну, что? От нее пахло табаком, либо потому (как сама сказала), что ехала час в купе для курящих, либо оттого (добавила она), что выкурила пару сигарет, пока ждала в приемной у врача, а может, потому (этого она не говорила), что неведомый любовник – страстный курильщик, из полураскрытых красных губ кольцами взвивается облако голубого дыма.
– Так что? Tout est bien?[229]229
Все хорошо? (фр.)
[Закрыть] – спросил Ван после небрежного поцелуя. – Все в порядке?
Она грозно или притворно грозно взглянула на него.
– Послушай, Ван, зачем ты звонил Зайтцу? Он даже имени моего не знает! Ты же обещал!
Пауза.
– Я не звонил, – тихо произнес Ван.
– Tant mieux[230]230
Тем лучше (фр.).
[Закрыть], – сказала Ада тем же фальшивым голосом, когда он помогал ей в коридоре снять пальто. – Oui, tout est bien[231]231
Да, все хорошо (фр.).
[Закрыть]. Прошу тебя, милый, прекрати меня обнюхивать. К счастью, у меня началось по дороге домой. Пожалуйста, пусти!
Свои сложности? Надуманные матерью? Банальность повседневности? «У каждого свои проблемы?»
– Ада! – крикнул он.
Она обернулась, не успев запереть свою (вечно запираемую) дверь.
– Что?
– «Тузенбах (не зная, что сказать). Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтоб мне сварили… (быстро уходит)».
– Очень смешно! – сказала Ада и, ступив в комнату, заперла за собой дверь.