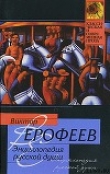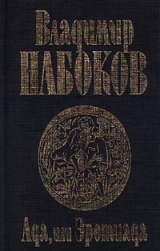
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
– Ты правда не хочешь в ресторан? – спросил он, когда Люсетт, в своем коротком вечернем платьице казавшаяся еще оголенней, чем в бикини, встретилась с ним в дверях гриль-бара. – Там тьма народу и веселья и мастурбирует оркестр. Так – нет?
Она мило качнула головкой в алмазах.
Они заказали громадных сочных «креветок гру-гру» (желтых личинок пальмового долгоносика) и жареную медвежатину a la Tobakoff. Занято было всего лишь столиков пять-шесть, и, если не считать противного дрожания судового двигателя, которое за обедом они как-то не заметили, в баре царила мягкая, приглушенная, уютная атмосфера. Воспользовавшись ее странным, подчеркнутым молчанием, Ван принялся в подробностях рассказывать Люсетт про покойного щупателя карандашей г-на Малдуна, а также про имевший место в Кингстоне казус с глоссалией у одной юконки, говорившей на нескольких славяноподобных диалектах, которые, возможно, существуют на Терре, но только не в Эстотиландии. Увы, иной казус (обыгрываемый сходством с «казаться») завладел его вниманием на внесловесном уровне.
Она задавала вопросы с прелестным, по-газельи студенческим, интересом, но преподавателю больших научных знаний не требовалось, чтоб разгадать, что и очаровательная застенчивость, и низкие нотки, опушающие ее голос, это тот же наигрыш, что и ее дневное вспенивание. По сути говоря, Люсетт корежили мучения от сумятицы чувств, совладать с которыми могло лишь героическое самообладание американской аристократки. Бог знает когда она вбила себе в голову, что, заставив, хотя бы однажды, мужчину, которого нелепо, но безысходно любила, вступить с собой в связь, она каким-то образом сумеет с помощью чудодейственного перста природы превратить краткий момент соития в вечные духовные узы. Но она также понимала, что если этого не произойдет в первую же ночь их плаванья, отношения вновь скользнут вспять к мучительному, безнадежному, безнадежно привычному стилю общения с обменом незлобивыми колкостями, с осязанием эротической грани, теперь еще более чувствительной. Ван понимал, что происходит с нею, или отчаянно верил, что тогда понимал, вспоминая потом, когда никакого иного средства, кроме умащения атлантической прозой д-ра Генри, не сыскать было в домашней аптечке прошлого с бряцавшей дверцей и с заваливающейся зубной щеткой.
Мрачно глядя на ее худенькие, обнаженные плечи, такие подвижные и пластичные, что так и казалось, она вот-вот скрестит их перед собой преображенными крыльями ангела, Ван малодушно думал про себя: если подчинится глубинному кодексу чести, то ему предстоит пережить пять дней похотливой ломки, – не только потому, что она прелестна, необыкновенна, но просто потому, что более суток без женщины в постели он обходиться не может. Он боялся как раз того, чего она так желала: стоит ему хоть раз проникнуть в ее разверстость и ощутить это сжатие, как она жадно завладеет им на недели, быть может, месяцы, быть может, дольше, – но неизменно грядет резкий разрыв, и новым надеждам ни за что не загасить старое отчаяние. Но хуже всего было то, что, ощущая страсть к неуравновешенной девочке, стыдясь этой страсти, Ван угадывал в смутном перевитии древних чувств, как стыд обостряет эту страсть.
Они пили сладкий крепкий кофе по-турецки, и он украдкой бросил взгляд на ручные часы, понять… что? Долго ли сможет выносить эти муки воздержания? Скоро ль хоть что-то грядет, например, начнутся состязания по бальным танцам? Каков ее возраст? (Люцинде Вин едва от роду пять часов, если повернуть вспять человеческий «ток времени».)
Она была так трогательно-нежна, что, когда они направились к выходу из бара, Ван не смог удержаться (ибо чувственность – лучший питательный раствор для роковой ошибки), чтоб не погладить атласное юное плечико, чтоб на мгновение, счастливейшее в ее жизни, канула идеальная выпуклость в чашечку-бильбоке его ладони. Потом она шла впереди, ощутимо, как победительница конкурса на лучшую осанку, неся на себе его взгляд. Ему в ее платье виделось что-то страусиное (если существуют страусы с курчаво-рыжим оперением), оно подчеркивало свободу шага, длину ноги в ниноновом чулке. Говоря объективно, была она гораздо шикарней своей «вагинальной» сестры. Они проходили площадки трапа, где русские матросы (провожавшие одобрительными взглядами красивую пару, говорившую на их несравненном языке) спешно натягивали бархатные канаты, они гуляли по той или иной палубе, и Люсетт казалась ему гуттаперчевой девочкой, которой моря и шквалы нипочем. С неудовольствием истинного джентльмена замечал он, что ее вздернутый подбородок, и черные перья, и свободная походка приковывали к себе не только невинно-голубоглазые взоры, но и откровенно похотливые взгляды иных пассажиров. Ван объявил во всеуслышанье, что смажет по физиономии очередного наглеца, и непроизвольно попятился, смешно потрясая кулаками, вмазавшись в свернутый шезлонг (в миниатюре сам изобразив откат во времени), заставив Люсетт захлебнуться смехом. Теперь, развеселившись, любуясь его подшампаненной галантностью, Люсетт уволокла Вана подальше от воображаемых своих обожателей к лифту.
Без явного интереса обозревали они в застекленной витрине товары для праздной публики. Люсетт фыркнула, указав на расшитый парчой купальный костюм. Присутствие здесь жокейского стека и мотыги несколько озадачило Вана. Экземпляров пять-шесть «Зальцмана» в глянцевой обложке были красиво разложены между фотографией привлекательного, задумчивого, ныне полностью забытого автора и букетом бессмертников в вазе стиля «минго-бинго».
Ван схватился за красный канат, они вошли в салон.
– Кого она напоминает? – спросила Люсетт. – «En laid et en lard?»[472]472
«В уродливом и тучном виде?» (фр.)
[Закрыть]
– Не понял, – соврал Ван. – Кого?
– Не важно! – отмахнулась она. – Сегодня ты мой! Мой, мой, мой!
То была цитата из Киплинга – та самая фраза, которую Ада адресовала Даку.
Ван бросил взгляд вокруг в поисках спасительной соломинки – проканителить прокрустову неизбежность.
– Умоляю! – сказала Люсетт. – Мне надоело бродить по кораблю. Меня качает, меня знобит, я ненавижу шторм, пошли скорей в постельку!
– Эй, взгляни-ка! – вскричал Ван, тыча пальцем в афишу. – Вот показывают кино под названием «Последний загул Дон-Гуана». Допрокатный просмотр и только для взрослых. Каков «Тобакофф»!
– Наверняка скучища нон-денатурат! – отозвалась Люси (школа при Уссэ, 1890), но Ван уж раздвинул входную портьеру.
Они вошли посреди вводной короткометражки о круизе в Гренландию – всю в грозных, приукрашенных цветным кино морях. Путешествие это было крайне не к месту, так как их «Тобакофф» и не помышлял заходить в Годгаген; более того, кинозал качало в противофазе волнениям кобальтово-изумрудных экранных стихий. Неудивительно, что место оказалось, по замечанию Люсетт, эмптовато[473]473
Русифицированный эпитет от английского «empty» – пустой.
[Закрыть], и она снова напомнила, как Робинсоны накануне спасли ей жизнь, вручив полный пенальчик пилюль «За упокой».
– Дать одну? Одна таблетка в день keeps «no shah» away[474]474
Вариант расшифровки каламбура «keeps „no shah“ away» (досл. «шах к вам не подступится») – «keeps no shy way» – робость как рукой снимет (англ.).
[Закрыть]. Шутка. Можешь разжевать, сладкая!
– Восхитительное названьице! Нет уж, спасибо, сладкая моя! Да их у тебя всего пять и осталось.
– Не волнуйся, у меня все рассчитано. Уже меньше пяти дней остается.
– На самом деле больше, но не в этом суть. Наши параметры времени бессмысленны; наиточнейшие часы – смех, да и только. Погоди чуть-чуть, все узнаешь про это из книги.
– А может, и нет! Скажем, не хватит у меня терпения. Ведь так и не сумела чернавка Леонардо до конца прочесть ему судьбу по руке. Вдруг я засну, не дочитав твою грядущую книгу?
– Легенда для будущих искусствоведов! – отозвался Ван.
– Вот финальный айсберг, судя по музыке. Пошли, Ван! Или жаждешь увидеть Гула в роли Гуана?
В темноте она коснулась губами его щеки, взяла его руку, стала целовать согнутые пальцы, и внезапно ему подумалось: почему нет, в конце-то концов? Нынче ночью? Нынче ночью!
Он упивался ее нетерпением, глупец, позволивший себе этим возбудиться, кретин, смакуя свободный, новый, абрикосовоцветный огонь предвкушения, шепнувший:
– Будешь паинькой, пойдем к полуночи ко мне, посидим в гостиной, выпьем что-нибудь!
Но вот началась сама картина. Три заглавные роли – дышащего на ладан Дон-Гуана, пузатого Лепорелло на своем ослике и в меру неприступной, по виду сорокалетней, Донны Анны – исполняли внушительные звезды, промелькнувшие в «как бы рекламе», или, по выражению некоторых, в «полупрозрачках», перед началом фильма. Вопреки ожиданиям он оказался вполне приличным.
На пути в отдаленный замок, где в своих суровых и хладных покоях несговорчивая дама, его же шпагой обращенная во вдову, наконец посулила ему долгую ночь любви, стареющий распутник бережет свою потенцию, надменно отвергая поползновения роя красавиц селянок. Некая цыганка предсказывает унылому кавалеру, что, не успев доехать до замка, тот падет жертвой коварства сестры ее, плясуньи Долорес (заимствованной из новеллы Осберха, что предусматривалось доказать предстоящим разбирательством). Гадалка также предрекла кое-что и Вану, ибо еще до того, как Долорес вышла из шатра напоить кобылу Гуана, Ван уж знал, кого увидит.
В лучистой магии киносъемки, в отрепетированном исступлении балетной грации десяток лет спали с нее как не бывало, и снова она девочка, и снова панталончики qui n'en porte pas[475]475
Неточное: «которые она не носит», ближе: «которые не в моде» (фр.), звуковой каламбур с «n'importe pas» – «которые не важны».
[Закрыть] (как он насмешливо выразился однажды, чтоб позлить гувернантку как бы неловким переводом из несуществующего французского классика): запомнившаяся банальность вторглась в холодок охвативших его чувств с несуразной глупостью иноземца, наивно вопрошающего занятого сладострастным созерцанием вуайериста, куда можно выйти лабиринтом этих улиц.
Люсетт узнала Аду секундами позже, и тут же вцепилась Вану в руку.
– Господи, какой кошмар! Как же я не учла! Это она! Прошу тебя, уйдем, пожалуйста! Зачем тебе видеть это унижение! Она до ужаса искусственна, все у нее по-детски, так фальшиво…
– Погоди минутку, – сказал Ван.
Ужасна? Фальшива? Она была совершенно безупречна, и странна, и до боли знакома. Неведомым мазком искусства, неведомыми чарами случая краткие эпизоды с нею составили идеальный, сжатый показ, какой она была в 1884 и 1888 и 1891 годах.
Цыганочка склоняет голову над услужливо подставленной вместо стола спиною Лепорелло, чтоб нацарапать на обрывке пергаментной бумаги примерную схему пути до замка. Сквозь длинные черные пряди, разделяемые движением плеча, проглядывает белизна шеи. И больше она уж не Долорес того, другого, а маленькая девочка, макающая акварельную кисть в Ванову кровь, и замок Донны Анны обернулся болотным цветком.
Дон скачет мимо трех мельниц – черными вихрями на фоне зловещего заката, – он спасает цыганку от мельника, обвинившего ее в краже горсти муки и рвущего на ней ветхие одежды.
Пыхтя, но по-прежнему бодрясь, Гуан переносит ее через ручей (голый большой пальчик повисшей руки смазывает его по его щеке), ставит на ноги вниз, на мягкую землю оливковой рощи. Они стоят лицом друг к другу. Ее пальцы чувственно поглаживают украшенный драгоценными камнями эфес его шпаги, она прижимается упругим девичьим животом к его расшитым панталонам, как вдруг гримаса преждевременного спазма искажает выразительное лицо бедняги Дона. Он гневно высвобождается из ее объятий и шатаясь бредет назад к своему коню.
Однако Ван понял только много лет спустя (когда посмотрел – должен был посмотреть, а потом еще и еще раз – весь фильм до конца, с его печальным гротескным финалом в замке Донны Анны), что как раз в этом казавшемся случайном объятии и заключалось отмщение Каменного Рогоносца. Ну а пока в крайне расстроенных чувствах Ван решил убраться еще до того, как затемнится сцена в оливковой роще. Как раз в этот момент три пожилых леди, каменными лицами демонстрируя недовольство фильмом, поднялись рядом с Люсетт (миниатюрность позволила ей не вставать) и тремя судорожными рывками протиснулись мимо Вана (который встал). И тут он приметил еще двоих – давно забытых Робинсонов, как видно, изначально отделенных от Люсетт удалившимися дамами и теперь придвигавшихся к ней поближе. Лучаясь и тая в доброжелательных, подобострастных улыбках, они бочком протиснулись и уселись рядом с Люсетт, обратившей к ним свой самый, самый, самый последний бескорыстный дар стойкой учтивости, которая сильнее крушения надежд, сильнее смерти. А те, лучась морщинами, уж тянулись своими трепещущими пальцами через нее к Вану, который воспользовался их вторжением, чтоб пролепетать с пошлым матросским юморком какое-то извинение и в момент сильного крена покинуть тьму кинозала.
После ряда действий шестидесятилетней давности, которые теперь я могу перемолоть в пыль лишь одной последовательностью слов, пока тверд их ритм, я, Ван, удалился в свою ванную, захлопнув дверь (которая тут же распахнулась, но закрылась сама по себе снова) и воспользовавшись средством временным, но более естественным, чем то, что пришло на ум Отцу Сергию (который не тот рубанул себе член в известном рассказе графа Толстого), решительно избавился от похотливого зуда, что случилось с ним в последний раз семнадцать лет назад. И сколь печально, сколь показательно было, что, когда незапирающаяся дверь жестом глухого, подносящего к уху закругленную ладонь, снова распахнулась, экран его пароксизма отразил кадр не с ближайшим и уместным явлением Люсетт, но с неизгладимым в памяти образом: склоненная обнаженная шея и рассеченный поток черных волос и кончик кисточки, окунутой в красное.
После чего он повторил, для надежности, свой отвратительный, но необходимый акт.
Теперь Ван мог бесстрастно взирать на происходящее и думал, что поступает правильно, отправляясь спать и выключая «эктричество» (словесный суррогат, снова проползший в международную лексику). По мере того как глаза свыкались с темнотой, голубоватый призрак комнаты вставал перед ним. Он гордился своей силой воли. Радовался тупой боли в опустошенном корне. Радовался мысли, внезапно показавшейся настолько очевидной и новой и такой же реально осязаемой, как медленно проступающий в темноте проем двери, ведущей в гостиную, а именно: завтра же утром (которое все-таки и по большому счету наступило семьдесят лет назад) он объяснит Люсетт, как философ и как брат той, другой, что понимает, как мучительно и как нелепо все свое духовное достояние вкладывать в один мимолетный физический каприз, и что его положение незавидно, как и ее, но что он, однако, сумел жить, работать и не сетовать на судьбу, потому что не желает портить ей жизнь короткой интрижкой и потому что Ада все еще дитя. На этой стадии логические построения стали подергиваться дремотной рябью, но его внезапно вернул в сознание телефонный звонок. Казалось, аппарат приседает с каждым взрывом трезвона, и поначалу Ван решил: пусть себе звонит. Но под конец нервы сдали, не выдержав настойчивости сигнала, и он снял трубку.
Вне сомнения, он имел полное моральное право воспользоваться любым, первым попавшимся предлогом, лишь бы не допустить ее к себе в постель; но он понимал также, как джентльмен и как художник, что кинутый им набор слов был банален и жесток и что она поверила ему только потому, что такого от него не ожидала.
– Можно придти теперь (can I come now)? – спросила Люсетт.
– Я не один (I'm not alone), – ответил Ван.
Короткая пауза, затем она повесила трубку.
Едва Ван улизнул, Люсетт оказалась зажатой между двумя Робинсонами (Рейчел, качая громадной сумкой, немедленно просочилась на освобожденное Ваном место, а Боб передвинулся поближе). По причине некой pudeur[476]476
Деликатности (фр.).
[Закрыть] Люсетт не сказала им, что актриса (обозначенная незнакомым и быстро потухшим именем «Тереза Зегрис» в «восходящем» списке исполнителей, появившемся в конце), которой удалось воплотить небольшую, но весьма немаловажную сторону образа роковой цыганки, и есть та самая бледненькая школьница, которую те могли помнить по Ладоре. Робинсоны – этакие миссионеры безалкогольных радостей – пригласили Люсетт выпить с ними «коки» к себе в каюту, где было тесно, душно и оказалась дрянная звукоизоляция, слышно было каждое слово за стенкой, подвывания двух деток, укладываемых спать молчаливой, укачавшейся нянькой, пора, пора, – нет, не деток, скорее очень юной, очень неудовлетворенной пары новобрачных.
– Мы понимаем, – сказал Роберт Робинсон, подступая за очередной порцией к портативному холодильнику, – мы прекрасно понимаем, что доктор Вин глубоко погружен в свой Вдох-Но-Венный Труд – лично я сам порой сожалею, что удалился на покой, – но как вы думаете, Люси, – prosit[477]477
Ваше здоровье (лат.).
[Закрыть]! – мог бы он согласиться отужинать завтра с вами и с нами и, возможно, еще Одной Парой, с кем познакомиться ему будет, несомненно, приятно? Должна ли миссис Робинсон отправить ему официальное приглашение? Может, и вы его тоже подпишете?
– Не знаю, я очень устала, – сказала Люсетт, – и рок-н-роллит все неистовей. Пожалуй, пойду к себе и приму вашу «заупокойную». Да-да, конечно, давайте поужинаем, все вместе. Мне в самом деле полегче от этого приятного прохладного напитка.
Положив трубку на перламутровый рычаг, она переоделась в черные брючки и лимонную блузу (намеченные на завтрашнее утро); тщетно порылась в поисках чистой писчей бумаги без изображения каравеллы или герба; вырвала чистый форзац из «Дневника» Герба и попыталась придумать что-нибудь смешное, безобидное и искрометное для признания в самоубийстве. Но она предусмотрела все, кроме этой записки, потому разорвала пополам чистый живой листок и спустила обрывки в ватерклозет; налила себе стакан мертвой воды из замшелого графина, проглотила одну за одной четыре зеленых таблетки и с пятой на языке вошла в лифт, поднявший ее на кнопку выше ее трехкомнатных апартаментов прямо в выложенный красными коврами бар на прогулочной палубе. Там двое юных слизняков как раз соскальзывали со своих красных поганок, и на выходе старший бросил младшему:
– Ты, дорогой, его светлости можешь пудрить мозги, а меня не проведешь, не выйдет!
Люсетт выпила «казацкую стопку» водки «Класс» – мерзкого, вульгарного, однако могучего зелья; выпила вторую; и уже была не в состоянии опрокинуть третью, поскольку в глазах с неудержимой силой поплыло. Плывем с неудержимой силой от акул, Тобакович!
Сумочки у нее с собою не было. Она едва не скатилась со своего странного выпуклого сиденья, когда рылась в кармане в поисках случайной банкноты.
– Ба-аиньки! – протянул бармен Тоби с отеческой улыбкой, которую она ошибочно приняла за издевку. – Баиньки пора, мисс! – повторил он, похлопав ее по не прикрытой перчаткой руке.
Люсетт отпрянула и, набравшись сил, выпалила отчетливо и вызывающе:
– Мой кузен господин Вин завтра заплатит, вобьет тебе в глотку твою вставную челюсть!
Шесть, семь – нет, уже больше, десять ступенек вверх! Dix marches[478]478
Десять ступенек (фр.).
[Закрыть]. Ноги – руки. Dimanche. Déjeuner sur l'herbe. Tout le monde pue. Ma belle-mère avale son râtelier. Sa petite chienne[479]479
Воскресенье. Завтрак на траве. Воняют все. Свекровь глотает вставную челюсть. Ее сучка (фр.).
[Закрыть] после слишком усердных потуг сглотнула раз, сглотнула два и преспокойно блюет, розовой жижей прямо на праздничную nappe[480]480
Скатерть (фр).
[Закрыть]. Après quoi[481]481
После чего (фр.).
[Закрыть] утрехивает восвояси. Ох уж эти ступеньки!
При подтягивании вверх ей приходилось цепляться за поручни. Она продвигалась скрючившись, как калека. Выбравшись на открытую палубу, ощутила, как сильно давит темнота ночи и как подвижен случайный приют, который готовилась покинуть.
Хотя Люсетт до того ни разу не умирала – нет же, Вайолет, не ныряла – с такой высоты и в такую смуту теней и дрожащих отражений, она без единого всплеска канула в волну, приветливо выгнувшуюся ей навстречу. Идеальный конец был подпорчен тем, что она тут же, единым махом, инстинктивно вынырнула, вместо того чтобы под водой уступить снотворной апатии, как и рассчитывала, если дойдет до того, в последнюю свою ночь над морем. Глупышка не отработала технику самоубийства, что ежедневно проделывают, скажем, любители свободного полета в стихии иного свойства. Благодаря буйству волн и тому, что ее ослепляли и брызги, и тьма, и собственные щупальцепкие – ль, ц, е – волосы, она не различала огней корабля, мощно, со всей очевидностью удалявшегося многоглазой громадой в бездушном своем торжестве. Так, потерял следующую запись!
Вот она.
Небо было равно бездушно и черно, и тело ее, и голову, и в особенности окаянные, жадные до воды брючки, охватила путами Oceanus Nox[482]482
Океанская Ночь (греч. и лат.).
[Закрыть] – н, о, кс. С каждым гребком и всплеском холодной соленой воды подступала к горлу мерзкая, с анисовым привкусом, тошнота и все сильней нечет… ах ну пусть, пусть – коченеют шея и руки. Едва начала терять свой собственный след, подумалось: надо бы известить ряд редеющих Люсетт – сказать, чтоб передавали дальше и дальше в своем псевдохрустальном убывании, – что итог, именуемый смерть, всего-навсего более щедрый набор бесконечных дробей одиночества.
Перед нею не промелькнула, как мы опасались в ее случае, единым лучом вся ее жизнь; красная резиновая куколка преспокойно осталась гнить в незабудках у не подлежащего рассмотрению ручья; но она, неумелый Тобакофф, попадая в водоворот минутной паники и милосердного ступора, все же увидала кое-какие обрывки прошлого. Ей привиделась пара ночных шлепанцев с горностаевой оторочкой, не уложенных в чемодан забывчивой Брижитт; привиделся Ван, утирающий рот, прежде чем ответить, и все же, медля с ответом, кидающий салфетку на стол, когда оба они из-за него встают; и привиделась девочка с длинными черными волосами, которая, проходя мимо таксика в увядшем венке, быстро приседает и хлопает в ладоши.
Ярко блистающий огнями катер оторвался от не слишком далекого парохода, в нем среди спешивших спасателей Ван и тренер по плаванию и Тоби в дождевике с капюшоном; но уже столько моря прокатилось через нее, и Люсетт слишком устала, чтобы ждать. Потом ночь наполнилась стрекотом старенького, но все еще мощного геликоптера. В пытливом луче озарилась лишь темная голова Вана – вытолкнутого воздушной струей из катера в момент, когда тот метнулся от собственной внезапной тени, – голова подпрыгивает на волнах и выкрикивает имя утопшей средь черных, вспененных, сомкнувшихся волн.