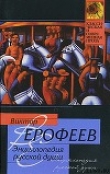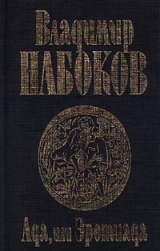
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)
После некоторого выведывания им удалось напасть на след фильма «Молодые и обреченные»{131} – повторно его показывали в маленьком кинотеатре, специализировавшемся на Ярких Вестернах (как прежде именовались эти барханы псевдоискусства). Вот во что выродились «Скверные дети» (1887) мадемуазель Ларивьер. У нее было – замок во Франции, двое подростков-близнецов подсыпают яду своей вдовствующей матушке, совратившей юного соседа, любовника сестрички. Автор сюжета многократно шла на уступки свободным нравам эпохи, а также пошлым фантазиям сценаристов; но, как и исполнительница главной роли, она полностью отреклась от того, что получилось в итоге многочисленных вторжений в сценарий и вылилось под конец в историю некого убийства в Аризоне, жертвой которого стал вдовец, собравшийся жениться на проститутке-алкоголичке, которую Марина, не без оснований, воплощать отказалась. Однако бедная Адочка схватилась за предложенную рольку, двухминутный эпизод в трактире (roadside tavern). Во время репетиций ей казалось, что она неплохо справляется с образом соблазнительной официантки – пока режиссер не заявил, что она нескладна, как «заторможенная вобла». Ада не решалась смотреть на конечный продукт и не горела желанием показывать его Вану, однако он напомнил, что тот же самый режиссер, Г.А. Вронский, некогда утверждал, что с ее внешностью Ада запросто сможет когда-нибудь стать дублершей Ленор Коллин, которая в свои двадцать была так же прелестно неуклюжа, и так же, проходя в кадре, гнула спину и втягивала голову в плечи. Отсидев рекламную короткометражку Я.В., они дождались-таки показа «Молодых и обреченных», но, увы, кадры с официанткой из эпизода в баре оказались вырезаны – хотя, как вежливо подметил Ван, совершенно явно просматривалась тень от Адиного локтя.
Назавтра в их маленькой гостиной с черным диваном в желтых подушках и непродуваемым эркером, новое стекло которого, казалось, увеличивает медленно, беспрерывно и отвесно падавший снег (совпадая с печатным изображением на обложке брошенного на подоконник последнего номера журнала «Франт & бабочка»), Ада пустилась в обсуждение своей «артистической карьеры». В душе Вана воротило от этой темы (по контрасту прежняя ее страсть к естествознанию отдавала ностальгическим очарованием). Ван считал, что слово писателя существует исключительно в своей умозрительной чистоте, в своей неповторимой притягательности для равно абстрактного склада ума. Оно принадлежит только своему создателю и не может быть произносимо или воплощаемо мимически (на чем настаивала Ада), потому что чужой ум нанесет смертельный удар художнику прямо на ложе его искусства. Рукописная пьеса по сути своей превосходит даже лучшую из ее постановок, пусть даже режиссером выступит сам автор. С другой стороны, Ван соглашался с Адой в том, что звучащий экран, безусловно, предпочтительней живого театрального зрелища по той простой причине, что в первом случае достигнутый режиссером высокий уровень совершенства не опустится, сколько б раз ни показывался фильм.
Ни Ван, ни Ада представить себе не могли разлуки, вызванной необходимостью ее профессионального присутствия «на натуре», и никто из них не мог возмечтать отправиться вдвоем в глазеющие места и вместе жить в То-Ли-В-Вуде, США, То-Ли-В-Делле, Англия, или в сахарно-белом «Конриц-Отеле» в Каире. По правде говоря, они иной себе жизни не представляли, кроме этой нынешней tableau vivant[419]419
Здесь: зримой (живой картины) – (фр.).
[Закрыть] под милым сизо-голубым манхэттенским небом.
В четырнадцать лет Ада свято верила, что сделается кинозвездой и, стремительно ворвавшись в звездный чертог, изойдет радужными слезами триумфа. Она училась в театральных школах. Неудачливые, но талантливые актрисы, а также Стан Славски (не родственник и имя не сценическое) давали ей частные уроки драматического искусства, отчаяния, надежды. Адин дебют вылился в маленький, незаметный провал; последующие роли встречали похвалу лишь близких друзей.
– Первая любовь, – говорила Ада Вану, – это когда тебе впервые стоя аплодирует весь зал, вот что рождает великих артистов, так твердил мне Стан со своей подругой, игравшей роль Треугольной Блестки в «Летучих кольцах»{132}. Настоящее признание может прийти только с последним венком.
– Bosh[420]420
Чушь (англ.) – упрощенным транслитерированием передает голландское Bosch: «Босх».
[Закрыть]! – отозвался Ван.
– Вот-вот – ведь и Босха освистывали прикупленные святоши во всяких амстердамах прежних времен, а теперь, спустя триста лет, посмотри, любой сопляк из всяких «поп-групп» норовит под него подделаться! Я по-прежнему считаю, что у меня есть талант, хотя, возможно, путаю точный подход с талантом, которому совершенно наплевать на установки, почерпнутые из искусства прошлого.
– Что ж, по крайней мере ты это чувствуешь, – сказал Ван. – Ты уже пространно высказывалась об этом в одном из своих писем.
– По-моему, я всегда считала, ну, что актерская игра должна замыкаться не на «характере», или на «типе» чего-то там, или на фокусах-покусах общественной темы, а исключительно на субъективном и уникальном поэтическом мастерстве автора, ведь драматурги, как свидетельствуют величайшие из них, ближе к поэтам, чем прозаики. В «реальной» жизни мы – производные случая в абсолютном вакууме – если, конечно, сами не являемся художниками; но в хорошей пьесе мне кажется, что это меня написали, кажется, что это я прошла через цензоров, мне покойно, передо мной лишь живая чернота зала (вместо нашего Четырехстенного Времени), меня обнимают руки огорошенного Уилла (он решил, что я – это ты) или же куда более нормального Антона Павловича, который всегда питал страсть с длинным темным волосам.
– Об этом ты тоже как-то мне писала.
Случилось так, что начало Адиной известности, пришедшееся на 1891 год, совпало с концом двадцатипятилетней актерской карьеры ее матери. Более того, обе сыграли в чеховских «Четырех сестрах». Ада сыграла Ирину на скромной сцене Театральной Академии в Якиме в несколько сокращенном сценическом варианте пьесы, где, например, лишь упоминалась сестра Варвара, эта словоохотливая оригиналка («odd female», по выражению Марины), хотя сцены с ее участием были выкинуты и потому пьесу стоило бы назвать «Три сестры», как ее и в самом деле окрестили остороумцы из местной прессы. Марина же исполнила роль (несколько раздавшуюся) этой самой монашки в причудливой киноверсии пьесы; и фильм, и Марина были вознаграждены основательной порцией незаслуженных похвал.
– С самого начала, едва я заболела сценой, – сказала Ада (мы приводим собственные ее пометки), – меня коробило от Марининой посредственности, аи dire de la critique[421]421
Подтверждаемой критикой (фр).
[Закрыть], которая либо игнорировала ее, либо валила ее в братскую могилу с прочими «сносными исполнителями»; ну а если роль оказывалась достаточно велика, игра Марины оценивалась в диапазоне от «невпечатляющей» до «проникновенной» (последнее – за всю ее сценическую жизнь наивысшая похвала ее талантам). И вот в самый уязвимый момент моей карьеры она, нате вам, множит и распространяет по друзьям и недоброжелателям всякие провоцирующие отзывы, типа: «Дурманова восхитительна в роли психопатки-монахини, она сумела развить, по сути, статическую и эпизодическую роль до et cetera, et cetera, et cetera». В кино, разумеется, проблема языка отсутствует, – продолжала Ада (тут Ван скорее сглотнул, чем подавил зевок). – Ни Марине, ни еще трем исполнителям мужских ролей не потребовался тот первоклассный дубляж, к которому прибегли в отношении остальных участников труппы, не знавших иностранного; а в нашей злополучной якимской постановке оказалось всего-навсего двое русских – протеже Стана Альт-шулер, исполнявший роль барона Николая Львовича Тузен-бах-Кроне-Альтшауэра, да я в роли Ирины, la pauvre et noble enfant[422]422
Маленькой нищей дворяночки (фр.).
[Закрыть], которая в одном акте работает телефонисткой, в другом секретаршей городской управы, а под конец школьной учительницей. Все остальное – сущая окрошка из разных акцентов – английского, французского, итальянского, – кстати, как по-итальянски «окно»?
– Finestra, сестра! – выдохнул Ван голосом очумелого суфлера.
– «Ирина (рыдая): Куда? Куда все ушло? Где оно? О Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла… У меня перепуталось в голове… Я не помню, как по-итальянски потолок или вот окно…»
– Нет, в тексте сначала «окно»!{133} – поправил Ван. – Ведь сперва она оглядывается, потом смотрит вверх; так по логике мысли.
– Ах да, конечно; задержавшись на «окне», она поднимает взгляд и видит столь же неопределимый «потолок». Да я наверняка это и играла в твоем психологическом ключе, но что с того, что с того? – спектакль был преотвратный, барон мой на каждой реплике путал текст – а вот Марина, Марина была восхитительна в своем царстве теней! «Да-а-вно уж, десять с лишком лет, как я из Москвы уехала» – Теперь Ада перевоплотилась в Варвару, копируя монаший «singsongy devotional tone» (певучий тон богомолки, помеченный Чеховым и с таким досадным успехом переданный Мариной). – «Нынче Старую Басманную, где ты (Ирине) родилась годков (yearkins) двадцать тому, в Басмэн-Роуд переименовали, всё мастерские, гаражи по сторонам (Ирина еле сдерживает слезы.) Так надо ли тебе, Аринушка, туда возвращаться? (Вместо ответа Ирина всхлипывает.)» Естественно, как всякий мастер, мама, благослови ее Господь, живо импровизировала. Кроме того, ее голос – по-юному звонко передающий русскую речь – вытеснил слащаво-провинциальный говорок Леноры.
Ван видел фильм, и он ему понравился. Юная ирландка Ленор Коллин, до бесконечности утонченная в своей меланхолии —
– до боли походила на Аду Ардис, запечатленную вместе с матерью на фото из вестника кино «Белладонна», присланном ему Грегом Ласкиным, решившим, что Вану приятно будет увидеть этот снимок, где тетушка с кузиной застигнуты на фоне калифорнийского патио перед самым завершением съемок. Варвара, старшая дочь покойного генерала Сергея Прозорова, в первом акте заявляется из своего удаленного монастыря Цицикар в захолустный городок Перма (иначе Пермуэйл) на берегу Акимск-залива, что в Северной Канадии, почаевничать с Ольгой, Маршей и Ириной по случаю именин последней. К великому возмущению монахини все три ее сестры только и мечтают, что покинуть холодный, промозглый, кишащий комарами, хотя по-своему милый и безмятежный «Перманент», как насмешливо окрестила его Ирина, прельстившись светской жизнью далекой, погрязшей в разврате Москвы, расположенной в штате Айд., бывшей столицы Эстотиландии. В первом варианте своей пьесы, которой при всех потугах не удалось-таки обрести легкое дыхание шедевра, Tchechoff (именно так автор писал свою фамилию, когда жил в Ницце, в мерзейшем Пансион-Рюс, по улице Гуно, 9) избавился от ненужных ему сведений, громадных глыб воспоминаний и дат, начинив ими нелепейшую начальную, всего на дне странички, сцену и взвалив тем самым непосильную ношу на хрупкие плечи трех несчастных эстотиек.{134} Позже он рассредоточил все эти сведения в другой, значительно более длинной сцене, где приезд монашки Варвары провоцирует все монологи, необходимые для удовлетворения неуемного любопытства публики. Это было исполнено рукою мастера, однако, к несчастью (как то нередко случается, если искусственно вводишь нового героя), монашка прижилась, и только в третьем, предпоследнем, действии смог автор спровадить ее обратно в монастырь.
– Полагаю, – сказал Ван (зная свою возлюбленную), – что советы от Марины в отношении твоей Ирины тебе были ни к чему?
– Ни к чему, кроме скандала, это не привело. Я никогда не воспринимала ее замечаний, так как делались они неизменно в саркастическом, обидном тоне. Говорят, пернатые мамаши, как припадочные, исходят злобным ехидным щебетанием, если их poor little tailless ones (бесхвостые беднячки) не способны быстро выучиться летать. Такого я вдоволь натерпелась. Кстати, вот программка моего фиаско.
Ван проглядел список исполнителей и перемещенных лиц и подметил два забавных обстоятельства: исполнителем роли офицера-артиллериста Федотика (вся комедийная суть которой состояла в постоянном щелканье фотоаппаратом) был обозначен «Ким (сокр. от Яким) Эскимософф», а некто «Джон Старлинг» играл Скворцова (секунданта в довольно топорно исполненной дуэли из последнего акта), при том, что «скворец» по-английски starling. Едва Ван поделился своим последним наблюдением с Адой, как у той непотребно по-старосветски вспыхнули щеки.
– Ну да, – сказала она, – был такой смазливенький парнишка, и я с ним вроде бы заигрывала, но перегруженность и раздвоенность оказались для него непосильны – его с отрочества держал при себе puerulus[424]424
Здесь: мальчиком для утех (лат.).
[Закрыть] жирняга балетмейстер Дэнглилиф{135}, так что под конец он наложил на себя руки. Видишь («теперь румянец на щеках сменила матовая бледность»), нисколько я не скрываю того, что рифмуется с Пермой.
– Ясно. А Яким…
– О, этот не обсуждается!
– Я не про то; этот Яким по крайней мере не щелкал, как тот, который с ним в рифму, твоего братца в момент сплетаний с любимой. В исполнении Зары де Лэр.
– Не убеждена. Наш режиссер, помнится, был не прочь подпустить комизма для разнообразия.
– Зара en robe rose et verte[425]425
В одеждах розово-зеленых (фр.).{254}
[Закрыть] в конце первого действия?
– По-моему, обошлось щелчком фотоаппарата в кулисах, буйным весельем в доме. Всего-то бедняге Старлингу и досталось по роли, что выкрик за сценой из лодки с Камы-реки, знак моему жениху явиться на место дуэли.
Сместимся, однако, к дидактической метафоричности графа Толстого, приятеля Чехова.
Всем знакомы старые гардеробы старых гостиниц приальпийской зоны Старого Света. Сперва открываешь такой медленно-медленно, с чрезвычайной осторожностью, в тщетной надежде приглушить мучительный скрип, истошный стон, издаваемый дверцей на полпути. Вскоре, однако, обнаруживаешь, что, если открывать или закрывать ее не раздумывая, одним решительным рывком, адские петли от неожиданности немеют, чем и достигается торжествующая тишина. При всем мощно охватившем и переполнявшем их неземном блаженстве (под этим мы вовсе не понимаем лишь резь розы Эроса), Ван с Адой догадывались, что отдельные воспоминания приоткрывать вовсе не следует, иначе они дико взвоют, взвинчивая каждый нерв души. Хотя если вскрытие проделать стремительно, если саднящее зло поминать меж двух спешных насмешек, есть шанс, что анестезирующее воздействие самой жизни сумеет пригасить негасимую агонию в момент распахивания дверцы.
Ада, то и дело высмеивая его сексуальные шалости, в целом предпочитала закрывать на них глаза, тем самым как бы тонко намекая, что и взамен требует подобной снисходительности к своим маленьким слабостям. Ван отличался большей, чем она, любознательностью, хотя от нее самой добиться ему удалось не больше, чем понять из ее писем. Своим бывшим воздыхателям Ада оставляла все те свойства и недостатки, которые нам уж хорошо известны: неспособность показать себя, убожество и ничтожность, – а себе самой ничего, кроме живого женского сострадания и некоторых доводов из области санитарии и гигиены, уязвлявших Вана даже сильней, чем открытое признание в сокрушительной измене. Ада решила быть выше его и своих чувственных прегрешений: само «чувственных» сделалось у нее почти аналогом «бесчувственных», «бездушных»; потому и не было ему места в невыразимом грядущем, в которое тайно и робко верили оба наших юных героя. Попытавшись следовать той же логике, Ван все же не смог забыть стыд и муку даже в момент наивысшего счастья, какого не познал и в свой самый сладкий миг, предваривший самый горький в прошлой его жизни.
10Они предприняли столько всяких предосторожностей – совершенно напрасных, так как ничего уже не может изменить конца (написанного и подшитого в общую кипу) этой главы. Только Люсетт да агентство, отсылавшее Вану и Аде корреспонденцию, знали его адрес. У любезной дамы, служащей Демонова банка, Ван доподлинно узнал, что до 30 марта отец в Манхэттене не объявится. Вместе с Адой они никогда не выходили и не возвращались домой, уславливаясь встретиться где-нибудь в библиотеке или торговом центре, откуда и начинали свой дневной маршрут, – и надо же было случиться, что, единственный раз отступив от правил (Ада на пару панических минут задержалась в застрявшем лифте, а Ван беспечно спустился с их совместных облаков по лестнице), оба попали в поле зрения престарелой миссис Эрфор, которая как раз в это время проходила мимо подъезда со своим крохотным золотисто-серым длинношерстным йоркширским терьером. Опознание ею обоих было мгновенным и полным: старушке давным-давно уж были известны оба семейства, и теперь она с интересом узнавала из уст скорее стрекотавшей (нежели щебетавшей) Ады, что как раз когда она (Ада) вернулась с Запада, в городе случайно оказался и Ван; что Марина здорова; что Демон сейчас то ли в Мехико, то ли в Ехмико; что у Ленор Коллин точно такой же прелестный пёсик с точно таким же восхитительным проборчиком на спинке. В тот же день (а именно 3 февраля 1893 г.) Ван сунул очередную взятку уже подкупленному привратнику, чтоб тот на любые расспросы любого посетителя, в особенности вдовы дантиста с собачонкой гусеничного вида, о любом из Винов, отвечал кратко, мол, ничего не ведомо. Единственным персонажем, оставленным без внимания, оказался старый прохвост, обычно изображаемый как в виде скелета, так и ангела.
Ванов папаша, едва посетив один Сантьяго, направился поглазеть на последствия землетрясения в другой, как вдруг получил из Ладорской больницы каблограмму, что Дэн при смерти. Демон тотчас, горя очами, свистя крылами, устремился в Манхэттен. Не так уж много было в его жизни волнующего.
В аэропорту залитого призрачным лунным светом городка на севере Флориды (именуемого нами Тент, а Тобаковскими моряками, его воздвигшими, Палатка), где, по причине неисправности двигателя, предстояло пересесть в другой самолет, Демон позвонил по междугородней и получил подробное заключение о Дэновой смерти от неумеренно обстоятельного д-ра Никулина (внука великого родентолога Куникулинова – никуда нам от травоядных не деться). Жизнь Дэниела Вина представляла собой смешение стандарта и гротеска; однако смерть выявила в нем определенный артистизм, отразив (как мгновенно ощутил кузен, а не лечащий врач) позднюю страсть усопшего к полотнам, а также подделкам, связанным с именем Иеронима Босха.
На следующий день, 5 февраля, примерно в девять утра по манхэттенскому (зимнему) времени, направляясь к адвокату Дэна, Демон узрел – как раз собравшись перейти Алексис-авеню – давнюю, но несущественную знакомую, миссис Эрфор, шедшую по этой стороне улицы навстречу со своим тойтерьером. Демон без колебаний ступил на мостовую и, не имея шляпы для приветствия (шляпу с плащом носить было не принято, вдобавок он только что принял весьма экзотическую пилюлю сильного действия, дабы пережить этот трудный день, учитывая перелет и бессонную ночь), довольствовался взмахом сложенного зонта, пришедшегося весьма кстати; полоснуло яркое радостное воспоминание об одной из девчонок, пользовавшей ее покойного муженька, и Демон, удаляясь от миссис R-4, благополучно пересек улицу перед лениво цокавшей копытами, тянущей тележку зеленщика кобылой. Но как раз на случай такого поворота дел Судьба уготовила иной путь развития. Проносясь (или, учитывая воздействие таблетки, проплывая) мимо «Монако», где нередко обедал, Демон внезапно подумал, что, возможно, сын («контактировать» с которым никак не удавалось) по-прежнему обитает в пентхаусе этого красивого здания с серенькой Кордулой де Прэ. Демон ни разу там не был. Или был? Советовался с Ваном по какому-то делу? Сидели на залитой солнцем террасе? Туманил мозги алкоголь? (Был, это точно, и Кордула не такая уж серая, да ее тогда и не оказалось.)
С незатейливой и, соответственно выражаясь, незамутненной мыслью, что в конце-то концов другого неба у нас нет (белое, в многоцветье мельчайших пляшущих в глазах искорках), Демон рванулся в вестибюль и успел вскочить в лифт вслед за рыжим официантом, везущим на сервировочном столике завтрак для двух персон и с «Манхэттен Таймс» среди сияющих, едва заметно поцарапанных серебряных полусфер. Демон машинально поинтересовался, по-прежнему ли его сын здесь живет, выкладывая поверх куполов образчик металла подороже.
– Si![426]426
Да! (ит. и исп.)
[Закрыть] – осклабился рыжий дебил, – всю зиму живет тут со своей дамочкой.
– Тогда нам по пути, – заметил Демон, вдыхая со сладостным предвкушением аромат монакского кофе, усиленный наплывами тропической травки в порывах витающего в мозгу ветерка.
В это достопамятное утро Ван, заказав принести завтрак, выбрался из ванны, запахнулся в махровый халат цвета спелой клубники, как вдруг ему послышался голос Валерио из соседней гостиной. Туда он и прошлепал, мурлыча под нос что-то неопределенное, в предвкушении нового, полного неизбывным счастьем дня (который сгладит еще один мучительно острый краешек, выправит еще один свежий выверт в прошлое, так что все теперь воссияет по-иному).
Демон, весь в черном обличье, в черных гетрах, в черном кашне, монокль на черном, шире обычного, шнурке, сидел за столиком, с чашкой кофе в одной руке и аккуратно вывернутой финансовыми новостями наружу «Таймc» в другой.
Еле заметно вздрогнув, он несколько судорожно поставил на столик чашку, приметив общность колорита с памятным фрагментом в ярком нижнем левом углу картины, воспроизведенной щедро иллюстрированным каталогом его быстродействующей памяти.
Ван брякнул первое, что пришло на ум: «я не один» (je ne suis pas seul), однако Демон был так поглощен принесенным с собой скорбным известием, что и внимания не обратил на идиота, который вместо того чтобы выйти в другую комнату и через минуту вернуться (заперев за собой дверь – наглухо замкнув годы и годы потерянной жизни), продолжал столбом стоять рядом с сидящим в кресле отцом.
По словам Бес (что по-русски – враг рода человеческого), пышнотелой, но местами малоприятной сиделки Дэна, которую он, предпочтя остальным, взял в Ардис, поскольку той удавалось орально выжать пару последних капель «плей-зироу»[427]427
«Play zero» (англ.) – «ставить на ноль», созвучно «плезир», от фр. «plaisir» – удовольствие.
[Закрыть] (по выражению старой шлюхи) из его немощной плоти, некоторое время Дэн сетовал, еще и до внезапного отъезда Ады, что дьявол, с виду помесь лягушки с крысой, норовит оседлать его, чтобы въехать на нем в вечную обитель мук. Доктору Никулину Дэн описывал своего ездока в виде черного существа с белым брюшком, с черным щитком сверху, сияющим, как панцирь навозного жука, и с ножом в воздетой передней конечности. Однажды утром в конце января, в сильный мороз, Дэну каким-то образом удалось лабиринтами подвала, через кладовку, сбежать из дома и скрыться в бурых зарослях Ардиса; он был гол, не считая красного банного полотенца, попонкой прикрывавшего его чресла, и, несмотря на трудности пути, полз на четвереньках, осев, точно боевой конь под тяжестью невидимого седока, забираясь все глубже и глубже в дебри. С другой стороны, дернись Ван как-то предупредить ее и распахни он эту прочную, защитную дверь – Ада вполне могла встретить его появление, широко открыв на свой манер рот, какой-нибудь непростительной нежностью.
– Настоятельно прошу Вас, сэр, – сказал Ван, – спуститься вниз, я найду вас в баре, как только приведу себя в порядок. Мне здесь не совсем удобно.
– Брось, брось! – фыркнул Демон, роняя и водружая на место монокль. – Кордула свой человек!
– Это не Кордула, это гораздо более чувствительная натура. (Господи, еще один ужасный ляп!) Какая, к черту, Кордула! Кордула теперь миссис Тобак!
– Ах, ну как же! – вскричал Демон. – Совсем из головы вон! Мне же Адин жених рассказывал – он вместе с молодым Тобаком работал одно время в банке «Феникс». Ну конечно! Широкоплечий, голубоглазый красавец блондин. Преуспевающий Тобакович!
– Да шут с ним, – процедил сквозь зубы Ван, – пусть он хоть скрюченная, раскоряченная выцветшая жаба! Право, папа, мне действительно надо…
– Странно от тебя такое слышать! Я зашел всего лишь, чтоб сказать, что кузен Дэн почил странной смертью в духе Босха. Вообразил, будто фантастический грызун-наездник увлек его из дома.{136} Его обнаружили слишком поздно, он испустил дух в Никулинской клинике, все бредил этим фрагментом картины. Мне еще, черт побери, столько суетиться, собирать родственников. Картина теперь хранится в Венской академии искусств.
– Прости, отец… как мне втолковать тебе…
– Если б я умел писать, – задумчиво произнес Демон, – я бы описал, и, несомненно, не пожалел бы слов, как страстно, как пламенно, как кровосмесительно – c'est le mot[428]428
Вот оно, слово (фр.).
[Закрыть] – искусство с наукой соединяются в насекомом ли, в птице ли дрозде, в чертополохе ли средь герцогского подстриженного боскета. Ада выходит замуж за любителя природы, но ум у нее как недоступный музей, вот однажды она, а также лапочка Люсетт, привлекли мое внимание, в силу одного гадкого совпадения, к определенным фрагментам иного триптиха, там тот бездонный сад лукавых забав, год эдак 1500, – а именно к бабочкам в том саду – самке лугового мотылька в центре правой части триптиха и черепаховидной нимфалиде в средней, изображенной как бы сидящей на цветке – отметь это «как бы», ибо оно отражает безукоризненные познания двух наших восхитительных девочек, утверждавших, что бабочка-то показана не той стороной; если бабочка, как мы видим на картине, сидит боком, то она к нам повернута изнанкой крыльев, а Босх, вероятно, подхватив пару крылышек в оконной паутине, предпочел более яркую наружную сторону и бабочку изобразил сложенной неверно. А мне, признаться, наплевать на осведомленность избранных, на раздувание страстей вокруг бабочки, на ревнителя шедевров, требующего чтоб Босх, как воск, отражал слепок времени; у меня аллергия на аллегории, и я убежден, что его не более чем забавляло скрещивание случайных фантазий, куда увлекали его причуды линии и цвета, и что изучать следует, как я и убеждал кузин твоих, именно радость зрительного восприятия, плоть и вкус женщины-клубничины, которую обнимаешь вместе с ним, или невыразимый восторг при виде неожиданно отверстой щели… да ты не слушаешь меня, хочешь, чтоб я убрался, и тогда ты, счастливчик, скотина такая, поспешишь прервать ее прелестный сон! À propos[429]429
Кстати (фр.).
[Закрыть], я не сумел предупредить Люсетт, она где-то в Италии, но умудрился напасть на след Марины в Цицикаре{137} – флиртовала там с архиереем Белоконским, – она приедет к вечеру, уже облаченная, будь уверен, в pleureuses[430]430
Вдовий траур (фр.).
[Закрыть], который будет весьма ей к лицу, и тогда мы à trois[431]431
Втроем (фр.).
[Закрыть] отправимся в Ладору, ведь, не думаю…
Не под воздействием ли он какого сильнодействующего чилийского снадобья? Прямо неукротимый фонтан, безумный разброс, брызжущая палитра…
– …да нет же, не думаю что надо беспокоить Аду в ее Агавии… Он – этот самый Виноземский – отпрыск – от-прыск кого-то из тех самых великих варягов, которые завоевали то ли медных татар, то ли красных монголов – или как их там, – которые еще раньше завоевали бронзовых всадников, – до того, как мы в счастливый миг истории западных казино предложили им свою русскую рулетку и ирландскую «мушку».
– Я бесконечно, я чудовищно огорчен кончиной дядюшки Дэна и вашим крайним, сэр, возбуждением, – сказал Ван, – но кофе моей дамы стынет, не потащусь же я, в самом деле, в спальню со всем этим гнетущим имуществом.
– Ухожу, ухожу! Кстати, мы не виделись – с каких пор, с августа? Надеюсь, эта, во всяком случае, попривлекательней Кордулы, что была у тебя до, мой ветреный мальчик?
Так это ветрилия? А, может, драконикум? Ван явственно уловил запах эфира. Уйди, прошу тебя, прошу тебя, прошу!
– А перчатки? Плащ? Спасибо. Можно заскочить в твой ватерклозет? Нет? Ну что ж. Заскочу где-нибудь еще. Постарайся приехать ко мне как можно скорей, вместе встретим около четырех в аэропорту Марину и затем мигом на похороны и…
И в этот момент вошла Ада. Не голышом – о нет; в розовом пеньюаре, чтоб не шокировать Валерио, – прелестная со сна, уютно проходясь щеткой по волосам. И сплоховала: вскрикнула «Боже мой!» и метнулась назад в сумрак спальни. Не отзвенела и секунда, как все было кончено.
– …или уж – приезжайте тотчас и оба, я отменю назначенную встречу и немедленно отправляюсь домой!
Сказал Демон или решил, что сказал, с хладнокровием и ясностью мышления, которые повергают в транс дубоватых и нагловатых, болтливого маклера и провинившегося школьника. В особенности в момент – когда все катится псу под хвост, к чертям собачьим Йеруна Антнисзона ван Акена{138} вместе с molti aspetti affascinati[432]432
Множеством чарующих моментов (ит.).
[Закрыть] его enigmatica arte[433]433
Загадочного искусства (ит.).
[Закрыть], как пояснил Дэн, издавая последний вздох, доктору Никулину и сиделке Беллабестии («Бесс»), которой завещал полный чемодан музейных каталогов и побывавший разок в употреблении катетер.