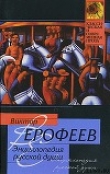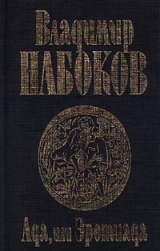
Текст книги "Ада, или Эротиада"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Уже знакомым жестом порвав заготовленную речь, Ван произнес:
– Мистер Рак, откройте глаза! Меня зовут Ван Вин. Я пришел к вам.
Мгновение восковая, с впалыми щеками, вытянутая физиономия с мясистым носом и круглым подбородочком оставалась недвижима; однако прекрасные, янтарные, подернутые влагой, выразительные глаза с трогательно длинными ресницами открылись. Затем вокруг губ затеплилась слабая улыбка, больной протянул руку, не отрывая головы от прикрытой клеенкой подушки (отчего клеенкой?).
Ван из своего кресла потянулся к нему концом палки, слабая рука схватилась за наконечник, учтиво сжав пальцами, восприняв жест как средство дружеской помощи.
– Нет-нет, я пока и двух шагов сделать не в силах! – вполне отчетливо произнес Рак с немецким акцентом, который, возможно, заполнял самые долговечные из разрушаемых клеток.
Ван убрал ненужное свое оружие. Чтоб сдержаться, стукнул палкой о подножку своего кресла. Дорофей поднял от газеты глаза и снова вернулся к крайне заинтересовавшей его статье «Умница свинка» (из воспоминаний дрессировщика) или же – «Крымская война: татарские партизаны помогают китайским войскам». Одновременно тщедушная сестричка выглянула из-за дальней ширмы и снова скрылась.
Может, попросит что-то передать? Отказаться? Согласиться – и не передавать?
– Скажите, отбыли они уже всем семейством в Голливуд? Прошу вас, барон фон Вин!
– Не знаю, – ответил Ван. – Должно быть. Право же, я…
– Видите ли, я послал свою мелодию для флейты вместе с письмом всему семейству, но ответа не пришло. Меня сейчас стошнит. Я сам нажму звонок.
Тщедушная сестричка в белых туфлях на чрезвычайно высоких каблуках загородила ширмой кровать Рака, отторгнув его от подавленного, легко раненного, с наложенными швами, гладковыбритого юного денди; какового, развернув, увез прочь заботливый Дорофей.
Вернувшись в свою светлую, проветренную палату, где за полуприкрытым окном чередовались дождь и солнце, Ван, ступая на шатких пока ногах, подошел к зеркалу, приветливо себе улыбнулся и без помощи Дорофея сам прошел к кровати. В дверь скользнула Татьяна, спросила, не желает ли чаю.
– Любезная моя! – сказал Ван. – Тебя я желаю! Взгляни, с какой мощью воспряла моя цитадель!
– Знали бы вы, – бросила она через плечо, – сколько раз похотливые больные этак же меня оскорбляли!
Он написал короткую записку Кордуле, сообщив, что с ним стряслась маленькая неприятность и что лежит он в Калугано, в палате для свергнутых правителей, в больнице «Озерные виды», и что к ее ногам готов припасть во вторник. Он написал еще более краткое послание Марине по-французски, выражая благодарность за летнее гостеприимство. По размышлении решил отправить это письмо из Манхэттена на адрес лос-анджелесского «Пизанг[320]320
Pisang – банан (малайск.).
[Закрыть]-Палас» отеля. Третье письмо он адресовал Бернарду Раттнеру, самому близкому в Чузе приятелю, племяннику великого Раттнера. «Твой дядя самых честных правил, – в частности, писал Ван, – однако я собираюсь выступить с опровержением его идей».
В понедельник около полудня ему было разрешено посидеть в шезлонге на лужайке, которую он столько дней с жадностью созерцал из своего окна. Доктор Фитцбишоп, потирая руки, сообщил, что, по данным лужских лабораторных исследований, подобные «аретузоиды» не всегда имеют летальный исход, хотя теперь это уже ровно ничего не значит, так как несчастный учитель и сочинитель музыки не протянет на Демонии до утра, и к вечерне, ха-ха, в аккурат поспеет на Терру. Док Фитц был, по выражению русских, пошляк (pretentious vulgarian), и Ван в неявном протесте с облегчением почувствовал, что мучения Рака в нем лично злорадства не вызывают.
Высокая сосна бросала на Вана и на книгу тени. Он подхватил ее с полки: там стояли всякие медицинские справочники, зачитанные до дыр детективы, сборник рассказов Мопарнас «Алмазное ожерелье» и как раз этот вот странный «Журнал современной науки» с заковыристым эссе Рипли «Строение пространства». Ван сражался с его дурацкими формулами и диаграммами вот уж несколько дней и теперь понял, что никак не вникнуть в их суть до завтра, когда его выпустят из Приозерной больницы.
Жаркое пятно солнца доплыло него, и, отбросив в сторону красный журнал, Ван встал с кресла. По мере выздоровления образ Ады то и дело возникал в нем горькой и сладостной волной, готовой поглотить целиком. Повязки с него сняли; на обнаженном теле не осталось ничего, кроме специального, вроде жилета, одеяния из фланели; но и оно, плотное, облегающее, не предохраняло тело от отравленного острия Ардиса. Поместья-стрелы. Le Château de la Flèche, Плотского Поместья.
Он брел по лужайке, полосатой от теней, и ему было жарко в черной пижаме и темно-красном халате. Улица была скрыта от него каменной стеной, и лишь в глубине за распахнутыми воротами виднелся изгиб асфальтового шоссе, подводящего к главному входу длинного здания больницы. Ван уж было повернул обратно к своему креслу, как вдруг изящный бледно-серый четырехдверный седан въехал в ворота и остановился прямо перед ним. Дверца распахнулась, и не успел шофер, пожилой субъект в блузе и бриджах, подать руку, как Кордула уже, точно балерина, летела навстречу Вану. В неистовой радости он обнял ее, целуя жаркие розовые щечки, блуждая руками по ее мягкому, как у кошечки, телу в черном шелковом платье: какой аппетитный сюрприз!
Она летела без остановки из Манхэттена со скоростью сто километров в час, боясь, что его уже выпустили, хотя он писал, что это случится завтра.
– Идея! – воскликнул Ван. – Ты немедленно меня отсюда забираешь. Как я есть, прямо в таком виде.
– Чудно! – сказала она. – Поедем, поживешь у меня, я поселю тебя в восхитительной комнате для гостей.
Ну и молодчина она, эта маленькая Кордула де Прэ! И вот уж он сидел в машине рядом с ней, а машина пятилась задом к воротам. Две сестры милосердия бежали следом, размахивая руками, и шофер по-французски осведомился, не желает ли графиня, чтоб он остановился.
– Non, non, поп![321]321
Нет, нет, нет! (фр.)
[Закрыть] – выкрикнул Ван вне себя от радости, и машина газанула прочь.
– Мама позвонила из Малорукино (их сельское поместье в Мальбруке, в Майне), – прерывисто произнесла Кордула, – в местных газетах сообщалось, что ты дрался на дуэли. Вид у тебя здоровый, просто башня, я так рада! Как чувствовала, что-то произойдет, ведь малыш Рассел, внук доктора Платонова – помнишь? – видал из окошка, как ты на перроне смазал этого офицера по физиономии. Но прежде всего у меня для тебя, Ван, – нет, пожалуйста, он нас видит (no, please, he sees us) – ужасно дурные новости. Сын Фрейзеров, он только что вернулся из Ялты, сказал что Перси был убит через день после высадки, меньше чем через неделю, как они вылетели из аэропорта Гутзон. Он тебе сам все расскажет, с каждым днем происшедшее обрастает все новыми жуткими подробностями, как видно, Фрейзер не лучшим образом проявил себя в этой темной истории, потому, мне кажется, каждый раз себя выгораживает.
(Билл Фрейзер, сын судьи Фрейзера из Веллингтона, наблюдал конец лейтенанта де Прэ из спасительного рва, поросшего кизилом и мушмулой, но, разумеется, был бессилен чем-либо помочь командиру своего взвода и по целому ряду причин, которые подробнейшим образом изложил в своем рапорте и которые, однако, перечислять здесь было бы слишком утомительно и неловко. Перси был ранен в бедро во время стычки с хазарскими партизанами в овраге близ Чу-Фут-Калэ, произносимого американскими солдатами «Чафаткейл» и означавшего «крепость на скале». Перси тотчас со странным облегчением обреченного заверил себя, что отделался поверхностным ранением. От потери крови он потерял сознание, как и мы, увидав, что он начал ползти, вернее, вихлять по земле, чтоб укрыться под сенью дуба среди колючего кустарника, где его уже как ни в чем не бывало подстерегала другая беда. Когда через пару минут Перси – все еще граф Перси де Прэ – пришел в себя, то обнаружил, что он не один на грубом ложе средь травы и камней. Рядом с ним на корточках сидел, улыбаясь, старый татарин, в бешмете и американских джинсах – что было несуразно, но как-то успокаивало.
– Бедный, бедный (you poor, poor fellow), – приговаривала добрая душа, качая головой и причмокивая. – Больно (it hurts)?
Перси отвечал на своем столь же скудном русском, что рана ему кажется несерьезной.
– Карашо, карашо, не больно (good, good)! – подхватил добрый старик и, подняв оброненный Перси автоматический пистолет, рассматривал его с наивным восторгом, а потом выстрелил Перси в висок. (Интересно, а это интересно всегда, какие именно краткие, молниеносные миги запечатлеваются в сознании застреливаемого, сохраняясь как-то и где-то в необозримом хранилище последних микрофильмированных мыслей, фиксируя промежуток между двумя моментами: между, в данном случае, тем, как, открыв глаза, наш друг увидел перед собой улыбающуюся, всю в мелких морщинках, симпатичную физиономию как бы краснокожего индейца на фоне безоблачного, почти ладорского, неба, и затем ощущением того, как стальное дуло, с силой давя на нежную кожу, взрывает кость. Можно представить это себе в виде некой сюиты для флейты, последовательностью, скажем, таких «эпизодов», как: я жив – кто это? – не военный – сострадание – пить – дочь с кувшином – черт, это же мой пистолет – нет!..{96} et cetera или, скорее, без cetera… a в это время Билл-сломанная-рука в безумном страхе молит своего католического бога, чтоб татарин, сделав свое дело, убрался восвояси. Однако, конечно же, бесценным фрагментом в этом мысленном потоке мог бы оказаться – возможно, где-то рядышком с пери, несущей кувшин, – вспышкой, неясным очертанием, резкой болью – Ардис.)
– Как странно, как странно, – бормотал Ван, когда Кордула закончила свою более или менее связную версию рассказа, который после Ван услышит от Билла Фрейзера.
Какое странное совпадение! Либо попали в цель смертоносные стрелы Ады, либо он, Ван, сумел каким-то образом расправиться с двумя ненавистными ее любовниками при помощи дуэли с подставным лицом.
Странно было и то, что, слушая малютку Кордулу, он не испытывал почти никаких особых чувств, разве что некое равнодушное удивление. Человек с не слишком развитыми нежными чувствами, этот странный Ван, странный Демонов сын, в тот момент с гораздо большей готовностью насладился бы прелестями Кордулы – при первой же человеческой и человеколюбящей возможности, при первом же дьявольском или попутном сподвижничестве, – нежели стал оплакивать участь того, кого едва знал; и хотя в голубых глазах Кордулы раза два и блеснули слезы, Ван прекрасно знал, что с кузеном она не так-то часто общалась и, по правде говоря, даже его недолюбливала.
Кордула бросила Эдмону:
– Arrêtez près de…[322]322
Остановитесь у… (фр.)
[Закрыть], как его там, ах да, у «Альбиона», le[323]323
Артикль перед сущ. муж. рода (фр.).
[Закрыть] универмага pour messieurs[324]324
Для мужчин (фр.).
[Закрыть] в Луге! – И в ответ на возмущенные протесты Вана строго сказала: – Разве можно в пижаме возвращаться к цивилизованной жизни! Я куплю тебе кое-что из одежды, а Эдмон пока пропустит кружечку кофе.
Кордула купила Вану пару брюк и плащ. Он нетерпеливо ждал в оставленной на стоянке машине и потом, под предлогом, что надо переодеться, сказал, чтоб подбросила его куда-нибудь в укромное место, пока Эдмон, где он там, пропустит еще кружечку.
Едва лишь оказались в подходящем месте, Ван, усадив Кордулу к себе на колени, с большим удобством насладился ею, так звучно заходясь восторгом, чем польстил ей и растрогал ее.
– Ах, беспечная Кордула! – весело воскликнула беспечная Кордула, – надо полагать, предстоит очередной аборт – encore un petit enfantôme[325]325
Очередной инфантомчик – каламбур вокруг «enfant» (ребенок) – (фр.).
[Закрыть], как говаривала горничная бедной моей тетки всякий раз, как такое с ней приключалось. Я что-нибудь не так сказала?
– Все так! – сказал Ван, нежно ее целуя.
И они отправились обратно – к закусочной.
43Ван провел оздоровительный месяц в манхэттенской квартире Кордулы на Алексис-авеню. Она исправно, дважды, а то и трижды в неделю, посещала мать в Мальбрукском замке, но Ван не сопровождал ее ни туда, ни на шумные «сходки» в городе, которые она, это легкомысленное, падкое до развлечений создание, не пропускала; но от иных встреч все же решительно отказалась и намеренно избегала свиданий с последним своим любовником (модным психотехником, доктором Ф.С. Фрезером, кузеном удачливого товарища по оружию покойного П. де П.). Несколько раз Ван беседовал по дорофону с отцом (увлеченным фундаментальным исследованием мексиканских минеральных вод и специй) и выполнил в городе несколько его поручений. Ван часто водил Кордулу во французские рестораны, на английские фильмы и варяжские трагедии, все это доставляло ей огромное удовольствие, ее восхищал каждый кусочек, каждый глоток, каждая острота, каждое стенание, он же находил восхитительными ее бархатные, розовые щечки и чистую лазурь зрачка ее щедро подведенных глаз, которым густые, иссиня-черные, удлиненные и загибающиеся у наружного угла глаза ресницы придавали модное выражение, именуемое «шутовской косинкой».
Как-то в воскресенье, когда Кордула все еще нежилась в душистой ванне (этим прелестным, странным, непривычным зрелищем Ван наслаждался дважды в день), Ван «нагишом» (так его новая забавница-возлюбленная смягчала слово «голый») впервые после месячного воздержания попробовал походить на руках. Он решил, что вполне окреп, и посреди залитой солнцем террасы блаженно сделал мах, чтоб перевернуться в «первую позицию». И тут же упал на спину. Попробовал еще раз и немедленно потерял равновесие. Его охватил хоть и напрасный, но все же страх, будто левая рука стала короче правой, и Ван даже засомневался, сможет ли он теперь вообще плясать на руках. Кинг Уинг предостерегал, что, если месяца два-три не тренироваться, можно навсегда утратить этот редкий навык. В тот же день (с тех пор навсегда в его памяти остались неразрывны эти два небольших малоприятных инцидента) случилось так, что Ван подошел к «фону» и в трубке кто-то низким, глухим и, как ему показалось, мужским голосом позвал Кордулу, но выяснилось, что звонит какая-то старая школьная подруга, и Кордула, делая при этом Вану большие глаза, защебетала в трубку с наигранным восторгом, сочиняя по ходу всевозможные обстоятельства, препятствующие встрече.
– Отвратительная особа! – воскликнула Кордула после нежного «адье». – Ее зовут Ванда Брум, и я лишь недавно узнала про нее то, чего в школе никак не подозревала, – она самая настоящая tribalka[326]326
Лесбиянка (смесь лат. и русск.).
[Закрыть] – бедняжка Грейс Ласкина рассказала, что эта Ванда постоянно приставала к ней и к… еще к одной девочке. Тут есть Вандина фотография, – подхватила Кордула, мгновенно меняя тон и вытаскивая великолепный, в изящном переплете, альбом весеннего школьного выпуска 1887 года, который Ван видал в Ардисе, но не обратил внимания на девицу с угрюмой, насупленной физиономией, а теперь это не имело уж никакого значения, и Кордула быстренько сунула альбом обратно в ящик; и все же Ван очень хорошо запомнил среди россыпей более или менее плоских рукописных творений стилизацию Ады Вин в подражание строю абзацев и окончанию глав у Толстого; в его памяти четко возникло строгое ее лицо на фото, а под ним – весьма характерные для нее строки:
Теперь это все пустое, пустое. Растоптать и забыть! Но будет образ бабочки в парке, орхидеи в витрине магазина слепящей волной безнадежного отчаяния вновь возрождать все в душе.
Основным занятием Вана сделалось сидение в громадном, с гранитными колоннами, здании публичной библиотеки, этом прекрасном, внушительного вида, дворце неподалеку от уютной квартиры Кордулы. Невозможно удержаться, чтоб не сравнить с вынашиванием ребенка это странное томление, эти невыносимые приступы тошноты, сопровождающие непостижимый экстаз младого автора, поглощенного созданием первой своей книги. Ван достиг лишь стадии подведения к венцу; ему, углубляя эту метафору, еще предстоял спальный вагон и сумбур утраты девственности; затем веранда, и первые завтраки медового месяца, и первая оса. Кордула никак не подходила на роль музы поэта, но каждый вечер, когда он возвращался к ней в дом, его переполняли радостные отблески и отсветы осуществленных замыслов и ожидание ее ласк; с особенной сладостью он предвкушал вечера, когда ими устраивался изысканный ужин, доставляемый наверх из «Монако», отличного ресторана в нижних этажах многоэтажного здания, венчавшегося надстройкой с огромной террасой, где обитала Кордула. Милая непритязательность их незвучной совместной жизни согревала его куда большей надежностью, чем общение с вечно взвинченным и вспыльчивым отцом в моменты их нечастых встреч в городе или их предстоявшее двухнедельное совместное обитание в Париже перед началом очередного семестра в Чузе. Никакой иной беседы, кроме сплетен – легоньких сплетен, – Кордула не признавала, и это тоже ему подходило. Инстинктивно она очень скоро смекнула, что в разговоре ни в коем случае нельзя упоминать ни об Аде, ни об Ардисе. В свою очередь, Ван вполне мирился с очевидностью того, что Кордула не слишком в него влюблена. Так приятно было гладить ее кукольное, податливое, ладненькое, аппетитное тело, а неприкрытое восхищение Кордулы многообразием и неутомимостью его любовных игр действовало как бальзам на то, что осталось еще от грубой мужской гордости бедняги Вана. Между двумя поцелуями Кордула могла заснуть. Если же ему не спалось, как частенько теперь случалось, Ван шел в гостиную и усаживался там, делая выписки из любимых авторов, или же расхаживал взад-вперед по открытой террасе под меркнущими звездами, погруженный в одни и те же тяжкие думы, до тех пор, пока первый трамвай не возникал со звяканьем и визгом средь пробуждающейся необъятности города.
Когда в первых числах сентября Ван Вин выехал из Манхэттена в Лют, плод уже зрел в нем.
Часть вторая
1В зеркале с позолоченной рамой старомодного зала ожидания аэропорта Гутзон по шелковому цилиндру Ван определил отца, сидевшего в тонированном под мрамор кресле и полускрытого газетой, вывернутый кверх ногами заголовок которой гласил: «КРЫМ КАПИТУЛИРУЕТ». В этот самый момент к Вану обратился человек в плаще с приятной розовой, несколько поросячьего вида, физиономией. Он назвался представителем известного международного агентства, именуемого «СЛК», доставляющего Сугубо Личную Корреспонденцию. Оправившись от первого изумления, Ван отметил, что выбор недавней его возлюбленной Ады Вин как нельзя более благоразумно (во всех нюансах этого слова) остановился на виде доставки, престижная дороговизна которого могла гарантировать абсолютную конфиденциальность, способную устоять даже под пытками и гипнозом лихолетья образца 1859 года. По слухам, Гамалиил в своих (увы, уж не таких частых) заездах в Париж, король Виктор в его пока еще регулярных визитах на Кубу или Гекубу и, разумеется, вице-король Франции – здоровяк лорд Голь{97} в своих веселых рейдах по Канадии – даже они предпочитали действующую абсолютно исподтишка и, по сути, не без душка надежность службы СЛК тем официальным каналам, какими обычно пользуются сексуально озабоченные монархи, обманывая законных жен. Данный посланник назвался Джеймсом Джонсом{98}, именем стереотипным – решительное отсутствие иного толкования превращало его в идеальный псевдоним, если только имя не было настоящее. В зеркале встрепенулись, замахали, однако Ван счел разумным не спешить. Чтобы выиграть время (ибо, завидя Адин герб на протянутой карточке, понял, что придется решать, принять конверт или нет), он стал разглядывать похожий на червовый туз значок фирмы, который Дж. Дж. с понятной гордостью предъявил. Он предложил Вану вскрыть конверт, удостовериться в подлинности послания и расписаться в карточке, которая затем канула обратно в тайный карман или иное вместилище, скрытое в одежде или анатомии младого детектива. Нетерпеливые приветственные выкрики отца (обрядившегося ради полета во Францию в черный плащ, подбитый алым шелком) в конце концов заставили Вана прервать беседу с Джеймсом и сунуть в карман письмо (которое спустя несколько минут он прочел в туалете перед посадкой в самолет).
– Акции скакнули вверх! – сообщил Демон. – Победно завоевываем земли и прочее. Губернатор Америки, мой приятель Бессбородько, должен получить официальный пост в Бессарабии, а Армборо, губернатор Британии, будет править в Армении. Видел, как у автостоянки на тебе висла твоя графинька. Женишься на ней, лишу наследства. Такие нам в подметки не годятся.
– Через пару лет, – заметил Ван, – войду во владение собственными миллиончиками (имелось в виду наследство, оставленное ему Аквой). – Но вам, сэр, не стоит беспокоиться. Мы с ней расстались – пока, до очередного моего возвращения в ее гёрличью светлицу (канадийский жаргон).
Выставляясь своей прозорливостью, Демон требовал от Вана, чтоб признался, кто – сам он или его poule[328]328
Курочка (фр.).
[Закрыть] – угодил в историю с полицией (кивая в сторону Джима или Джона, который, не раздав еще всю корреспонденцию, сидел, просматривая статейку «Совокупление Бессармении с преступностью»).
– Poule, – ответил Ван односложно, с уклончивостью римского раввина, укрывающего Варавву.
– Почему в сером? – спросил Демон, кивая на Ванов сюртук. – К чему эта военная стрижка? Призываться уж поздно.
– Куда мне – призывная комиссия меня так или иначе завернет.
– Как рана?
– Komsi-komsa. По-моему, этот хирург из Калугано изрядно напортачил. Шов стал багров и мокнет без всякой причины, к тому же вспухло под мышкой. Придется еще прооперироваться – на сей раз в Лондоне, их мясники орудуют куда более ловко. Где тут у них местечко? Ах вот оно, вижу! Мило (на одной двери изображен корень горечавки, на другой – женский папоротник: что ж, освоим гербарий).
На ее письмо он не ответил, и недели через две Джон Джеймс, теперь в виде немецкого туриста – весь псевдотвидовый в клеточку, вручил Вану второе послание в Лувре, прямо у «Bâteau Ivre»[329]329
«Пьяного корабля» (фр).
[Закрыть] Босха, где шут пьет, пристроившись на вантах (бедный старина Дэн считал, что это полотно как-то связано с сатирической поэмой Бранта!{99}). Ответа не будет – хотя, и это бесхитростный посланник подчеркнул, стоимость отправки ответа, как и его обратный билет, входили в оплату услуги.
Шел снег, однако Джеймс, в порыве необъяснимого ухарства, обмахивался, как веером, третьим письмом на парадном крыльце Вановой cottage orné[330]330
Узорчатой (резной) дачки (фр.).
[Закрыть] на Ранта-Ривер близ Чуза, и Ван попросил его больше писем не приносить.
В последующие два года ему были вручены еще два письма, оба в Лондоне и оба в вестибюле отеля «Албания Палас», уже другим представителем СЛК, джентльменом в возрасте и в котелке, чей скорбно-бесцветный облик, по разумению тихого, предупредительного Джима, мог бы показаться мистеру Вану Вину предпочтительнее романской раскованности частного детектива. Шестое пришло обычным путем на Парк-Лейн. Содержание посланий (за исключением последнего, целиком посвященного Адиным успехам на сцене и на экране) приводится ниже. Ада даты игнорирует, однако их можно примерно установить.
[Лос-Анджелес, начало сентября, 1888 г.]
Ты должен извинить меня за весь этот шик, с которым письмо пошло (так по́шло), но более безопасного способа отправки я не придумала.
Когда я сказала, что говорить не могу, а напишу, это означало, что не могла так скоро подобрать нужных слов. Умоляю, прочти. Казалось тогда, никак не могу их отыскать и выговорить в нужном порядке. Умоляю, прочти. Казалось, одно неверное или неуместное слово, и все пропало, ты просто повернешься, как ты и сделал, и уйдешь – опять, опять, опять.
Умоляю, хотя бы вздох [sic! Ред.] понимания! Но теперь вижу, надо было тогда рискнуть и высказаться, пусть косноязычно, так как ясно теперь: излить в письме свою душу и все, что свято, также чудовищно трудно – возможно, еще трудней, ведь когда говоришь, есть и в невнятности смысл, можно и во внезапной дубовости языка – точно рот, как у подстреленного зайца, изуродован дробью, кровоточит, – найти оправдание и что-то исправить; а на белоснежном, даже на голубовато-снежном фоне этой почтовой бумаги все погрешности ярко-красны и непоправимы. Умоляю, прочти.
В одном я должна признаться раз и навсегда, и это непреложно. Я любила, люблю и буду любить только тебя. Взываю к тебе и люблю, родной мой, с неиссякаемой болью и страстью. Ты тут стоял (you stayed here), вот в этом караван-сарае, один ты в центре сущего, навечно, и мне было, должно быть, семь или восемь, разве не так?
[Лос-Анджелес, середина сентября, 1888 г.]
Вот и второй мой глас, вопиющий из ада (out of Hades). Странно, в один и тот же день и из трех независимых источников я узнала о твоей дуэли в К.; о кончине П.; и о том, что ты восстанавливаешь силы у его кузины («наше вам», как мы с нею некогда говаривали). Позвонила ей, но она сказала, что ты улетел в Париж и что Р. также скончался – с подачи собственной жены, не с твоей, как я было подумала. Практически ни он, ни П. не были мои любовники, но теперь оба они на Терре, и это уже значения не имеет.
[Лос-Анджелес, 1889 г.]
Мы живем по-прежнему в пизангово[331]331
От pisang – банан (малайск.); см.: часть первая, гл. 43.
[Закрыть]-розовой с желто-зеленым albergo[332]332
Гостинице (ит.).
[Закрыть], где ты однажды останавливался со своим отцом. Между прочим, он со мной ужасно любезен. Обожаю повсюду с ним ходить. Играли с ним в Неваде, городе, который со мной рифмуется, и еще ты есть в его названии, и легендарная река Старой Руси. Да! Напиши же мне, хоть маленькую записочку, я так стараюсь подластиться к тебе! Что ли еще предпринять несколько (отчаянных) попыток? Новый Маринин режиссер своим художественным видением определяет Бесконечность как самую дальнюю в объективе, но все еще четко фокусируемую точку. Марина получила роль глухой монашки Варвары (которая в чем-то самый интересный персонаж чеховских «Четырех сестер»). Верная заповеди Стана{100} о том, что образ раз от раза должен окунаться в повседневную действительность, Марина упорно работает над ролью в гостиничном ресторане, попивая чай вприкуску («biting sugar between sips») и прикидываясь, будто не смыслит ничего и ни в чем – в стиле Варвары с ее странной манерой корчить из себя дурочку, – эта двойная путаница раздражает непосвященных, я же при этом почему-то явственно ощущаю себя Марининой дочкой, причем гораздо сильней, чем в эпоху Ардиса. Вообще она тут имеет шумный успех. Ей поднесли (боюсь, не вполне безвозмездно) отдельное бунгало в Юниверсал-Сити, поименованное «Марина Дурманова». Что касается меня, то я всего лишь случайная официантка в захудалом вестерне, вертипопка и плюхательщица пива по столам, но меня даже забавляет атмосфера этого Уссэ: обязательность искусства, серпантин горных дорог, меняющие вид улицы и неизменная площадь посреди, и розово-лиловый корабль на резном деревянном фасаде, и в полдень выстраивающаяся к стеклянной будке очередь из одних статистов в допотопных тогах, только мне звонить некому.Впрочем, тут с Демоном как-то вечером смотрела поистине чудную орнитологическую фильму. Прежде мне было неведомо, что палеотропические птицы-нектарницы (полюбопытствуй в словаре) – «мимотипы» птичек колибри Нового Света, а все мои мысли, ах дорогой мой, мимотипы твоих! Я знаю, знаю! Знаю даже, что ты, дойдя до «неведомо», дальше читать не стал – верен себе.
[Калифорния? 1890 г.]
Я люблю только тебя, я счастлива только в мечтах о тебе, ты моя радость и моя вселенная, это так же осязаемо и реально, как чувствовать, что живешь, но… Ах нет, я не обвиняю тебя! – но, Ван, все-таки ты виноват (или виновата направлявшая тебя Судьба, ce gui revient au même[333]333
Что одно и то же (фр.).
[Закрыть]) в том, что пробудил во мне какое-то безумство, когда мы были всего лишь дети, страстное физическое желание, неутолимый зуд. Пламя, возбужденное трением твоих пальцев, оставило тлеющий след в самой ранимой, самой порочной, самой нежной сердцевине моего тела. Теперь за то, что ты ворошил слишком нетерпеливо, слишком жадно жаркие угли, приходится расплачиваться мне, так обуглившиеся головешки в ответе за сгоревшие поленья. Стоит мне лишиться твоих ласк, и я не в силах справиться с собой, для меня ничего не существует, кроме этого экстаза трения, неиссякающего ощущения твоего жала, твоего сладостного яда. Я не обвиняю тебя, но именно из-за тебя я так сильно подвластна и не могу противиться натиску чужого тела; потому-то наше общее прошлое и возбуждает рябь бесконечных измен. Ты волен назвать мою болезнь прогрессирующей эротоманией, что не исчерпывает сути, ведь существует простое средство от всех моих мук, чтоб превозмочь недуг, – оно из сока алого ариллуса, тиссовой плоти и высоты, и это все ты, ты! Je réalise[334]334
Осознаю (фр.).
[Закрыть], как выражалась твоя дражайшая Замарашка де Торф (ныне мадам Трофим Фартуков), что я стыдливая срамница. Но это все подводит к очень и очень важной мысли! Ван, je suis sur la verge[335]335
Я на грани (фр.).
[Закрыть] (снова Бланш!) отвратительного адюльтера. Ты мог бы немедля меня спасти. Найми самый быстрый, какой найдешь, летательный аппарат и лети прямо в Эль-Пасо, тебя там будет ждать, отчаянно маша рукой, твоя Ада, и оттуда мы отправимся, драгоценный мой, моя агония, в заказанном мною отдельном купе экспресса «Новый Свет» далеко, на дымящийся наконечник Патагонии, на мыс Горн генерала Гранта, на виллу Верна. Пошли мне аэрограммой одно лишь слово по-русски – обрыв моего имени и мыслей.
[Аризона, лето 1890 г.]
Не более чем жалость, присущая всякой русской девице, бросила меня в объятия к Р. (кого музыкальная критика считает «открытием»). Он был уверен, что умрет молодым и, по сути, всегда был ходячий труп, и ни разу, клянусь тебе, не оказался на высоте, даже когда я открыто и без сопротивления предлагала ему свое сострадание, ведь, увы, я, до краев переполняемая живым томлением по Вану, уже подумывала, не купить ли себе за деньги услуги какого-нибудь грубого (чем грубей, тем слаще) мужика. Что же до П., то могла бы объяснить свою уступчивость его губам (сперва нежным и невинным, потом все более жадным, уверенным и под конец вкушавшим меня, переходя к моим губам, – этот порочный круг заскользил в начале Таргелиона{101} 1888 года) его заявлением, что, если перестану с ним встречаться, он немедленно выдаст мой роман с кузеном моей матери. Договорился до того, что имеет свидетелей, и это сестрица твоей Бланш и еще мальчик конюх, который, подозреваю, переодетая младшая из трех мамзелей де Торфэ, а все они ведьмы, – но хватит об этом. Быть может, Ван, я преувеличиваю роль подобных угроз, чтоб объяснить тебе свое поведение. Не стоило бы мне, естественно, упоминать, что произносились они в шутливой манере, едва ли подходящей настоящему шантажисту. Не стоило мне также и упоминать, что даже если он преуспел в найме неизвестных соглядатаев и стукачей, все это привело бы к подрыву его собственной репутации, лишь только раскрылись бы его намерения и действия, что неминуемо произошло бы в конечном ходе [sic! «счете» поехавших петель на синем ее чулке. – Ред.]. Словом, я могла бы скрыть, что понимаю: эти вульгарные шутки предназначались лишь для того, чтоб пощекотать нервишки твоей впечатлительной Ады – потому что, невзирая на свою вульгарность, П. обладал обостренным чувством чести, хоть это и могло показаться нам с тобой странным. Я бы ограничилась только тем, какое воздействие эта угроза произвела на ту, которая готова была на любой позор из страха малейшей тени разоблачения, ведь (и этого ни он, ни его осведомители, конечно, знать никак не могли) каким бы шоком ни отозвалась в добропорядочном семействе любовная связь между двоюродным братом и сестрой, страшно вообразить (и это знаем только мы с тобой), как Марина с Демоном повели бы себя в «нашем» случае. По ухабам и заносам в моем синтаксисе ты поймешь, что логически объяснить свое поведение я не могу. Не отрицаю, я испытывала странный трепет во время опасных любовных свиданий, которые дарила ему, как будто его грубая страсть притягивала к себе не только мое любопытство, но и против воли – мой разум. Однако могу поклясться, Ада может торжественно поклясться, что во время наших «лесных встреч» до и после твоего возвращения в Ардис я счастливо избегала если не извержения, то исступления – за исключением одного неприятного случая, когда он, этот обезумевший мертвец, чуть не взял меня силой.
Пишу с ранчо «Марина» – неподалеку от того небольшого ущелья, где скончалась Аква, и в которое однажды, кажется, и я заползу. Теперь возвращаюсь на время в отель «Пизанг».
Приветствую прилежного слушателя!
Когда в 1940 году Ван извлек из сейфа в своем швейцарском банке тоненькую пачку из пяти писем, каждое в конвертике розовой папиросной бумаги «СЛК», он был изумлен, как их мало. Расползшееся прошлое, буйство неуемной памяти раздули их количество по крайней мере до полусотни. Ван вспомнил, что использовал в качестве тайника еще и письменный стол в своей студии на Парк-Лейн, однако там, он был уверен, хранилось только то невинное шестое письмо («Мечты о театре») 1891 года, которое сгинуло вместе с ее зашифрованными заметками (1884–1888 гг.) в 1919 г. при пожаре так и не восстановленного маленького палаццо. Молва приписывала сей яркий подвиг отцам города (трем бородатым старейшинам и ясноглазому молодчику мэру с невероятным количеством передних зубов), которые больше не могли сдержать страсти завладеть пространством, занимаемым крепким карликом меж двух алебастровых колоссов; ведь вместо того чтобы продать им, как ожидалось, запущенный пустырь, Ван насмешливо воздвиг там знаменитую Виллу Люсинда, миниатюрный музейчик всего в два этажа с постоянно пополняющейся коллекцией микрофильмированной живописи из всех государственных и частных галерей мира (не исключая и Татарии) – на первом этаже и с многочисленными, как соты, проекционными ячейками – на втором: такой вот аппетитненький крохотный мемориал из паросского мрамора, имевший внушительный штат, охраняемый тремя вооруженными до зубов молодцами и открытый для посещения только по понедельникам за символическую плату в один золотой доллар независимо от возраста или положения.