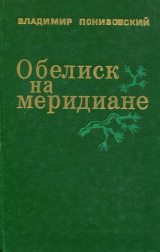
Текст книги "Обелиск на меридиане"
Автор книги: Владимир Понизовский
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
Загрохотала якорная цепь.
«Пассажирам занять свои места в каютах, подготовить документы и багаж к пограничному контролю и таможенному досмотру!» – вычеканил металлический голос. И то же самое – по-английски, по-китайски, по-японски.
Саднила рана. Влажная рубаха пластырем прилипла к спине. С трудом переступая по крутому трапу с латунными скользкими поручнями, он спустился в каюту, раскаленную, как кастрюля с выкипевшей водой на плите. У порога, встал красноармеец. Совсем юнец. Под буденовкой – распаренная скуластая физиономия: конопатины на щеках, на мигающих веках, даже на шее, торчащей из ворота гимнастерки будто стебель ромашки из банки.
Вошел командир пограничной стражи. Немолод, много за сорок. На коричневом лице светлые, широко расставленные глаза. Как минными щупами, повел ими по каюте, задерживаясь на углах и укромных местах, и только потом неспешно перевел взгляд на пассажира. Вытянулся. Взял под козырек: «Василий Константинович! Не узнаете? А я с, вами под Волочаевкой в болота вмерзал! – Вгляделся. – Больны? Чем помочь? – Обернулся к красноармейцу: – Сопроводить на палубу товарища командарма Блюхера!»
Боец вытаращил глаза, едва не выронил винтовку.
«Я сам. Занимайтесь делами службы».
На палубе, хоть и обдувал ветер, тоже было душно. Мутные волны толкли в заливе щепки, ломаные ящики, разбитые бочки. Выныривала, взблескивая, бутыль. Среди пены и мусора плавал красно-белый спасательный круг.
По заливу сновали баркасы, буксиры, тупоносые плоскодонки-«шампуньки» с пассажирами и тюками. Впереди, по крутому берегу, – большие, малые дома, как ступени, поднимали к вершине Орлиного Гнезда знакомый город.
Вот и вернулся!..
Но чувство облегчения и радости вытеснялось другим – горьким чувством поражения. Все густо пропиталось этой горечью: боль унижения, сознание своего бессилия что-либо изменить, крайнее физическое истощение… Никогда, за все свои без малого сорок лет не выпадало ему таких тяжких испытаний. Солдат, командир, он знал тревоги в боях; приходилось и отступать под натиском более сильного и хитрого противника. Сколько раз приходилось склонять голову у братских могил: каждый бой – всегда рубеж жизни и смерти… Знал он и пронзающий огонь ран, одуряющую вонь собственного гниющего тела. Был готов ко всему. Кроме одного – предательского удара в спину. Столько пролито крови, столько павших…
В снастях свистел океанский ветер. А ему в этом ветре все еще слышался нечеловеческий предсмертный вой, доносившийся из-за тюремных стен. Теперь на тех стенах ветер раскачивает бамбуковые клетки с отрубленными головами его боевых товарищей. Палачи носят головы и на пиках в толпе. А мерзкий предатель, ничтожный и бездарный, торжествует… «Ничтожный»? «Бездарный»?.. Нет. Все эти годы свое двуличие, тайные приготовления, жестокость он умело маскировал словами о преданности революции, старательностью, якобы бескорыстием. И готовил удар… Черный, злобно каркающий ворон… Он любил появляться в войсках, накинув черную кавказскую бурку, подаренную ему в Москве. В ненастные дни кутался в нее и действительно становился похожим на ворона. Покачиваясь с пятки на носок на кривоватых ногах в черных сапогах-бутылках, похлопывая стеком по голенищу, заставляя всех замолкать и вслушиваться, он бросал отрывистые, как карканье, слова. Эти русские сапоги он тоже привез из Москвы… Теперь Василию Константиновичу казалось, что он, как ворон, распластав черные крылья, все эти месяцы летел впереди армии, увлекая ее в пропасть позора.
«С вами под Волочаевкой в болота вмерзал!..»
Блюхер готов был обнять командира-пограничника с незнакомым и таким родным лицом.
Он вернулся. Не со щитом и не на щите. Никогда еще не возвращался он из походов с такой болью в душе. Он чувствует свою вину перед товарищами – теми, кто пал в походах минувших лет и погиб от предательских ножей ныне. Вину перед теми, кто поручил ему ответственнейшее задание. Но если бы лишь его собственной виной измерялось случившееся и только ему, Блюхеру, предстояло держать ответ!.. Нет, дело не в нем… Особенно тяжко потому, что – один из немногих – он понимает: последствия поражения страшны для будущего той страны, в которой он провел без малого три года, а может быть, и для будущего всего мира…
Билось, не утихало море. Сон не шел. За распахнутой балконной дверью уже брезжило. Он встал. Вышел на балкон. Ветер гнул кипарисы. Катились волны. От неостановимого движения воды Василий Константинович почему-то почувствовал умиротворение: перед этим вечным, необъятным величием и мощью все тревоги – преходящи.
В рассветной дымке уже обрисовалась выступающая в море скала. Экскурсовод рассказывал: с ее вершины пел над морем Шаляпин. Когда он пел, внизу собирались на своих шаландах рыбаки.
Сейчас грозно пело, море…
Почему вот уже столько месяцев не покидают его мысли о Китае?.. Из-за боли, которая живет еще в его теле?.. Из-за испытанного унижения?.. Или из-за невозможности возмездия тем, кто предал его и его боевых товарищей?..
Глава девятая
Алексей, отвернувшись к стене, со вкусом жевал сухую кокорку с салом.
– Чего челюстями щелкаешь? – подал голос с нижней койки Борис. – Сальцем смазываешь? Дай на зубок.
– Чего захотел!.. – отозвался Алексей с набитым ртом.
Первые дни он так выматывался, что в «мертвый час» валился на матрац едва живым от усталости. Матросского пайка хватало, даже уносил с камбуза остававшиеся куски хлеба. Теперь за едой вычищал корками миску до блеска, к обеду начинало посасывать.
В казарме достал из тумбочки узелок с бруском розового на срезе сала я зачерствелыми, припорошенными плесенью кокорками. Еще Нюткина забота…
Сейчас, прожевав, назидательно добавил:
– Знаешь, как говорят: «На чужой каравай свой рот не раззявай».
– У, кулачье деревенское, подавись своим салом! – Борис шевельнулся на скрипучей сетке и затих.
Сытый, Алексей подумал о Нюте. Как она там?.. Э-эх… Сколько уж деньков просвистело, а ничего о жене не знает… Ей адрес его службы неизвестен. Он же никак не мог пересилить себя, наставить написать первое письмо. Никогда в жизни не писал. Да и не то настроение… Тоска…
Завтра воскресенье, «сонный день». Вот завтра и напишет…
Снова разбудила боцманская дудка, хотя в эти редкие субботние предвечерние часы никуда торопиться не надо: занятий и работ нет, можно привести в порядок одежду – где пуговица оторвалась, где зашить-подшить.
Скоро Алексею да еще нескольким парням из взвода на вечерние занятия в школу «Долой неграмотность». Остальные собираются в матросский клуб: достают из-под матрацев отпрессованные в стрелку клеши, праздничные, по форме «раз», фланельки, драят хромовые ботинки. В разговорах порхает: «воскресник», «завтра воскресник».
Борис Бережной после дневной побудки не встал с кровати:
– Ой, братцы, в пояснице смерть как схватило!.. О-о-ой!..
– Доктора позвать? В лазарет тебя откантовать?
– Не надо… Колики у меня. Камни в печенке… О-о-ой!.. Шерстяным кашне обвяжусь… Отлежусь…
Его оставили в покое.
Следующим утром вместе с горном на пороге казармы появился старшина:
– На воскресник!
Алексей, полусонный, сделал было ставшее уже привычным движение, готовясь спрыгнуть с койки, но тут же вспомнил: «Сегодня – «сонный день» – и сладко потянулся под одеялом.
Корж шел меж рядов коек:
– Подъем! Аврал все наверх!
Остановился у кроватей Алексея и Бориса, сдернул одеяла:
– Команды не слыхали? Подъем!
– Бережной заболел. С вчерашнего дня мается. Колики в печенках!.. – послышалось со всех сторон.
Сам Борис лежал скрючившись, поясница его была обернута шарфом. Прикрыв глаза, он тихо постанывал.
– Ху-гу… – неопределенно гукнул боцман. – А ты? Колики в селезенке?
– Воскресенье – мой день, – попробовал отстоять свои права Арефьев.
– Даже коммунистический субботник тебя не касается? – грозно выкатил глаза Петр Ильич. – Сачковать надумал?
До обеда, вооружившись метлами, лопатами, ведрами с песком, носилками с гравием и банками с краской, военморы «драили до чертова глаза» территорию городка. Листья уже слетели с деревьев, на пожухлой траве лежал иней. Дул холодный, пахнущий зимой ветер. Но им было жарко.
Сашка Клямкин, парень из их взвода, распорол гвоздем руку. Кровь пошла сильно. Пока бегали в санчасть за бинтами и йодом, Алексей надумал применить деревенский способ, который знал еще до Нютки с ее «чистиками-нечистиками»: обчертил круг, поставил посередке Клямкина и бросил тот злополучный гвоздь острием в землю. Когда ребята вернулись из санчасти, кровь уже остановилась.
– Да ты, Лексей, колдун!..
После обеда, вернувшись в казарму, Арефьев полез в тумбочку за узелком и с удивлением обнаружил, что сала в нем поуменьшилось.
Уже после «мертвого часа», когда начались шумные сборы в матросский клуб, с дальнего угла казармы донесся растревоженный голос:
– Ребята, у меня новые перчатки сперли!
– Потерял небось.
– Не доставал с самого прибытия – тепло было. Вот тут, сверху, лежали, коричневые на белом меху… – И сам же удивленно: – А сундучок на запоре!
– Черти свистнули, не иначе!
– Святым духом!..
Алексей, ободренный успехом заговора Клямкина, вызвался:
– Могу пособить найти пропажу.
– Валяй, колдун.
Он попросил у пострадавшего носовой платок, три раза обернул его вокруг ножки, койки:
– Закручиваю черту хвост… – крепко-накрепко стянул узел. – Чем крепче стянешь, тем больней черту – скорей отдаст.
– Когда?
– А я откуда знаю? Теперя жди.
Матросы грохнули:
– Когда рак на горе свистнет!
– Твой черт перчатки уже на самогон спустил!
– Ну, деревня, усмешил!..
Пострадавший, Павел Арбузов, в сердцах сдернул платок:
– Иди ты со своим гаданьем знаешь куда? Лапоть!
Зачем Алексей ввязался? Хотел же – как лучше… Вылез!.. Надо было помалкивать, не его забота… Его не касаются – и он никого из них не будет касаться… «Деревня… Лапоть!..» Ну и что?.. А лапти у них в Ладышах отродясь не носили… Вот только кто споловинил его сало? Неужто сам так вчера подналег?..
Ему было непонятно, почему краснофлотцы не захотели, чтобы он довел ворожбу до конца. В Ладышах непременно скрутили бы черта. Вообще у них почти на каждый житейский случай были приметы и гадания. Те же перчатки потерять – примета: быть несчастью. Кирпич выпал из печи – тоже к худу. И если петухи во всю ночь поют… А вот сорока скачет к дому больного – это к выздоровлению. Или муха в щи попала – быть обновке а ль гостинцу…
Из щемящего путешествия в родную сторону вернул Алексея бодрый голос оторга комсомола, объявившегося в казарме:
– Как настроение, моряки-краснофлотцы? «Полундра – идем ко дну»? – Власов дружелюбно рассмеялся. – Хорошо поработали на воскреснике – как думаете свободное время проводить?
Он прошел на середину комнаты.
– Не вижу флотского пыла, – показал на костяшки домино, рассыпанные по столу. – Свободный час – «козлу» на сено? Не пойдет, друзья-товарищи! И трень-брень по углам – тоже не пойдет. Не допустим в красную казарму грустный вид. В матросском клубе организуются кружки художественной самодеятельности, духового оркестра, литературный.
– А кройки-шитья? – подал кто-то голос «с подначкой».
– К вашему сведению, краснофлотец сам шьет-перешивает, гувернанток и буржуазных служанок при нем нет. – Оторг за словом в карман не лез.
Но и морячок, задавший каверзный вопрос, из городских, Иван Косых, – тоже палец в рот не клади:
– В услужение нам их не надо, а вот на перевоспитание буржуазных гувернанток взять бы не отказались.
– С эксплуататорским классом у нас покончено, – отразил и это нападение Власов. – А с хорошими пролетарскими девушками вы как раз сможете познакомиться в клубе и кружках, двери в клуб широко открыты для всего Осиповского затона и городка.
Матросы оживились.
– Так что торопитесь записаться в кружки, а также в библиотеку. Там имеются хо-рошие книжки! Про любовь тоже, – обернулся он специально в сторону Ивана.
Терпеливо переждал, пока утихнет гомон.
– А теперь, друзья-товарищи, вот какое главное дело: все слыхали о «Займе индустриализации»? – Оглядел моряков: – Вижу, не все. Заем – это значит, что наше государство просит в долг денег у трудящегося народа СССР на подъем промышленности, на строительство гигантов-заводов и гигантов-фабрик, чтобы жизнь в будущем была вполне удовлетворена изделиями промышленности по всем потребностям. Читали, какие гиганты намечено построить?.. Заем – наш лучший ответ на попытки врагов ослабить наш хозяйственный фронт в обстановке капиталистического окружения и происков всяких чан кайши и чемберленов!
«Какой еще заем?» – подумал Алексей.
По деревням, в Ладышах тоже, уже в четвертый раз распространяли крестьянский заем. Там было понятно. И условия хорошие: хочешь – покупай облигацию, хочешь – продавай ее. Отец взял несколько штук. А тут – «индустриализации»… Не крестьянская забота. Пусть они, рабочие, и покупают…
– Ну что, друзья краснофлотцы, поможем усилить наш финансовый фронт? – продолжал с подъемом Власов. – Мы тоже трудящиеся, дети рабочих и крестьян. Нам ли оставаться в сторонке от такого важнейшего всенародного дела? Что скажете?
– А откуда у нас финансы?
– Конечно, заработков у нас нет, жалование получаем небольшое, – согласился оторг. – Но все равно, копейка к копейке, рубль к рублю дадут увесистый вклад. К примеру, флоткоманда уже подписалась на сто двадцать процентов своего месячного оклада. И в прошлом году первый «Заем индустриализации» в нашей флотилии поддержали все.
– А мы еще ни копейки не получали.
– Можете подписываться вперед. А у кого есть из дому наличные, могут и наличными: деньги на бочку.
«Отдашь, потом ищи-свищи… – подумал Арефьев. – Да и мне-то какая выгода?..»
– Ну, подпишусь, а далее? – словно бы угадал его невысказанный вопрос Косых.
– Государство просит у народа двести миллионов рублей взаймы на десять лет, до первого октября тридцать восьмого года, – начал объяснять Олег. – Вознаграждает шестью процентами годовых, то есть выплачивает каждому проценты. Скажем, купил ты двадцатипятирублевую облигацию – через каждые шесть месяцев получаешь семьдесят пять копеек, по пятиалтынному за каждую пятерку. А выиграть можешь и десять тысяч, и даже двадцать пять тысяч.
Алексей охнул: «Двадцать пять тысяч!.. Богаче, чем Ярцев!..» О таких деньгах он и не мечтал.
– Как же, выиграешь! – усомнился кто-то.
– Шансы на выигрыш высокие: один на триста облигаций. А которые не выиграют, через десять лет будут погашены, то есть государство вернет каждому деньги, да еще с полными процентами, – терпеливо растолковывал Власов. – Но разве, моряки-товарищи, главное дело в выигрышах и процентах? Главное – всеми силами всех рабочих и крестьян, армии и флота налечь на индустриализацию СССР! Так что обмозгуйте вопрос. Не сейчас подписываться. Решите, кто сколько может дать на всенародное наше цело.
«На десять лет?.. Тю-тю!.. Не, лучше без облигациев и процентов… В кармане – оно верней… – Когда у Алексея вытягивали деньги без быстрой отдачи или возмещения, он всегда чувствовал какой-то подвох. – Пущай без меня…»
Матросы разбрелись по территории городка, кто куда: гонять в футбол по замерзшему плацу, стучать в домино-шашки. А ему надо топать в учебную комнату, долбить арифметику, русский язык и географию – задания на завтра.
Управился к кино: в клубе крутили «Жемчужину Семирамиды».
Перед отбоем матросы собрались в казарме. Бережной в кино не ходил. Но колики уже отпустили – сидел, свесив ноги, на койке, меланхолично бренчал на гитаре.
– Очухался? Давай веселенькое! – ребята вытолкнули в середину комнаты чернявого Митьку Груздя, взводного запевалу. – Ну-ка, Митя, отколи с припевом!
– Намаялся с метлой.
– Не ломайся, не мамзеля! Давай!
Борис ударил по струнам: Груздь притопнул, прихлопнул – и пошел по кругу вприсядку:
Отслужу четыре года,
Снова к милой ве́рнуся:
«Здравствуй, любушка Федора,
Вот теперь оженимся!..»
– Чо это он: четыре года? – забеспокоился Алексей, свесив голову к больному.
– Ты с луны на койку свалился, валеный сапог? – подал голос Борис. – Это в пехоте-кавалерии три годка служат, а на флоте – четыре, от звонка до звонка.
«Вот влип! Как муха!.. Надо было в военкомиссариате как Федька – в кавалерию, к привычному, к коням…»
«Спать, спать!..» – пропел горн.
Дневальный выключил свет. Только зеленая лампочка светила над дверью.
Глава десятая
Море ошеломило их, вдруг открывшись за виражом каменистой дороги, и это чувство восхищенного удивления уже не оставляло.
Даже там, в Париже, в бесконечном одиночестве рисуя в воображении дни, которые он проведет с Ольгой вместе, Антон все же не представлял, что здесь, у моря, на щедром, не изнуряющем солнце и ночами, просвеченными луной, все окажется так прекрасно. Они любят друг друга. Время повернуло вспять, канули, как голыши на зеленое дно, годы. И они снова совсем молоды. Море обкатало их, как эти самые голыши на берегу. Ольга загорела, посветлели брови, пряди волос. Разгладились морщинки, обтянуло смуглые щеки. Кожа ее, волосы и ночью хранили запах моря.
Днем он уже не слышал моря, привык за эти несколько дней к умиротворяющему его гулу, а ночью по тому, как ворочается черное чудище, определял: штиль, или штормит, или гонит неторопливую волну. Встречал руки Ольги. Потом лежал с открытыми глазами, удивляясь тому, как ритмично сливается ее дыхание со звуками извне, гадал, какая будет поутру погода, – и снова засыпал, утомленный счастьем.
Между ними и морем не было ничего и никого. Шумный абхазский городок, пальмы, олеандры и кипарисы, крутая пышнозеленая гора – все было позади их дома и их моря. Ольга отправлялась на базар и возвращалась с полной корзиной всякой вкусной и острой всячины, когда он еще досматривал последние сны или только начинал зарядку. Лишь газеты доносили вести о событиях в стране и мире. Но и новости в этом безмятежье воспринимались как далекие гудки пароходов.
Ольга радовалась солнцу и морю, словно ребенок. И в воду заходила так, как он представлял себе: осторожно, сначала пробуя одной ногой, потом другой, убегая от накатывающегося прибоя, – и наконец, каждый раз будто отваживаясь на подвиг, отчаянно бросалась на волну. Зато потом долго бултыхалась на глубине в метр-полтора «собачьим стилем».
Почему-то было очень много чаек. Они выстраивались на вынесенном бурей обглоданном бревне – тонкие красные лапы удерживали несоразмерные, короткие плотные тела. Но стоило им расправить крылья и взлететь, как они превращались в прекрасных птиц. Буйками покачивались на воде бакланы, ввинчивали длинные шеи в просинь, ныряли – и вытаскивали в клювах бьющихся рыбех.
Антон жалел, что не привез с собой ватмана и красок. Когда-то, давным-давно, он увлекался акварелью, потом на десятилетия забросил. А теперь вдруг опять потянуло… Может быть, захотелось хоть на этюде остановить мгновение?.. Поначалу казалось, что время замедлило свой бег. Обман. Две отпущенные им недели промчались безоглядно.
Он смалодушничал – не решился сразу после разговора со Стариком сказать Ольге, что скоро снова должен будет уехать. Жена, конечно же, сама ни о чем не спрашивала: ни тогда, когда они дружно ходили на службу, она на свою, он – на свою, ни потом, в веселой, хлопотливой суете сборов в отпуск… Теперь подступал момент решительного разговора. А он все оттягивал.
Вечером они сидели на берегу, у самой кромки воды. Пена набегала на их ступни, пузырилась на мокрых камнях и с шелестом откатывалась, чтобы тут же набежать снова. Все было фиолетово-розовым – и вода, и небо, и блестящие камни. Ему вспомнилось давнее-давнее: жаркий день на берегу, только не этого, а Каспийского моря, в поселке Балаханы, под Баку. Сверкало море, слева узким мысом тянулся желтый Апшерон, и названный брат Камо мечтал уплыть в Португалию, где свергли короля и начиналась революция… Камо уплыл тогда через Каспий в трюме какого-то судна, кажется, называлось оно «Аббасия» – то ли в бочке спрятался, то ли в куче угля… Как завидовал тогда Антон другу-брату, его полной приключений жизни!.. Несколько месяцев спустя и Антон, в ту пору беглый каторжник, перебрался за границу и в Париже, в гостинице «Бельфорский лев», встретился наконец с Ольгой… С ума сойти, это было семнадцать лет назад!.. В последний раз он видел Камо, уже когда учился в академии, а друг приезжал в Москву к своему начальству. В Грузии его определили по какому-то гражданскому ведомству, он маялся, «по секрету» сказал, что тоже готовится поступать в академию… Он погиб в том же двадцать втором году, летом: ехал вечером по Верийскому спуску на велосипеде и на него в темноте наскочил грузовик. Странно… Единственный, наверное, грузовик во всем Тифлисе. И мчался почему-то без фар… Может быть, кому-нибудь нужна была смерть Камо?..
– Помнишь Семена? – спросил он теперь Ольгу.
– Ну и ну! – Она повернула к нему удивленное лицо. – Ты что, забыл, как мы познакомились?
Ее лицо на закате тоже было розовым, даже белки глаз и зубы.
– Фу-ты, черт, действительно… А Камо тут ни при чем, познакомились мы раньше. Это ты, женушка, забыла.
– Конечно, такое забудешь!.. – насмешливо протянула она, подцепляя пальцами ноги камушек и пытаясь бросить его в набегающую воду. – Вот тебе лучше и не вспоминать!..
Неужто со дня их первой встречи минуло уже двадцать лет?.. Даже двадцать один… Тем летом он участвовал в освобождении Ольги из Ярославского тюремного замка. Если точнее, ему, студенту и начинающему революционеру, роль была отведена в том деле весьма скромная: на тихой улице встретить беглую партийку и переправить ее на конспиративную квартиру, где она окажется в безопасности. От страха и от волнения он спутал адрес, привел Ольгу к дому ярославского прокурора. От первой их встречи и того казуса осталось ее восклицание: «Надо же, послали такого болвана!» А потом, когда, обессилевшие от всего пережитого, они под утро приплелись на волжский берег и она, свернувшись под его курткой, заснула, положив голову на его колени, он, склонившись над нею, приготовился отдать жизнь, но защитить ее, – вот тогда, наверное, и пришло чувство… Их встречи были разделены годами. Не просто годами – каторжными этапами, тюрьмами, опасностями подполья, жизнью в эмигрантских колониях разных стран. И все же судьба соединяла их, и эти встречи были такими неожиданными и яркими!..
– Помнишь нашу первую встречу в эмиграции? Ты тогда была благонравной женой благонравного мужа.
– Все еще ревнуешь? А как же свобода личности, социализм и женщина по Бебелю? – с прежней легкой насмешкой отозвалась она.
– Я о другом… И правда, все особенно остро познается в сравнении. За эти годы я столько раз вспоминал нашу эмиграцию – и сравнивал с нынешней, белой. Тогда мы боролись, ненавидя прошлое и настоящее, боролись во имя будущего. Нынешняя белая эмиграция ненавидит настоящее России и ее будущее – во имя прошлого. В этом суть. Та наша ненависть была плодотворна. Эта, их, – бесплодна. Вспомни, как мы тогда жили: «по третьему эмигрантскому разряду»: селедка и кусок хлеба на обед, чай на ужин, о завтраке же и не мечтай. Но как крепко было в нас чувство товарищества: каждый бросался на помощь другому, и жизнь каждого была подчинена общей цели. – Он вздохнул: – Поглядела бы ты на нынешний эмигрантский сброд, всех этих бывших: бывших князей, бывших генералов, бывших сиятельств, превосходительств и святейшеств. Бывших людей. Каждый – враг всех, лишь бы что-нибудь урвать для себя. А уж коль урвал, готов бесстыдно пировать на глазах умирающих в нищете собратьев…
– Ты хочешь сказать, что с удовольствием вспоминаешь наши годы и тебе было так трудно жить там, в Париже, эти последние?
Он уловил в ее тоне какой-то подвох, но не понял, к чему она клонит. Чистосердечно признался:
– Да, очень трудно. Зато сейчас мне так хорошо!.. Смотри! – Из розовой воды беззвучно выныривали и снова погружались в море могучие фиолетовые тела. – Дельфины! Целое стадо! Вон! И вон!.. Туда смотри, сейчас вынырнет!
Ольга вскочила. Восхищенно ловила взглядом выныривающих дельфинов. К ним, взмахивая крылами и крича, устремились чайки: ударами могучих хвостов дельфины глушили рыбу.
– Какие красивые!.. Вольные…
Она снова опустилась на холодеющую гальку. И вернулась к прерванному разговору:
– А жить одними воспоминаниями – можно? Мы поженились с тобой в восемнадцатом…
– Я считаю: в одиннадцатом. Тогда, в «Бельфорском льве».
В том году он бежал с каторги, добрался до Парижа – и там, в канун нового года, снова встретил Ольгу, наконец-то признался ей в любви и понял, что и она его любит.
– Значит, тем более я права. Женились в одиннадцатом. Расстались до семнадцатого. Снова встретились в восемнадцатом. Потом тебя носило по всем фронтам. Для нас только и были те два года, когда ты учился в академии. И снова на четыре года… А теперь на сколько лет, если это не так уж секретно, собрался ты уезжать?
Она догадалась?
– Ну что – они уже кончились, наши с тобой дни?
– Да, Оля. Я как раз хотел… Я должен снова ехать. Надолго. И совсем в другую сторону. Очень далеко.
Уплыли дельфины. Ушло солнце. Розовые тона в небе и на воде сменялись на фиолетовые – от чернильного до смешанного с лазурью. Капли на плечах Ольги тоже блестели аметистами.
– Позволь и мне сказать… Сколько лет тебя не было. Я ждала. Была верна, ты знаешь. Не знаю, были ли у тебя там женщины, как ты там жил… Но и я человек, пойми… Или ты думаешь, что я уже так стара, что мой удел – только ждать? Шучу, конечно. Только горько шучу. – Она перевела дыхание. – Больше я так не смогу. Тебе решать. Тебе и твоему начальству. А я больше так не могу…
С абхазского побережья на грузопассажирском «корыте» Путко за двое суток по штилевому морю добрался до Крыма. Еще несколько часов на автобусе – и сейчас он вышагивал по аллее военного санатория, оглядываясь по сторонам, ища глазами и предвкушая долгожданную встречу.
– Да, никак, Антон?
Перед ним стоял, щедро улыбаясь, мужчина в фланелевом халате и сандалиях на босу ногу, с перекинутым через плечо махровым полотенцем.
Они обнялись.
– Раны зализывать? Солнечные ванны принимать?
Путко узнавал – и не узнавал. Халат, ворот нараспашку, облупившийся нос на дочерна загорелом лице, шлепанцы – все так не соответствовало облику Большого генерала, каким привык он видеть Блюхера. Только выражение лица, крупного, красивого, рельефно вылепленного, с большими светлыми глазами, оставалось прежним. Блюхер всегда нравился Антону.
– Уже принял ванны. Полную норму, – он махнул рукой в сторону моря. – На кавказском берегу грел кости. А сюда приехал специально для встречи с тобой.
– Получил назначение в Украинский округ? На какую должность? Я годика четыре назад одну группу подбирал, как раз позарез нужен был инженер. Тебя затребовал. Не нашел. Ольгу выспрашивал. Она что-то темнила.
– Я удачливей – вот видишь, даже здесь разыскал. К сожалению, вместе служить не придется. А рад бы… Но поговорить надо. О Китае.
– Чего вдруг? Ты-то где прятался? – задал Блюхер наводящий вопрос. – И на кой шут тебе Китай? Там нынче дело труба.
Путко достал из кармана бумажник. Из какого-то подкладочного отделения вызволил фотокарточку размером со спичечный коробок. Протянул.
Блюхер взглянул, поднял брови: со снимка смотрел на него бравый подполковник в полной белогвардейской форме да еще с двумя Георгиями на груди.
– Откомандировываюсь к новому месту службы. В прежнем чине. Из парижской штаб-квартиры «Российского общевоинского союза» следую в Шанхай – Харбин и хотел бы получить ценные советы из первых рук.
– Вот оно что… – Василий Константинович повертел фотографию, вернул ее Антону. – А откуда обо мне узнал и моей одиссее?
– Секрет полишинеля. В Париже когда услыхали, что главным советником у Сунь Ятсена какой-то генерал Галин, беляки все архивы вверх дном перевернули: «Какой такой из нашенских к революционерам переметнулся?» А французы – те поначалу возомнили, что это их соотечественник: не «Галин», а «Гален». Тоже стали разнюхивать. А уж коли взялись, докопаться не составило большого труда: их разведка-контрразведка работать умеет. Так что еще тогда наслышался… Сейчас сюда прислал Павел Иванович.
– Понятно. Ну что ж… Как говорится, чем могу – помогу. Пошли в мои апартаменты. Проголодался с дороги?..
Разговор в палате Блюхера затянулся далеко за полночь.
– Я следил за событиями в Китае, как за сводками с фронтов нашей гражданской, – признался Антон. – Думал, вот-вот!.. Сам знаешь, на Западе только и бубнят: «политика окружения СССР», «замкнуть кольцо», «создать санитарный кордон против большевиков»!.. И тут – Китай. Казалось, совсем немного – и будет навечно разорвано это кольцо, разрушен кордон, наша страна обретет соседа-друга. – Он чуть ли не с осуждением посмотрел на товарища: – Почему же в один день все рухнуло? Беляки в Париже до потолка прыгали: «В один день армия Чан Кайши из орудия революции превратилась в орудие контрреволюции!» Но даже и они не могли понять: как произошло такое?
– Я тоже очень долго не мог понять… Вы-то там наблюдали со стороны. А для меня это было… – Василий Константинович помассировал грудь у сердца. – Моя боль… Считаю, моя ответственность… Хотя на Реввоенсовете все решили по справедливости. Мол, историческая закономерность.
– Поражение было предопределено? – не понял Путко.
Блюхер поднялся с соломенного кресла:
– Чай любишь? Я приохотился в тех краях. Только к зеленому, без сахару… Если не без поллитры, то уж без чаю тут не разберешься… Сейчас приготовлю.
Антон терпеливо ждал. Василий Константинович наполнил душистым напитком чашки. Непривычно для гостя не поставил на блюдца, а блюдцами накрыл их.
– Смотри, как нужно пить. Пригодится. Особенно в жару зеленый чай – спасение.
Чай был терпковатый, горьковатый и неожиданно приятный на вкус.
– Как тебе ответить: предопределено или нет?.. – восстановил нить разговора Блюхер. – Чан Кайши, безусловно, ренегат. Типичный Кавеньяк. Та «сабля в руках буржуазии», о закономерности появления которой в аналогичных обстоятельствах предупреждали и Карл Маркс, и Владимир Ильич. Чан Кайши – это китайский Корнилов. Но, как понял я задним числом, свести все к нему одному – преувеличить его роль и упростить все обстоятельства. Причины глубже и серьезней.
Антон слушал, внимательно глядя на Блюхера. Нет, не только санаторный камуфляж изменил его облик – за эти годы он действительно стал в чем-то иным. Постарел? Похудел?.. Нет, дело не во внешности. Более самоуглублен, сосредоточен?.. Какая-то постоянная суровость, даже когда улыбается. Сказались испытания последних лет?..
– Как ты понимаешь, Северный поход подрывал сами основы империализма в Китае, международного империализма, – продолжал Василий Константинович. – К тому же ты прав: распадалось кольцо окружения СССР, которое столько лет ковали Лондон и Токио, Париж и Вашингтон. Могли они стерпеть такое?








