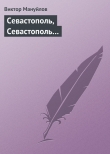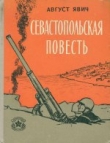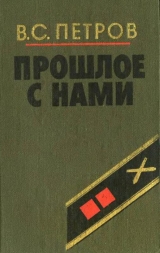
Текст книги "Прошлое с нами (Книга первая)"
Автор книги: Василий Петров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 42 страниц)
В центре городка Базар
Штаб дивизиона я догонял на попутных машинах. Выяснилось, что приказание о переводе отдано еще 8 августа. Я нашел 5-ю батарею в небольшом городке Базар. Огневыми взводами управлял лейтенант Свириденко, исполнявший обязанности старшего на батарее и обоих отсутствующих командиров огневых взводов. Я встречался с ним на гороховом поле южнее села Пирожки.
5-я батарея занимала ОП в центральной возвышенной части городка, в саду среди яблонь. Позади орудий дом хозяина, далее, в полукилометре, церковь – два купола, крест на колокольне. Улица спускалась вниз к речке. Ряды домов, кирпичных и бревенчатых. В садах созревают яблоки, сливы.
На вооружении 5-й батареи, как и 4, состояли 122-мм пушки образца 1936 года. Эти орудия имели наибольшую в нашей корпусной артиллерии дальность стрельбы – свыше 22 километров. Вес снаряда – 22 килограмма. Начальная скорость – 720 м/сек. 122-мм пушка собрана на лафете 152-мм пушки-гаубицы. Вес орудия в боевом положении – 7 тонн.
122-мм корпусная пушка предназначалась для решения широкого круга огневых задач: вела борьбу с батареями противника, подавляла самые различные цели во всей глубине боевых порядков и на переднем крае, использовалась для стрельбы прямой наводкой по танкам.
Я представился командиру батареи лейтенанту Миронову по телефону – он был на НП. База – 14 километров, но слышимость сносная. Почему опоздал? Лейтенант Миронов требовал объяснений.
Разговор закончен. Я передал телефонисту трубку. Начался осмотр ОП, мест укрытий средств тяги, ознакомление с подступами.
– По местам!
Численность расчета 122-мм пушки по штату 10 человек. Налицо в двух орудиях по 7, в двух – по 6. Орудийные расчеты не потеряли навыков, приобретенных в мирное время, и работали вполне удовлетворительно. Но нельзя не заметить упущений, вызванных недисциплинированностью, а также малочисленностью людей у орудий.
Нужно исправлять положение. Расчеты приступили к тренировкам. После двух часов занятий большую часть упущений можно было отнести ко вчерашнему дню. Конечно, не всем нравилась однообразная утомительная работа. Я видел, люди измотаны. Но что делать? Нарушения дисциплины недопустимы. Лейтенант Свириденко со мной вполне согласен.
Орудия ведут огонь. На перерыве занятия продолжались.
«Стой!» Расчеты могут отдохнуть. Во двор въехала кухня. Обед.
Перед дверью дома неподвижно стоит седобородый старик – хозяин. Старшина пригласил его отведать солдатской пищи. Старик принял котелок, машинально черпает ложкой. О чем думал хозяин? Он сажал собственными руками яблони, растил их и не гадал-не думал, что лихо военное докатится в такую дальнюю даль и застрянет в его дворе, сотрясая орудийным грохотом стены тихого полесского городка. Обидно старику, жалко яблонь и плодов, затоптанных солдатскими сапогами. Старик молча вернул котелок. Рядом с яблонями высятся поднятые в небо длинные стволы орудий.
– Огневые взводы, по местам! – телефонист отбросил недоеденное яблоко.– Приготовиться к приему команд... по пехоте... огонь!
Орудия тяжело вздрагивают, обволакиваются сизым дымом. Скользят вниз по салазкам стволы и медленно возвращаются в начальное положение.
Лейтенант Свириденко проверяет установки прицельных приспособлений 2-го огневого взвода. Мне мешает привычка: по команде «прицел 980» я готов был затребовать у НП уточнений, но спохватился: у 122-мм орудий барабан прицела нарезан в тысячных.
– ...батареей... один снаряд... огонь!
Многоголосое эхо уносит во все стороны грохот выстрелов. Сыплются яблоки. Слышен звон битых стекол. В ближних домах – ни одного окна, зияют пустые рамы. Изменяется направление стрельбы, снова звенят стекла. Местные жители укрылись в хатах. Кто посмелее, выглядывает из-за плетней.
По устойчивости 122-мм пушка не уступает 152-мм пушке-гаубице. После выстрела никаких признаков смещения ни колес, ни сошников. Я нашел перекрестие панорамы, совмещенное с куполом церкви – точкой наводки – в том же положении, что перед выстрелом.
В течение двух часов 5-я батарея вела огонь по району Ксаверова и западнее. «Стой! Записать: цель номер пятнадцать... пехота на опушке леса». Командиры орудий доложили о расходе боеприпасов. Расчеты принялись за уборку гильз, укупорки. Возобновляются занятия, прерванные стрельбой.
У буссоли появился политрук Елисеев, замполит батареи. Знакомимся. Замполит, кажется, недоволен. Отошел к окопу телефонистов, разбирает содержимое своей полевой сумки. Занятия продолжались.
– ...Доложить о состоянии материальной части, инструментов и принадлежностей!
Командиры наскоро осмотрели орудия, идут с докладами. Не годится. Так в артиллерии не делают. Осмотр производится в последовательности, установленной БУА. По команде командиров орудий начинают орудийные номера, каждый в пределах своей должности. Только после их докладов командиры лично приступают к осмотру.
– Отставить!
Упражнение начинается сначала. Раз, другой, третий. Достаточно. Проверку производят замполит Елисеев, лейтенант Свириденко и я.
Политрук возражал против тренировок. Нарушения порядка, по его мнению, не имеют существенного значения. Очень любопытно, что дальше? Он считает, что отдельные положения уставов не обязательны в обстановке сегодняшнего дня. .
– Товарищ лейтенант... какой вы части? Из шестой батареи... гм... нашего дивизиона? – удивился Елисеев.– И у вас так гоняют людей? Что это... учения в мирное время?.. Дайте людям отдохнуть, они не спали вот уже сколько суток...
Отдых не в моей власти. Старший на батарее обязан поддерживать воинский порядок. Под Пирожками, во время обстрела 6-й батареи, мне стоило немало усилий вернуть людей к орудиям. А ведь там ничего подобного не было.
Орудийные номера – рослые и расторопные парни. В довоенное время специально отбирали людей для службы в артиллерии. Правда, кадровых орудийных номеров осталось не так уж много. И выглядят они усталыми, но я знаю, они способны выполнять обязанности лучше.
– Что ж,– обиделся политрук,– теперь появилось много умников... Дело ваше. Хотите заниматься... как вам угодно. Я доложу комиссару дивизиона, как вы обращаетесь с людьми.
У каждого свои обязанности. Елисеев выражал частную точку зрения. Но старший на батарее – должностное лицо. Он пе имеет права поступаться служебными обязанностями и кривить душой в угоду тем, кто хочет сидеть на двух стульях. Орудийный номер призван соблюдать дисциплину, этого требуют интересы орудийного расчета. Все мы – Елисеев, орудийные номера, я – ведем огонь во имя общего дела. Никаких поблажек, об этом не может быть и речи. Елисеев вправе докладывать кому угодно.
Батарея ведет огонь. Похоже, расчеты преодолели усталость и работают вполне удовлетворительно.
В боеприпасах 5-я батарея недостатка не ощущала. Позаботилось артснабжение. Непосредственно к орудиям боеприпасы подвозят машины взвода боепитания дивизиона. Склад находился в песчаных оврагах по дороге на Мартыновичи, недалеко от городка Базар.
Наступал вечер. Закончилась подготовка к ночным стрельбам. Лейтенант Свириденко выставил ночную охрану ОП. Я просмотрел записи. 5-я батарея вела огонь в основном на дальности 18—20 километров по районам западнее Ксаверова.
На полесский городок опустилась сырая августовская ночь. Улицы, примыкающие к ОП, патрулируют дозорные. Для жителей установлен ряд запретов. Тишина. Городок замер. Светит луна.
В 24.00 5-я батарея в составе дивизиона произвела огневой налет по району СО. В 2.30 снова – «По местам!» Стрельба велась по СО – 107. Последняя цифра указывала, что в постановке огня участвовал весь полк. Мелькают со всех сторон сполохи, как северное сияние.
Телефонист принял телефонограмму: с 4.00 2-й дивизион поддерживает одну из частей 9-го МК. Направление стрельбы изменялось на 20-00 [56]56
Примерно на 120°.– Авт.
[Закрыть]. Необходимо перестроить фронт батареи, другими словами, развернуть орудия в направлении, перпендикулярном прежнему.
Лейтенант Миронов сообщал: после ожесточенных боев части 9-го МК остановили противника на рубеже Игнатовна – Рудня-Калиновская. Ночью они оборудовали позиции и производили перегруппировку.
С утра лейтенант Миронов начал пристрелку рубежей ИЗО. Это оборонительное мероприятие. Пристрелка закончилась. На орудийных щитах записаны установки. Орудийные номера отобрали снаряды по весовым знакам. Орудия наведены по рубежу НЗО «Пантера». По-видимому, там нет нашей пехоты, а может быть, рубеж пригоден для наступления немецких танков. В перерывах между стрельбами орудия наводятся по НЗО. Огонь по сигналу «Пантера» открыть немедленно.
После завтрака началась чистка стрелкового оружия, подготовка боеприпасов к стрельбе. То и дело расчет возвращали к орудиям. «Огонь!»
Среди публики, которая толпилась на тротуаре, замечены сотрудники редакции какого-то соединения и девушки-военнослужащие из полевой почты. Оба учреждения размещались в городке до прибытия фронтовых подразделений. В Базаре находился госпиталь.
Политрук Елисеев, навестивший раненых артиллеристов, рассказал о том, в каких условиях трудился персонал госпиталя – врачи и медсестры. Раненых множество. Работа не прекращается ни днем, ни ночью.
Большую часть любопытствующих составляли дети. Все места у забора, на крышах сараев и хат заняты. Зрители делятся впечатлениями и беззаботно смеются друг над другом после каждого выстрела, напуганы до смерти.
В 12.00 над городом появился корректировщик. Для 5-й батареи он не представляет опасности: ее ОП за пределами досягаемости немецкой войсковой артиллерии.
В течение 30 минут батарея участвовала в артиллерийской подготовке. Кроме 2-го дивизиона, вели огонь, кажется, гаубицы южнее городка. Выстрелы батарей 1-го и 3-го дивизионов не были слышны.
В 16 часов лейтенант Миронов сообщил, что после неоднократных атак некоторым подразделениям 9-го МК удалось улучшить свои позиции на участке Гуты-Калиновской. «Возможно,– заявил он,– атаки будут продолжаться и ночью».
Темнело. Расчеты устраивались на отдых. Орудийные номера спят, как обычно, на ящиках у орудий, в нишах для снарядов.
Ночь прошла спокойно. Пехота не проводила атак, о которых говорил командир батареи.
Приближение утра чувствуется задолго до рассвета. В саду густой холодный туман. Стуча зубами, орудийные номера вылезали из ровиков. Моя палатка отсырела.
– «Филин-один», по местам!
Полдень. Сильный ветер. В саду по-осеннему сыро, холодно.
Вернулся политрук Елисеев. С вечера он отправился в штаб дивизиона, затем на НП, где провел остаток ночи. Как дела в пехоте? Политрук оценивал положение несколько пессимистически. В подразделениях, которые поддерживал 2-й дивизион, людей считают по пальцам. 9-й МК утратил свою прежнюю структуру. Соединения перестали существовать. Корпусной штаб управляет непосредственно частями. Во всем корпусе из тысячи штатных танков осталось меньше трех десятков. Используются для непосредственной поддержки пеших взводов и рот, в которые сведены некогда грозные танковые и мотострелковые дивизии. Но личный состав не падал духом.
9-й мотомеханизированный корпус... В его состав входила 41-я ТД, дислоцировавшаяся во Владимире-Волынском. Два танковых батальона удерживали, говорил Безуглый, Пятиднецкий лес северо-западнее Владимира-Волынского, где к вечеру 22 июня скопилось много людей из 87-й СД и пограничного отряда. В последующие дни соединения 9-го МК сражались на подступах к Луцку, затем севернее Ровно. 9-й МК нес большие потери, принимал участие в контрударе в направлении Новограда-Волынского, вел оборонительные бои на малинском рубеже.
Помимо общих сведений, политрук Елисеев не узнал ничего существенного. 231-й КАП действовал подивизионно. Батареи, не жалея ни стволы, ни снаряды, ведут огонь, оказывая поддержку пехоте 9-го МК на рубеже Базар – Недашки. На отдельных участках танкисты улучшили положение, но в целом обстановка оставалась без изменений.
В ночь на 18 августа улицы городка Базар оживились. Пришли в движение многочисленные обозы. Эвакуировались госпиталь, редакция, полевая почта. Из тыловых учреждений остались только ремонтный батальон 9-го МК, прибывший в последний день.
Местные жители уже смирились с соседством 5-й батареи. По утрам бабуси приносят в кувшинах молоко старшине на кухню. Женщины из ближних домов чинили солдатскую одежду. Выбитые окна, однако, зияли провалами.
Сегодня, 19 августа, у нас – полковой праздник. 14 лет назад, 19 августа 1927 года, 8-й тяжелый артиллерийский дивизион был преобразован в 8-й КАП, номер которого 231-й КАП носил до 1939 года.
Полковой праздник – единственный день в году, который неизменно проходил по одному распорядку. Каждый воин видел в праздничных мероприятиях лучшую сторону службы. Перед его глазами четкие шеренги опрятно одетых товарищей, демонстрировавших воинскую дисциплину и способность защищать свою социалистическую Родину.
Праздник начинался парадным построением. Под звуки полкового оркестра в сопровождении эскорта знаменосцы выносили знамя полка. Смотр проводил командир полка. В праздничном приказе отмечались лучшие подразделения, командир полка от своего имени и от имени старших начальников объявлял поощрения, вручал призы и награды.
Батарея, занявшая в боевой и политической подготовке первое место, оставляла строй дивизиона и выдвигалась на правый фланг, она открывала торжественное прохождение. Вслед за лучшей батареей проходили другие. Затем подразделения исполняли строевые песни. Строевая часть праздника заканчивалась. Батареи в полном составе, с командирами и начальниками, шли в столовую на обед.
Так начиная с 1927 года проходили полковые праздники. Сегодня война. Батареи занимают позиции на участке в 20 километров. Но день 19 августа остался, как и прежде, праздником.
Лейтенант Миронов передал по телефону: «Строевая часть праздника, по приказанию командира полка, заменяется пятнадцатиминутным артиллерийским салютом, который произведут все 9 батарей полка ровно в двенадцать ноль, обычное время начала осмотра».
Подготовку к «строевому смотру» начали аировцы, засекшие для каждого дивизиона по одной батарее противника. После выверки орудий расчеты отложили назначенное количество снарядов. Готово!
Время 11 часов 30 минут. Огневые взводы построились. В стороне прошла стая «юнкерсов». Политрук Елисеев, проводив их взглядом, начал чтение праздничного приказа. Командир полка объявил результаты, которых батареи добились в боях. Лучшей в полку признана 8-я батарея, 5-я и 1-я заслужили благодарность. Замполит поздравил от имени командира полка личный состав огневых взводов с праздником и успехами, достигнутыми в боях. В ответ раздалось троекратное «ура!». Расчеты направляются в укрытие.
11 часов 45 минут.
– По местам! – кричит телефонист.
Батарея ведет огонь по пехоте, затем – по ОП 105-мм батареи. Объявлен перерыв. Над городком, как по заказу, установилась тишина. Пролетели два наших истребителя – «чайки». В некотором роде праздничный подарок – наши самолеты появляются в небе очень редко. Истребители покружились где-то над передним краем и улетели.
В 11 часов 57 минут поступило поздравление командира батареи и следом команда:
– «Филин-один»... по местам... цель номер шестьдесят один... батареей... восемь снарядов... беглый... огонь!
Салют имел свои правила. Наводка орудий не восстанавливалась. Все усилия расчетов направлены на то, чтобы выдержать темп. В клубах дыма мелькают языки пламени. 1-e орудие чуть подалось на сошниках. 2-е тоже. Стрельба продолжается.
«Стой!» Расчеты бегут в укрытие. Курят, посмеиваются: Вот так праздник! Должно, досталось фашистам!» – слышались реплики. Некоторые орудийные номера высказывали сомнения относительно эффективности огня по цели № 61. Замполит разъяснил: главное – показать противнику, что 231-й КАП отметил свою годовщину и готов сражаться, как прежде.
Утро 20 августа. Батарея ведет огонь. В 10 часов с НП поступило сообщение: на участке Калиновка – Обиходы противник перешел в наступление. Я заглянул в бланк записей. Дальность стрельбы не менялась. Было похоже, что наша пехота удерживала свои рубежи. Западнее городка беспрерывно грохотали выстрелы гаубичных батарей.
В 15.00 лейтенант Миронов подал команду «отбой!». Расчеты приводили орудие в походное положение, грузили боеприпасы. Прибыл командир батареи. Обстановка ухудшилась. Пехота отходит. Миронов ознакомил командиров взводов с задачей батареи и уехал.
Орудия выходили из сада. Лейтенант Свириденко управлял флажками. Одевая на ходу скатки, расчеты занимали свои места. Колонна заканчивала построение. На тротуарах толпились жители.
– Внимание... по местам!
Команды достигли головы колонны. Прекратились шум, у беготня. Впереди цепочки номеров, рядом с передками флажки командиров орудий, сигнал «готов к движению». Я намеревался подняться в кабину, когда пришел замполит Елисеев. В руках лопата.
– Товарищ лейтенант, задержите орудия, я хочу сказать жителям города несколько слов на прощание.– И к горожанам: – В благодарность за гостеприимство вашего города мы заровняем борозды, оставленные орудиями. Помните нас. Мы вернемся. До свидания!
Расчеты спешились. Замполит засыпал у ворот следы гусениц и вернул лопату хозяину. Загудели двигатели. Колонна тронулась. Тяжелые тягачи, стуча гусеницами по булыжной мостовой, набирали дистанции.
Толпа на тротуарах росла. В глазах женщин слезы. Зачем они плакали? Вспомнились родные лица мужа, сына, брата? Или в этих слезах извечная тоска славянской женщины по воину, след которого затерялся в круговороте войны?
Солнце склонялось к закату. Было прохладно. Свежий ветер гнал в небе серые тучи. Кружили стаи голубей.
В конце улицы, которая пролегала вдоль речки, шли орудия. На щитах белый знак полковой эмблемы. Это 4-я батарея. Замыкающее орудие 5-й миновало водяную мельницу ровно в 16.10, как предусматривалось приказом на марш.
* * *
Соединения 15-го CK, 9-го и 19-го МК ценою больших усилий продолжали сдерживать противника. Борьба порою носила крайне ожесточенный характер. Малинская группировка противника – 51-й армейский корпус – преодолевала один рубеж, наталкивалась на следующий, все ее попытки сломить сопротивление наших войск оставались безуспешными.
События в полосе Юго-Западного фронта, как и на севере, по ту сторону Припятских болот, подошли к новому этапу. Главные силы группы армий «Юг» достигли среднего течения Днепра. 6-я немецкая армия атаковала Киев. Дальнейшее удержание Коростенского укрепленного района становилось нецелесообразным. Правофланговая группировка войск 5-й армии оставила Коростень.
17-й и 51-й армейские корпуса противника значительно превосходили в численности наши войска [57]57
«В основе наступления против 5-й армии лежал замысел прорвать фронт противника севернее Ксаверова. Войдя в прорыв, 17-й армейский корпус должен был силами 11-й танковой дивизии нанести удар в направлении на Овруч с целью отрезать западной группировке противника пути отхода на восток, а 51-й армейский корпус – повернуть в восточном направлении и блокировать восточную группировку противника с севера. Таков план уничтожения этих сил. Всего для участия в наступлении выделялось девять пехотных дивизий и одна танковая. Им противостояло в общей сложности до двадцати соединений дивизионного масштаба, из которых шесть танковых не имели машин». (Филиппи А. Припятская проблема. М., 1959. С. 109).
[Закрыть]. Ситуация до крайности осложнялась тем обстоятельством, что господство в воздухе безраздельно принадлежало немецкой авиации. «Юнкерсы» подвергали массированным ударам боевые порядки наших войск и пути отступления.
В двадцатых числах августа вероятность того, что противник прорвет оборону, внушала больше опасений, чем когда-либо прежде. Как выйти из этого положения? Командующий войсками 5-й армии приказал контратаковать противника на рубеже Недашки – Ксаверов – Охотовка. Операция готовилась очень тщательно. И вот измотанные, обескровленные войска перешли к контратакам.
Воюющие стороны меньше всего страдают склонностью к преувеличениям в оценке действий противника. Бывший офицер генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал А. Филиппи пишет: «Русская 5-я армия ускользнула из окружения, отойдя за Днепр. Как и прежде, эта армия противника сумела, усилив сопротивление с фронта, ввести в заблуждение командование действующих против нее немецких соединений и скрыть подготовку к отходу, чтобы затем внезапно отступить на всем фронте» [58]58
Филиппи А. Припятская проблема. С. 111.
[Закрыть].
* * *
Началось отступление на следующий оборонительный рубеж по реке Припять. Войска строго соблюдали правила маскировки, двигались в ночное время. Исключение составляли отдельные подразделения и части, прикрывавшие общий отход, как, например, 2-й дивизион. Он поддерживал на переднем крае пехоту и вел огонь до последней минуты.
Ближайшая цель марша 231-го КАП – Чернобыль, город у слияния рек Уж и Припять. К 6.00 21.09.1941 года 2-й дивизион должен сосредоточиться в районе чернобыльского кирпичного завода. О том, что произошло дальше, читатель прочтет во второй книге воспоминаний.
Послесловие
Читатель познакомился с жизнью небольшого приграничного гарнизона монастыря Зимно в его последнюю мирную неделю, с теми обстоятельствами, которые предшествовали открытию огня, а затем сопутствовали 92-му ОАД в боевых действиях в первые й последующие дни войны, а также со службой автора в 231-м КАП.
После опубликования первой книги я стал получать на адрес издательства письма от бывших фронтовиков и гражданских лиц, главным образом тех, кого интересует начальный период войны. Больше всего их волновал вопрос о том, почему военнослужащие подразделений и частей, дислоцированных в приграничной полосе, беспечно взирали на происходящее? Мы – должностные лица – не приложили достаточно усилий, чтобы убедить старшие и высшие командные инстанции в опасности неминуемой войны.
Что же, в недоумении спрашивали эти люди, руководство не считалось с общественным мнением, той силой, которая ведет без малого полвека успешную борьбу за мир? Не хочет же автор сказать, что борьба за мир – это кампания, преследующая еще какие-то цели? И как же так? В хозяйственной деятельности, когда срывается выполнение плана, рядовые сотрудники бьют тревогу и заставляют администрацию исправлять ошибки, она идет навстречу общественному мнению. Но это всего лишь производственный план, а тогда, в канун 22-го июня, речь шла о войне, великом бедствии, поглотившем 20 миллионов жизней.
Недоумение читателей нельзя отвергать безоговорочно. Автор согласен, оно в какой-то части оправдано.
Дело вот в чем. Человеку кажется, будто личные интересы ему ближе общественных. Во многих случаях это действительно так. Теоретики, призывающие индивидуумы к самоограничению в пользу общества, сами предпочитают поступать наоборот.
Чем объясняет автор свою позицию в таких вопросах, как отвлечение людей орудийных расчетов от огневой службы? По существу, 3-я батарея – он признает – не была полностью приведена в состояние боевой готовности. Должностные лица принимали сложившееся положение вещей с безразличием, которое воинские уставы трактуют как действие наказуемое. В ведении автора состояла большая часть целого подразделения – вторая полубатарея, по делению, которое применялось в артиллерии старой русской армии. Он нес ответственность за боеспособность огневых взводов. Он не проявил должной настойчивости перед непосредственным начальником в решении насущных вопросов состояния огневых взводов и батареи в целом...
Далее читатели спрашивают, почему автор, рассказывая о других, уклоняется от того, чтобы дать принципиальную оценку собственному поведению. Один из этого числа – то ли из Мурманска, то ли из Архангельска – писал: «Генерал (следует моя фамилия) часто порицает лейтенанта (та же фамилия) но как-то слегка, по– родственному...» Нет, я не уклонялся и не уклоняюсь ни в словах, ни на деле. Я описываю события так, как они отложились в памяти, повинуясь долгу перед теми, кто принес свою жизнь на алтарь отечества, и теми, кто призван это сделать, если разразится сегодня или в будущем война.
* * *
В человеческом сознании уживаются два начала – личное и общественное. Развить второе мы можем только в том случае, когда найдем путь стимулирования первого. Чем больше военнослужащий находит удовлетворения в службе, т. е. Преимуществ личного порядка, тем ближе принимает ее задачи. Поступки свои собственные и окружающих он толкует, соизмеряя с требованиями уставов.
Жизненные ресурсы военнослужащего – духовные и физические – ограничены от природы у одного больше, у другого меньше. Он расходует их, сообразуясь с запросами своей совести даже тогда, когда долг службы всецело завладевает его сознанием.
В поведении военнослужащего преобладают личные мотивы, т. е. представления о собственном долге и долге других. Орудийный номер совершает движения, предписанные ему должностью, скажем, наводит орудие. Интенсивность, т. е. быстрота, ловкость, сноровка (необходимо с большой тщательностью совмещать линии, указатели, шкалы и т. д.), выражение лица, взгляд и слова, которыми наводчик обменивается с другими номерами.– то что способствует здоровому настроению или ухудшает его,– одним словом, отношение воина к службе целиком зависит от его индивидуальной совести. Орудийный номер распоряжается собственной жизнью и жертвует ею, когда сам сочтет необходимым, независимо от мнения других номеров и командира орудия.
Воинские уставы не представляют начальникам объективной возможности со своей стороны форсировать усилия подчиненных выше какого-то номинального уровня. Дальше их полномочия не простираются, стой! Граница. За нею – дебри, внутренний мир личности, ее душа.
Начальники собственным примером «...не щадя крови и самой жизни...» побуждают подчиненных блюсти слово присяги строго и неукоснительно. Во всех делах, которые относятся к службе. Но случалось, перенапряжение духа ввергает военнослужащего в такое состояние, что он, преодолев страх смерти, не способен двинуть на рукой ни ногой. Ему необходим импульс извне.
Неправомерно обвинять орудийного номера в уклонении от службы, если, оставшись у орудия один, он прекратил огонь. Начальник может выразить ему порицание, но не более. А тот, кто станет судить о поведении орудийного номера спустя минуту или час, привносит в толкование факта субъективный элемент, потому что время ушло, обстоятельства потеряли остроту.
Автор понимает, что в дни своей недолгой мирной службы он делал много ошибок, остановился на полпути, не решил вопрос о возвращении людей до конца, в тот же час, и не обратился к старшим, как того требовали обязанности военнослужащего и должностного лица. Почему?
Настаивать дальше я не решился прежде всего из личных соображений. Не хотел навлечь недовольство командира батареи, портить отношения, еще не освоившись ни с людьми, ни со службой. Лейтенант Величко – мой непосредственный начальник, назначенный уставом, и если он счел, что тема исчерпана, продолжать разговор невежливо и нетактично. Это граничит с нарушением воинской дисциплины, норм Устава внутренней службы. Продолжать разговор значило напрашиваться на взыскание.
Свое нежелание вступать в конфликт с начальником я, далее, объяснял для себя тем, что время еще есть. Я, правда, не был в этом уверен, но мои сослуживцы – командиры взводов – вели себя именно так. Они, опытные командиры, мирились с существующим положением вещей. Мирились и старшие начальники. Штабу дивизиона доподлинно известно, что делалось в подразделениях по расписанию занятий и без расписания.
Командир батареи полагал, что бить тревогу нет причин, по крайней мере неотложных. Время терпит. Ожидается прибытие автомобилей, есть по-видимому какой-то график. Подчиненные, а значит, и вновь назначенный старший на батарее обязаны соглашаться и не обременять начальника беспочвенными, с точки зрения общего положения дивизиона, просьбами.
А если судить по совести? Старший на батарее не имел прав поступаться своими служебными обязанностями, жертвовать общими интересами только затем, чтобы сохранить внутрибатарейный мир, тот мир, который держится на недомолвках и недоделках. Гаранин знал, я знал, Величко знал, что со штатами, инструкциями и т. д. Неблагополучно. Знал хорошо командир дивизиона, так же, как и начальник артиллерии, и его начальник. И все соглашались с противоуставным статус-кво.
Мы люди, и поэтому одни часто, другие реже склонны отдавать предпочтение личным соображениям в ущерб службе; мы делаем вид, что ничего не происходит. Есть, дескать, старшие и высшие чины, пусть они приказывают, а уж за нами задержки не будет. Нам только приказ, т. е. толчок, и мы двинемся с места, а до этого, увольте, не положено, вот устав. Мы неуязвимы.
Почему? Система службы не положила границу между тем, что дозволено должностной логикой и недозволено по велению совести, самой обыкновенной, общей, одной у всех людей совести. Субъективное толкование уставных норм позволяло в ряде случаев должностным лицам подразделения выполнять свои обязанности и не портить чрезмерным рвением личные отношения.
Воинская служба, как и жизнь, явление далеко не радужное. Нужно смотреть правде в глаза. В общем взгляды, устоявшиеся в среде, которая приняла вновь прибывших лейтенантов, вовлекли их в русло существующих отношений, и они несли службу так же, как окружающие. Система подчиняет себе личность.
Неужели, спросит читатель, лейтенант бессилен в такой же мере, как сержант? Нет, не бессилен, если он противопоставляет беспорядку собственное мнение. Он найдет, должен найти понимание, ибо люди в своем большинстве – благонамерены. И затем, неприемлемых для начальников истин нет, есть только истины, которые подчиненными излагаются неубедительно.
Автор не был, по всей вероятности, достаточно твердо убежден в своем мнении по слабости общегражданских представлений и недостатку, несомненно, совести. Признание, может быть, запоздалое. Он согласен, едва ли ему представится случай использовать практически свой опыт. Автор признает собственную гражданскую несостоятельность для очищения совести и ожидает, что за ним последует еще кто– то, чтобы показать единство помыслов и устремлений воинов прошлой войны, всех – от рядового до Главнокомандующего. Вместе делили они горечь поражений и радость победы, вместе разделят недовольство ошибками и недочетами в предвоенном планировании, боевой подготовке, ведении операций, разделят поровну, по-солдатски. Они сражались во имя общей цели.
* * *
В жизни одиноких людей мало стимулов и узок мир их интересов. Может быть, поэтому многим из окружающих кажется, будто позиция этих людей недостаточно обоснована, в некотором роде – плод воображения. И они стремятся уравнять, привести их в соответствие с принятыми стандартами и таким путем оградить права личности. Подогнать коня к подкове. И эта нелегкая работа совершается с применением стульев разного рода, как правило, один на один. Точнее, в местах, скрытых от глаз публики. Почему? Из соображений безопасности. Неделикатно с помощью закона утверждать беззаконие. Ситуация на три четверти освещается следующим обстоятельством. Тот, со стулом – назову его условно товарищ Ч – статист и чистейшей воды потребитель. Ничего другого, кроме этого, он не делал, и по этой причине органически не признает никаких нестандартов. Если есть, предположим, человек, в квартиру которого, по мнению товарища Ч, позволяется стучать палкой, то он, товарищ Ч, считает, что и все прочие не имеют никаких оснований возмущаться этим, и он стучит.