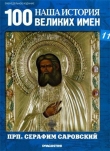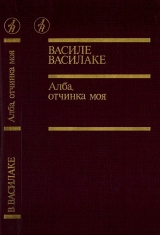
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 32 страниц)
Добродушная ирония Василаке уравнивает всех, кого он изображает, и этот тотальный демократизм не ограничивается сферой человеческих отношений, он распространяется на весь мир: растения и животных, птиц и насекомых. Камыш, муха, комар, ковыль, солнце, луна, бык, овод, пудель – ведь это все тоже персонажи Василаке! Причем индивидуализированные: у каждого свой характер, своя речь, интонационно и лексически отграниченная от любой другой речи, в том числе и авторской. Иногда, правда, за безобидным с виду лукавством проглядывает довольно ядовитая язвительность: фигура «академика» в «Сказке…» – явная мишень, в которую летят стрелы авторской иронии – издевки, задевая одновременно какие-то, очевидно, несообразности, существовавшие, когда писался роман, в Молдавской академии наук, хотя с той же вероятностью можно предположить, что насмешке подвергается некая условная «академическая» романистика, для которой каноны композиции и сюжетосложения, стилевого единства и мотивированности повествовательного потока являются «священными»; овод, зудящий над ухом бычка, – карикатура, возможно, на городского интеллектуала, осведомленного о пристрастиях «Великого Хэма» и периодах творчества «великого Пикассо», сведущего в латыни и последних достижениях генетической селекции, надоедливого, как… овод. Все это так. Но только в общем интонационном строе произведения подобные саркастические выпады утрачивают свою разящую сатирическую силу, сообщенную им замыслом автора, и волей-неволей попадают во вселенскую «республику Василаке», где все живое имеет одинаковую цену, потому что – живое. Впрочем, мертвого в художественном мире Василаке нет, мертвое – условность, призванная отделить одно качественное состояние жизни от другого. И совершенно невозможна в этом мире идея, рефреном звучащая в «Подгорянах» И. Чобану: «живые с живыми, мертвые с мертвыми».
В беседе с критиком Ал. Горловским («Литературное обозрение», 1984, № 12) В. Василаке, в частности, говорил о том, как писался роман «Пастораль с лебедем».
«Довольно давно, будучи еще начинающим литератором, я написал рассказ „Бдения по усопшему на выселках“. Мне показалось заманчивым изобразить посмертную жизнь человека, совершающуюся в сознании и разговорах оставшихся в живых. Такой своеобразный фантом: человека нет и в то же время вроде бы он есть – продолжает влиять на живущих, ссорит их, мирит…
„Сведущие“ люди, прочитав, почему-то сказали: „Это „Смерть Ивана Ильича“ на импрессионистский лад“. И… не напечатали».
Сведущие оводы…
Но речь сейчас о другом. О «посмертной жизни человека» в памяти живых – не безразличной, не фактографической памяти – в активном, заинтересованном обсуждении его жизни – как если бы он не умер, а просто совершил что-то из ряда вон выходящее. Смерть Георге Кручану – такая же загадка для его односельчан, как избиение им увечного старика, нелепая выходка, не более того. И хочется эту загадку разгадать…
«Вот помирает Кручану, и что-то заставляет всех их – близко его знавших людей – поднатужиться мыслью… чтобы непременно уразуметь намерения и поступки покойного. Неужели Кручану морочил село своей дурью? Спать спокойно не давал. А теперь будто рядом с ними сидит, на самом почетном месте, да вроде бы еще и кукиш держит в кармане… А что в его жизни было такого особенного: ну, разрушил дом в центре села и перебрался на выселки (стало быть, мужик был хозяйственный!); и вот, наконец, помер – и все?.. Может, они чего-то самого главного не понимают или недоговаривают?»
Так размышляет Тудор Бостан, жених, во время свадебного сговора, человек «активной» жизненной позиции (то есть рассудочный). В его отстраненном взгляде на происходящее яснее и четче проступают мотивы, заставляющие родственников жениха и невесты вглядываться в жизнь Георге Кручану. Не только, да и не столько желание понять, добрым или злым человеком был покойный, не только запутанная ситуация с похоронами (как хоронить, когда и где?), вызванная неясными обстоятельствами смерти Кручану: сам по себе скончался или на себя руки наложил? – не только все это поддерживает разговоры вокруг личности усопшего, но, главным образом, загадочность самой смерти как таковой, ее непонятность и неприемлемость для человека. Рассудок знает: все смертны, а душа не верит. Василаке как будто повторяет мысль Метерлинка (в «Синей птице»): человек жив до тех пор, пока его помнят. И нагнетанием споров вокруг Кручану автор повести как будто настойчиво внушает нам: все живы, пока вы их помните, и вы будете жить столько, сколько будут помнить вас. Говорите, говорите о Георге Кручану. Говорите обо всех ушедших…
Такая позиция носит высокое имя – Любовь.
«А не приведет ли такая позиция к пассивности художника? Не умалит ли активность авторского начала?» Вопрос Ал. Горловского – от лица, разумеется, вымышленного оппонента-догматика.
Ответ Василаке – от самого себя:
«Это любовь-то пассивна? Да любовь – самое что ни на есть активное чувство в мире! Все лучшее, доброе, человеческое, что было когда-либо создано людьми, рождено их любовью. Даже ненависть к врагу, ненависть к смерти, к ракетно-ядерной войне – от любви. Нет любви – нет и ненависти, а только опустошающая злоба и злобность.
Я убежден: человек всесилен лишь тогда, когда он любит, когда он добрый. Именно доброта всесильна. Это известно людям с древнейших времен.
Вчитайтесь в древнеиндийские Веды, в легенды, в народные сказки Азии, Европы, Америки, Африки, Океании – всюду животворящее и всепобеждающее начало – любовь, доброта. Доброту не философы, не Толстой или Ганди придумали, а сама жизнь».
Это не только вообще справедливое, но и важное для понимания философской концепции Василаке-художника замечание: не Толстой и не Ганди, а сама жизнь. Здесь надо только помнить, что «сама жизнь» у Василаке – это не вся жизнь, и не любая, а именно та, что являет собой основание всего многоэтажного общественного здания, опору всей разнообразной жизни.
Любовь матери к сыну – не из книг и не от проповедей, она – от самой жизни. Сила любви Анны-Марии к Аргиру («Элегия для Анны-Марии») почерпнута не в романах, иначе неизвестный убитый солдат не приобрел бы в глазах женщины облик возлюбленного: книжная любовь рассудочна, истинная – сердечна. Для рассудка все мертвое – мертвое, для сердца все, что в нем живет, – живое… Каким-то образом попал в любящее сердце Анны-Марии кенигсбергский профессор Иммануил Кант, и добрая женщина, беспокоясь, что у старого профессора, возможно, мерзнут ноги, посылает ему шерстяные носки! Смешно? Может быть. Но это тот случай, когда от смешного до великого – один шаг…
Вновь вспоминается то давнее суждение Иона Друцэ об отличительных признаках прозы Василаке: не только о лукавстве как методе исследования действительности шла речь…
Друцэ говорил о Василаке как о сатирике!
Любовь-доброта и – сатира?!
«Сатирик по природе своего дарования, Василаке, прикрываясь замысловатым орнаментом народного лукавства, высказал довольно много горьких истин, и это представляется мне принципиально новым для молдавской литературы, литературы, склонной больше к воспеванию, чем к трезвому анализу».
Даже учитывая «срок давности» приведенного высказывания, хочется все же заметить, что если лукавство выступает в виде орнамента, скрывающего истинные намерения автора, то это уже не метод исследования, а способ маскировки… Дело, впрочем, не в этом. Гораздо существеннее установить, что имеется в виду под «горькими истинами» и в чем конкретно проявил себя «трезвый анализ» в «Сказке про белого бычка».
«Сатирик по природе своего дарования»… Значит, искать «горькие истины» следует, видимо, среди тех явлений, которые помечены черным цветом отрицательности. Какие же это явления?
Что в селе бывают драки, пересуды, оговоры, сплетни – далеко не новость, и Василаке, по-видимому, ничего здесь не открыл. Тем более что и драки-то у него какие-то чересчур уж мирные, и пересуды бабьи скорее способ общения, чем стремление испортить кому-то жизнь. А может быть, в том горькие истины, что иной молдаванин любит поспать, что крестьянина – было время – в городе обманывали? Или в том, что бывший банк переделан в клуб, где молодежь веселится так, что со стен сыплется штукатурка, а сельский поп обслуживает сразу три церкви и носится на мотоцикле с таким сатанинским треском, что верующие поневоле впадают в грех сомнения? Конечно, ничего отрадного нет в этих явлениях, однако нет в них и новизны, которой светится всякая открытая, доселе неведомая истина.
Так что же, не прав был Ион Друцэ? Нет, и с этим предположением согласиться нельзя, потому что… да потому что у Василаке есть Ангел Фарфурел и Тудор Бузэу; есть безымянная учительница, у которой дети не знают, что такое корова…
Помните эту озорную многоголосицу, когда Белого окружила детвора?
«– Дети, дети! Не подходите, на нем могут быть микробы. Только поглядите и скажите, что это такое.
– А что вы видите?
– Действительно, что это?
– Живое существо?
– Животное!
– Скотина!
– Скот…
– Тварь…
– Видали ли что-нибудь подобное?
– Я видел!.. Я был с папой в зверинце.
– Некрасиво говорить: „я, я“. Надо говорить „мы“, сколько раз вам повторять! Итак, кто может описать его?
– Мы.
– …Теперь немножко послушайте меня… Значит, сто лет тому назад он служил нам вместо трактора…
– Елена Ивановна, а откуда у него выходил дым?
– Беретик, беретик, ты мне сначала скажи, откуда берется огонь?
– Из печки…
– Из костра…
– Ведь мы говорим о тракторе! Со дна Каспийского моря. Да, да, дети, оттуда мы добываем нефть, то есть бензин, а что такое бензин, если не жир? Ну-ка, скажите, какой бывает жир?
– Животный! – хором ответили беретики.
– Больше всего рыбий. Теперь скажите, чем питается это животное?
– Жиром!
– Травой… А что такое трава?
– Жи-и-ир…
– Тити, куда ты лезешь, Тити! Отойди, маленький, а то он бодается и лягается… Итак, это животное является…
– Елена Ивановна, а почему он не как трактор?
– Опять ты, Тити!.. Значит, деды и прадеды его влачили ярмо. Но то было давно, при царе Горохе. Теперь же машины производят машины. Это дело рентабельное, чистое…
– Елена Ивановна, а какая машина его родила?»
Это говорят «пришельцы», люди из другого мира, но угроза существованию мира вековых равных ценностей, где главенствует «роевое» начало (все врозь и все вместе), где высшая культура – это культура чувств, – такая угроза в голосах «племени младого, незнакомого» звучит явственно. И предвещает – может быть, уже скорый – конец «горизонтального» жизненного уклада и «возвышение» его по вертикали ценностей иерархических, где что выше, то и ценнее и где понятия «ценность» и «цена» превращаются в тождественные. Некая угроза для демократизма села Ааму чувствуется в поведении выросшего до почтальона бывшего пастуха Ангела Фарфурела, в котором бесовского, конечно, больше, чем ангельского, ибо тот, кто готов «душу отдать за мотоцикл», утрачивает человеческое естество. Но безродный Фарфурел – тоже своеобразный пришелец в селе Ааму и не так опасен. Он – вроде бородавки на здоровом теле. Другое дело – Тудор. Он свой, но уже ставший чужим. Вот этот может разрушить. Что именно? Все. Его понимание ценностей человеческих сформировалось в мире «вертикальном», и он не в состоянии уразуметь, что заставляет его родственников в смерти Георге Кручану находить все новые и новые загадочные моменты и пытаться понять, что за человек был этот Кручану. Как за спасительную соломинку хватается Тудор за легенду об атамане Хынку, который был якобы предком Георге: ценность Кручану как личности резко увеличивается благодаря родству с исторической фигурой атамана. Рассуждение Тудора по этому поводу есть характеристика сознания, в котором для живущего простой трудовой жизнью человека нет оценки выше нуля:
«С одной стороны, простой смертный, колхозник Кручану. С другой – неизгладимые свидетельства славы былой. И все же что-то общее есть между ними! Кто же из нас с малолетства не мечтает о славе и подвигах! А живем мы чаще всего в наивной и мелкой суете повседневности, ненавидя или любя ближних своих: соседа, жену, любовницу, милиционера или какого-нибудь там Василе Кофэела… И помираем мы, как правило, тоже примиренные с прожитой нами жизнью и с мыслью примерно такой: „Какая там, к черту, слава? Живешь, как трава, так же и увядаешь. Неужели это истина?“»
Это рассуждение прекрасно дополняется рассказом Тудора о приятеле его, Гарике Хлябинском, который прославился тем, что за любовь к корриде (всякая на свете есть любовь!) «одна прогрессивная миллионерша напечатала его фамилию на афише, среди известных матадоров Испании!» Гарик обещал Тудору приехать на свадьбу и устроить в селе показательную корриду…
Ценностная ориентация Тудора Бузэу решительно отличается от той, какая сложилась у его родственников, не бывавших не только в Испании, но и в Кишиневе, и не испытывающих ни малейшего неудобства от такого своего географического невежества.
Не случайно Тудор посягает на народные обычаи и обряды: его «новое» сознание рождено жизнью, иной, чем жизнь далеких и ближайших предков. И в этом сознании непримиримость к «инаковому» толкает к действию силы разрушительные…
«…Иногда мне кажется, что другой теперь пошел „сорт людей“. Исхожу, конечно, из собственных впечатлений».
Дедам и родителям нашим свойственны были труд, послушание и умеренность, а сейчас сын может схватить отца за грудки: «Хватит учить, я сам ученее тебя!» Наблюдал я в родном селе такую сценку: стоит мой шестнадцатилетний племянник посреди двора и тягает двухпудовую гирю. Мать в это время картошку пропалывает в огороде, просит: «Помоги, Ленечка!» А он в ответ: «У меня домашнее задание, мама, готовлюсь по физкультуре!»…
И не в том беда, что подрастает еще один бездельник. Настоящая беда в том, что формируется сознание, в котором диалектическая первооснова жизни (все вместе, все врозь) распадается и остается только: все врозь…
Эти «горькие истины» Василе Василаке горьки для всех.
Так из чего же этот мир?
Из людей и из любви.
Но дальше следует вопрос, с которого начинается любое исследование жизни: что представляют собой люди и что есть их любовь?..
Валерий ЛЫСЕНКО