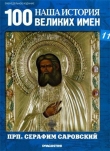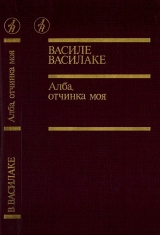
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Между тем в совхозном Доме культуры продолжалась лекция, только теперь лектор словно поменялся ролями с Ангелом. Слушал и подумывал: «Черт возьми… Н-да, не мешало бы поближе познакомиться. Интересно, сколько ему лет?»
В это время кто-то из зала, с задней скамейки, выкрикнул:
– Эй, дядя, чего развоевался?
Его поддержали:
– У нас лекция про культуру, затихни, пенсионер!
И в самом деле! Ангелу вот-вот стукнет… если он был комсомольского возраста к пятидесятому году, то сейчас…
А тот знай свое, как глухарь на току:
– «Достигнутая цель… Я должен добраться ТУДА, – сказал он себе, глядя на вершину скалы». Такое я прочитал в газетной вырезке, которую подсунул мне Мэлигэ. Прочитал и задумался. Когда я был юным, я, как и все юнцы, тоже был глупым. Я смотрел на жизнь не как остальные, моим идеалом стала вершина скалы: не иметь, не владеть, а взобраться и властвовать! Что за власть у пастуха? Над жвачными, не более. И я поставил перед собой цель. Вот ОНА, цель, трижды будь неладна! – И ткнул в свою двухпудовую обшарпанную почтальонскую сумку. – Вот вам моя скала, наяву. А ведь я мечтал о ней, ненаглядной! Как мечтал – днем, под палящим солнцем, и ночью, под звездами. Думал: станешь ты, Ангел, почтальоном – ах, какая жизнь тебя ждет! Разве сравнить, товарищи, деревенского пастуха с государственным служащим? Скажем, служащим сельпо… Из окна его конторы видны все четыре холма нашего селения, виден и шашлычный дымок, что вьется из буфета, и председатель сельпо товарищ Крэсэску, и передовой заготовитель Синькин-Тюлькин. А часикам к трем-четырем после обеда раздается знакомый звук – пробка из бутылки, Синькин угощает шампанским – опять получил километр индийского тюля. А это – план, это заготовка яиц и шерсти для городского населения… Пастух же, дорогие мои, торчит под деревом с подбородком, мокрым от слюны и невольных слез одиночества. Он представляет, как бухгалтер с ведомостью приближается к Синилькину, а значит – праздник для души, и дымится шашлычок, и капает с него соус… Так в результате долгих раздумий я решил стать почтальоном. Зарплата ему идет – раз, трудодни – два, причем твердое количество, а не по «выходам» в поле. Живи – не хочу, правда? Повторяю, я был тем, кто торчал под деревом в слякотной мечте. А что из этого вышло, товарищ лектор? Вот, тащу на своем горбу, – опять приподнял он набитую почтой сумку, – этот земной шар… попробуйте, товарищ лектор.
Лектор улыбнулся, и Ангел бросил небрежно через плечо:
– Я бы на вашем месте не улыбался. Суете нам какой-то театр без крыши и камерное компотничанье и улыбаетесь? Я дитя и внук пролетарской массы. Мог бы обратиться куда следует! Но не буду… Лучше ответьте конкретно и убедительно на одно актуальное недоумение: почему наш заготовитель утильсырья имеет право проехать на буланом, в блестящей сбруе, на новых дрожках, а почтальон все это, – Ангел остервенело пнул свою сумку, – должен таскать на горбу! Где это видано? Япония давно ракетами отправляет почту! Я же не прошу ракету. Дайте мне лошадь! Или пусть разрешат, в крайнем случае, нам вместе пользоваться транспортом. Впереди – Василий Тюлькин, сзади – Ангел Фарфурел с почтой, а в упряжке – красавец буланый. Поколесишь этак по селу – и не захочешь, а призадумаешься: как славно сейчас в поле! Коровы себе пасутся, травку жуют… Воздух – хоть пей, чище не бывает… аромат цветов… а в котомке бренчат консервы-ассорти, а в термосе булькает кофейный ячменный напиток львовского производства. Пикник, понимаете? Настоящий пастух теперь одно знает: пик-ник-чи-кает!.. Вот, газета пишет: «Чабан в районе Чадерлунга едет за отарой в собственной „Ладе“». А я кто, согнутый в три погибели?
Тут лектор очень вежливо, по-интеллигентному, вмешался:
– Простите, может, позволите, я закончу лекцию? Потом и о вашем вопросе побеседуем, по поводу пикника…
– Вы меня тоже простите, я недолго… А пока подумайте, как рассеять мои сомнения… Да, товарищи, в далекой юности твердил себе: «Я должен взобраться на скалу!» – Ангел поднял сумку, как трофей, добытый в жарком бою. – Вот она, моя скала! Добрался… дополз… докарабкался!.. И, достигнув заветной цели, я крикнул тем, что остались внизу: «Не забудьте меня!» А они взяли да забыли.
Он вытер разгоряченный лоб.
– И кто бы, вы думали, заронил первое сомнение? Не кто иной, как наш труженик Мэлигэ! Приношу ему почту, вижу, у калитки маячит, дожидается газеты, думаю… А он вместо «здравствуй» первым делом сует этот клочок бумаги, по поводу моей скалы… Прочел я, спрашиваю: «Это к чему, старик, по какому поводу?» Мэлигэ вместо ответа стянул с головы шапку и давай передо мной театр разыгрывать, под самым что ни на есть открытым небом: «Шапка моя дорогая… Вот скучища какая! – говорит. – Ангел, дурень, ничего не понимает… Молви хоть ты нашему славному почтальону ласковое словечко. Как, молчишь? Ну смотри, буддистка ты моя, домолчишься до второго пришествия. Вот возьму да выброшу… Или посажу в тебя цыплят из инкубатора, пусть пищат, как в родимом гнезде, – нет у них, бедных, мамы-квочки, как и у Ангела…»
Ангел отодвинул сумку в сторону, чтобы обоих видно было, и его, и сумку.
– Мой Мэлигэ-Беллони заговорил загадками. Подхожу к нему вплотную: «Старик, признайся, хочешь вместо газеты корову?» Как сейчас помню, – вздохнул Ангел, – пожалел он когда-то куска веревки со своей коровы на общее дело… Товарищи, я с собственным кнутом расстался, чтобы привязать к забору его быка! Видит Беллони, подцепил я его старыми грешками, и в ответ: «А чем я твою корову кормить буду, газетами?» – «Ага, значит, согласен? – допытываюсь. – Пойду к председателю и прямо скажу: „Сено! Дайте сена! Колхозник заболел. Курить бросил, хочет хоть сухую травинку в зубах подержать“. Понял, Беллони! А получишь сено, и до коровы рукой подать». Мэлигэ крякнул: «Тэ-э-экс!» Бац! – опять нахлобучил шапку до ушей и носа не кажет, будто сусликом в нору юркнул. Ну, думаю, долго ты там? Сдохнешь ведь, на улице август, листья еще зеленые. Но он, товарищи, выдерживает… Вижу, качается, как от зубной боли. Может, что вернут корову, от которой сам давно отказался? Неужели решил задушить себя, протестуя против частной собственности?.. Вы слушаете, товарищ лектор? – И вкрадчиво, будто между делом, спрашивает: – Простите, вы откуда будете?
– Из общества «Знание».
– А-а, я думал, из Академии наук Молдавии. Небось у вас так не принято?
– Что вы имеете в виду?
– Ну, чтоб с собственными шапками беседовали. Я догадываюсь… то есть я предполагаю: для Мэлигэ шапка – все равно что отдельный кабинет для Маргарет Тэтчер, когда, скажем, удаляется поразмыслить, почему от всех доминионов британской империи остался лишь остров Джерсей… В Англии женщины – это ее мужчины, товарищи! Как и в других частях света, впрочем…
Зал словно прорвало – и ногами затопали, и все коленки ладошами отхлопали, причем в лад, на «бис», будто на концерте. Не поймешь – то ли сорвал Ангел лекцию, то ли изюминки к ней подбавил, как в настойку кваса… Заведующая Домом культуры, известная вам вегетарианка и жена баяниста, терзалась сомнениями: как воспримет это приезжий лектор? Он ведь еще молод, почти как ее кудрявый баянист… Как отзовется о местном культурном уровне и о самой цитадели культуры, за которую она отвечает? Если что не так – боже, ее же вызовут отчитываться… Вдруг попросят заявление подать? А у нее здесь домик и баянист, пусть и моложе, но любит…
Да, ответственность придется брать на себя. Где сторож? Милиционера беспокоить, конечно, не стоит, время позднее. А что, если повесить снаружи замок? И заявить: в зал проникли без ее ведома, и что там творилось – она не в курсе. Может, открыть пару огнетушителей и симулировать пожар? Нет, хлопотно. Как за них взяться-то, за эти огнетушители? Поискала глазами сторожа, схватила под руку и потащила к выходу. Тем временем Ангел вскинул руки:
– «Сейчас или никогда! Отвечай!» – кричу я Мэлигэ. Подхожу близко, впритирочку, на ногу даже наступил и кричу ему в шапку: «Старик! У нас сервис! Раньше я на газеты подписывал, теперь – на сено! Прошу отвечать!» Вижу, стягивает шапку, чинно, медленно, как на отпевании. Снял наконец, на меня и глазом не поведет. Уставился на старую рухлядь – как еще Анфиса ее Синилькину не сдала? Потом наклоняется, точно бык под ярмо, и бубнит под нос: «Ангелаш дорогой… не побрезгуй, будь добр… как сына родного прошу. Посмотри на макушку. Ничего там не замечаешь?» Вижу, товарищ лектор! Вижу, у него – лысина! Гладенькая, как детская попка, и размером, ну… – Ангел запнулся, вспоминая, – знаете, с апельсин величиной. Из тех апельсинов, что красуются на ВДНХ. И представьте, товарищи, совершенно такого же цвета!
Тем временем сторож Дома культуры, вооруженный, как в преданиях, посохом, и заведующая, поправляя на ходу прическу, проскользнули на цыпочках в дверь, чинно, чтобы не потревожить зрителей. Ну, ни дать ни взять – пара влюбленных… Так же бесшумно, двумя бесплотными тенями, проникли они за кулисы, где на старой портьере сладко прикорнул баянист. Надо было поскорее извлечь Ангела со сцены.
– Слыхали, дед Ерофте, – зашептала заведующая. – Вот бессовестный, что мелет? Апельсиновые лысины! На единственной нашей сцене! Стоит намекнуть Ивану Ивановичу, участковому, останемся на пятнадцать дней без газет.
– Мы его в «трезвиловку» упечем, – сурово высказался дед Ерофте.
Наготове были и извинения перед незнакомым лектором: «Он у нас с приветом, видите ли, непризнанное дарование… С малых лет бредит сценой, всеми правдами и неправдами, норовит попасть под огни рампы… Простительная слабость, мы уже смирились. Примите как представление в вашу честь, вроде театра одного актера».
Ангел же тем временем…
– Тут я изрек в волосатое ухо Беллони: «На твоей макушке великая лысина, старче! Истину глаголю – великая, как пустыня Каракумская, ей-богу! – говорю. – Попусту тратишь серое вещество, зря напрягаешься»: А он в ответ: «Не в том дело. Понимаешь, Ангел, говорит, куда подевалось все новое? Не могу найти, ни в старой газете, ни во вчерашней. Ночи напролет читаю, читаю, читаю… И не хочу я никакой коровы. Было у меня утешение – две дочки, теперь их нету, дом пустой… А что до коровы, то у меня и так по всему дому железные сиськи. То есть краны! Куда ни ткнешься – кран от воды, кран от газа, кран от бочки, кран от вентиляции… Просьба есть к тебе, Ангел, подпиши меня на шляпу, видел у Тюлькина-Синилькина! Мотылек, что ли, называется?» – «А-а, говорю, „панамка“, дядя!» – «Во-во, точно, панамка, – обрадовался дед. – Ах, что за головной убор! Вот бы ее сейчас, эту белую шляпочку… проклятая жарища! – И придвигается ко мне вплотную, товарищи, под руку берет: – Не слыхал, Ангел, как там дела, в Панаме?» И опять нахлобучил свою потертую. «Знаешь что, говорю, ты меня не провоцируй… Культурно прошу, образованно ответь: чем-ты-не-до-во-лен? Скука одолела? Или старость? Пойдем, бадя, к нашей доске с мелком, выскажемся там письменно и от души».
Зал разразился веселым хохотом, и ладоши опять застучали по коленкам. Из-за трибуны возникли вдруг заведующая и сторож с посохом. Подхватив Ангела под руки, они раскланялись и, кивая, попятились к кулисам.
С грустью смотрела на сцену Деспина, любящая Ангела Деспина. Она вдруг сникла, как подсолнух в жаркий июльский полдень, когда грейдер или борона волочит его по влажной черной земле.
Сторож и заведующая Домом культуры вели Ангела за кулисы, как санитары из «скорой помощи», заведующая что-то нашептывала ему на ухо, казалось, даже поцеловала, как старый актер, готовый ради восторгов публики облобызать на сцене заклятого врага.
Хотите знать, что она шептала?
– Иное прошлое не дает вам покоя! Бегите домой, постоялец, оно там дожидается!
– Мельник вернулся?! – опешил Ангел.
– Сказано вам: бе-ги-те!
Какой сыр-бор можно раскочегарить вокруг одной ветряной мельницы и ее сбежавшего хозяина! Правда, когда в ней появился новый жилец, он и представить себе не мог, что за жизнь ему там уготована.
Но сначала договорим о мельнике. Дурнем оказался, верно Ангел его припечатал. Посудите сами: вкалывает человек день-деньской, все «до хаты» тянет, копит-копит, аж сундуки норовят лопнуть, и в конце концов становится последним скупердяем. Все оттого, что из голытьбы вышел. Известно, выбьется в люди какой-нибудь приказчик, и не узнать – такой стал рьяный хозяин, за копейку душу вымотает. Оно и понятно: голытьба на все пойдет, только бы отлипло от нее старое прозвище.
А вышло так потому, что совсем еще мальчишкой женился на вдове-мельничихе. Та, не таясь, души в нем не чаяла, пылинки сдувала – парень был на полтора десятка лет моложе, и такой красивый, сильный, работящий… Ну как не съесть такого глазами? И ела – не отпускала от себя ни на шаг: и путешествовать вместе, и фотографироваться, а если дома оставалась – только с ним, и притом взаперти.
Молодой мельник тоже был себе на уме: ничего, дай в силу войти, выдержим и такое – да и свое возьмем! Похороню эту, женюсь на другой, только уже теперь пусть жена будет помоложе лет на пятнадцать. В конце концов, мельница моя, это уж точно! И да простит бог за недостойные мысли, но хочу еще иметь детей, а то моя благоверная… Да, пошла по врачам, по семь раз на день капает валерьянку и пьет с настоем из двенадцати трав. Похоже, ни на что больше не годится.
И вот приходит сорок четвертый год, март месяц. Весна, обновление жизни, а тут бомбежки. И ночью, перед самой эвакуацией, прелестница мельничиха не выдержала расставания со своим добром: сердечный приступ хватил ее; и молодой мельник – вдовец! Куда уж тут уезжать, похороны справлять надо. Кинулся за попом – нет его, зовет дьякона – и того след простыл. Ну хоть бы певчего, по прозванию Лаптеакру, то есть Кислое Молоко, – как на грех того отправили в обозе с церковной утварью. Неспроста, видно, в народе поговаривают: от мельницы до нечистой силы рукой подать. Пришлось хоронить светлую мученицу без отпущения, соборования, с головы до ног в грехах.
И как не взвыть мельнику, когда вскоре сельская голытьба зашумела: «Да здравствует свобода и свободный труд!» Ладно, если за душой ломаного гроша нет, а когда прямо в руки плывет все, что душенька желает? – и вдруг, как во сне, испарились хоромы с сундуками.
Помнится, ступив за порог своего нового пристанища, Ангел даже воскликнул:
– Братцы! Да это же настоящий королевский дворец! Тут и ниточки нельзя тронуть… Потрясающий музей бесплодной и побежденной буржуазии! Как новый заведующий, за сохранность ручаюсь. Вот дурень мельник, и где теперь шатается? Неужто меня караулит? Стукнуть бы его башкой об его же сервант: «О чем думала твоя голова садовая? Эх ты, шляпа… Сидел бы себе в холопах, зачем женился на буржуйке с таким приданым? Переждал бы немного, потерпел, – видишь, как живо все утряслось. Эх, бедняга. Подкачало твое чутье на обстановку. Да и сбежал по-глупому. Вынул бы ключи от мельницы, отдал народу, покаялся. И спал бы со мной рядом, на пуховой перине, по-барски, а не на соломе».
Вероятнее всего, и сам мельник об этом подумывал – да, брат, дал маху, поспешил сделаться собственником… И рад бы в «Новую жизнь», да пастух не пускает…
Ангел же поначалу зажил припеваючи! Не остался Ангел в обиде на мельника – за воротник с неба не каплет, – тут тебе и кровать, и стол, и зеркало, и нож, и ведро, и миска, да и ложка к ней. Короче говоря, есть к чему руки приложить, есть откуда поутру уйти и куда вечерком вернуться. Хотя того пальцем не тронь, этого не передвинь…
– Это еще терпимо – «руками не трогать», – продолжал Ангел. – А выключишь свет – глаза не сомкнуть, так скрипит колесо…
Действительно, чуть пробежит ветерок, по всей округе разносится скрип. Раньше за мельницей такого не водилось, и крестьяне качали головами: «Ну, Ангел, занесло тебя в гиблое местечко… Это ж мельник-чертяка на тебя ополчился! Погоди, он еще всю нечисть созовет, чтобы тебя оттуда выкурить-вытурить…»
Ангел только посмеивался, атеист:
– Какая нечисть, граждане! Какой еще там мельник и черти-дьяволы! Буржуазии конец пришел, товарищи. Вот с зеркалами как справиться? – И вздыхал сокрушенно: – В доме лишний раз не двинься. Сто шестнадцать – вы такое видели?! Зеркальный сундук, честное слово, а не дом, – зеркало в зеркале, и отовсюду одно-единственное твое рыло в зеркальных водах… Куда ни повернись, из каждого угла, с каждой стенки и простенка на себя надвигаешься. И вроде не ты, а кто-то другой остановишься, и те сто шестнадцать тоже замрут… И этот другой не кто иной, как я сам! На себя самого собственной же персоной и надвигаешься, товарищ дорогой! И при свете дня, и ночью, при электричестве… Ух, как вспомню – жуть… Моя воля – разнес бы это буржуйское царство вдребезги. Но вы не волнуйтесь, я верен своей миссии и помню о вашем великом решении на колхозном собрании… Да пусть стоит в веках дом мельника-эксплуататора, чтобы и дети наши его видели.
Казалось, всю жизнь мельничиху донимала одна забота (детей-то не было!) – как бы накупить побольше зеркал. Каких здесь только не было – круглые и квадратные, овальные и треугольные, новехонькие и старые, потускневшие, бельгийские и французские, – и не было двух одинаковых.
Долго не давала покоя загадка, зачем в доме столько зеркал, пока наконец в один прекрасный день не вбежал на мельницу Кирикэ, бывший подпасок. Если помните, его приставили к Ангелу телохранителем, а на случай засады – чтоб был за связного. Влетел – и с порога:
– Бадя, я такое узнал! – и пыхтит-отдувается.
– Что ты узнал? – насторожился Ангел.
– Знаете, эта мельничиха… Говорят, она… – И вдруг шепотом, вытаращив глаза: – Любила смотреть… И еще разденется и бродит по дому, в чем мать родила! Ух! Эх, бадя… Были бы у меня ваши кудри и ваши глаза. Ух, как я любил бы девушек. Придет, скажем, сюда одна, подсядешь к ней, обнимешь… раз! – оглянулся, – а их тут сто, целый полк целуешь сразу! Во дела…
Само собой, девушки и без того не обходили мельницу стороной. От матери да от соседок наслушались, как выкрутасничала мельничиха и почему на глазах всего села восковой свечечкой истаял мельник. У кого после такого, простите, не разыграется воображение?
И скоро по селу поползли пересуды. О чем еще кумушкам, замужним и по уши завязшим в хозяйстве, почесать языком?
– Вот и я говорю, не везет, не везет, а как повезет – не знаешь, что и делать! Ты только посмотри на этого Ангела…
– Тише ты, кума! А то как пульнет сейчас – вон, пистолет на боку, видала? Помнишь, поклялся с мельника кожу содрать и себе рубашку сшить…
– О-го-го, да мельнику, видать, конец пришел?
– Ты что? Почему?
– Да вчера в новую рубашку вырядился!.. Однако не больно-то рад, по лицу вижу – мается парень. Небось скучно, все один да один… Что, если мы сейчас…
– А что? Точно! И колесо крутится… Давай-ка для виду в подоле зерна понесем, вроде для цыплят смолоть.
И уже в два голоса:
– Здрасьте, Ангелаш!
– Добрый вечер…
– Добрый, да кому как, – бурчит под нос Ангел.
Неужто недоволен, что другой теперь пылит кнутом по дороге? А он торчит в воротах мельницы в полосатой пижаме – буржуй буржуем.
– Вы о чем там шептались? Обо мне, да?
Кумушки смутились: откуда он знает? Или тоже с нечистой силой спознался, как на мельницу переехал?
– Да нет, что вы, Ангел, все о делах… Видим, колесо вертится, а пока дождешься от колхоза зерна на крупу…
– Были в буфете, так хлеба еще не завезли, думаем, не мешало бы смолоть немного кукурузы…
– А вы зашли бы, уважаемые, глянули на это колесо – скрипит, да и только. Пойдемте, посмотрите.
– Благодарим, Ангел, недосуг: дети дома и дел по горло.
Слово за слово, отошли от мельницы, свернули в какую-то улочку. Вдруг та, что постарше, толкает куму в бок:
– Э, постой-ка… Да к нему еще одна – вон, гляди!
Прилипли к забору, и впрямь – от Трех Колодцев поднимается не то девушка, не то замужняя, не разберешь, мелькают в щелях то ноги, то плечи… Да еще и воду на коромысле несет! Вот и Ангел заговорил, а голоса-то не узнать, как подменили, – вкрадчивый, мягкий и уж такой вежливый, ну просто не мужчина, а ягненок!
– Здравствуй, Деспина, – говорит. – Не позволишь ли мне жар свой утолить?
«Хм, смотри ты, сразу в горле пересохло!» – зашептались кумушки за забором.
– Почему же нет, бадя? Вот пробуйте… – проговорила Деспина и кивнула на то ведро, что впереди: не отправишь же человека пить у тебя за спиной! Кто знает, что может подумать, и потом, приятно, когда благодарят такие глаза, как у бади Ангела.
Кумушкам из-за забора ничего не слышно. И так, и эдак пристроятся, то одним глазом, то другим – ничего: молчание, молчание, молчание… Уже невтерпеж, когда это кончится! Переглянулись:
«Ну и пьет! Силен!..»
«Тс-с-с, да он и не думает пить – балуется, смотри! Смотри, баловство одно на уме!»
А этот Ангел, такой-сякой, впился губами в краешек ведра. Думаете, ему до воды? Ах, что за бусы на шее у Деспины, блестят-переливаются, и Ангел глазами в них впился.
«Хи-хи-хи, вон опять, слышишь? Что он ей такое шепчет?»
– Фу-фу, ну и напоила ты меня, Деспина, – Ангел зафыркал и опять вкрадчиво, с ленцой: – Спасибо, милая, дай тебе бог здоровья, ненаглядная…
– Да за что, Ангел, за капельку воды? – поет-выпевает в ответ голос. – Вот если б вино было… или что другое… тогда…
Ангел вторит ей:
– А знаешь, Деспина… к слову пришлось… У меня в доме и вино есть. И ликер, и коньяк, и даже шампанское… Но скажи, милая, разве станет человек пить один, сам с собой, если он не горький пьяница? А я же… – И шепотом: – С кем пить все, что у меня есть, скажи мне, голубка? Где он, задушевный друг, друг сердечный? Завтра праздник, помнишь? Последнее воскресенье перед вознесеньем. Принесу я в дом зеленой травы, на ворота повешу ветки цветущей липы, устелю полы ореховыми листьями… Раз живешь в музее, надо обычаев наших держаться до гробовой доски. И что с того? Буду сидеть один, как перст, всем чужой и лишний. Что это за праздник для человека, скажи, Деспина? Пусть даже будет открыт музей – думаешь, наведаются сюда? Какое там! Побегут на танцульки, хвастаться друг перед дружкой обновками, туфлями или шляпой… Эх, милая, разве думал я, что так выйдет? Здороваются со мной – и только, будто сам стал вместо мельника…
Когда Ангел жалуется и сверлит тебя черными цыганскими угольями, того и гляди, вспыхнешь от жалости, лучше отвернись и пролей украдкой слезу со вздохом: «Бедняга, не приведи бог остаться одиноким. Жизни своей за нас не пожалел, а все забыли о нем, бросили. Кто ему постирает? А горячим обедом накормит? А приголубит кто?..»
Выжал Ангел из Деспины вздох и второго ждет:
– Слышал, болтают про меня всякое, мол, не поймешь, почему не женится. А кто на такого позарится? Кукую один серой кукушкой, да еще без собственности.
Так он говорит, посматривая, как плещется в ведре вода, а про себя думает: «Знаю, знаю, миленькая… Слыхал я ваши девичьи бредни. Да меня этим не проймешь». И улыбнулся ей:
– Устала от моей болтовни, Деспина? Дай подержу коромысло… Эх, давно пора жениться! А кто пойдет жить в пустую мельницу?
В ответ голосок Деспины:
– Что вы говорите! Неужто мельник все обчистил? Или отправил за границу?
– Одно фото осталось – вот!
Фото как фото: мельник стоит под руку с женушкой в каком-то ухоженном бухарестском парке. Вот и помогла сейчас старая фотография. Снял он с плеча Деспины коромысло, а ей и самой любопытно: должно быть, что-нибудь за этим кроется, если Ангел решил фотографию показать.
– А что мы тут торчим? Пошли ко мне! – Подхватил Ангел коромысло с ведрами и зашагал к дому.
Что оставалось Деспине? Засеменила следом…
Тем временем две кумушки у забора пристроились на корточках, так виднее:
– Смотри-ка, милая… Нет, ты смотри, как он ее охмуряет, эту скромницу. Ну, дьявол!
– Тихо ты! Да она уже в дом зашла, а он и дверь запер, поди.
– А чем, интересно, заманил? Вынул из кармана, показал – деньги, что ли? Или духи?
Остались у порога два полнехоньких ведра с коромыслом, а за забором две щербатые завистливые кумушки.
В доме Ангел совсем по-другому заговорил:
– Входи, Деспина, не бойся. Смотри, вот портфель, – видишь, на фотографии у мельника в руке? Он доверху набит всякими акциями и ассигнациями. Слыхала про такое? Ну, все равно, они теперь разве что на растопку годятся. Но я храню, ибо для музея это ценность, исторический предмет! Куда ты смотришь… На мое гнездышко? Нравится тебе, а? Чудно от зеркал, правда? Если нравится, посиди немного. Вот-вот, в этом кресле… Да, да… И посчитай, сколько ты сразу видишь Деспин. Я сейчас… я тебя тоже угощу, в жизни такого не пробовала – сладкое-сладкое.
А про себя размышляет на ходу: «И потом сяду рядом с тобою или ты ко мне подсядешь… и сосчитаем вдвоем, сколько выходит Деспин и Ангелов».
Думает и Деспина: «Как у него славно! Наверно, пошел в погреб за вином, но я пить не буду… не люблю кислого. Лучше погляжу в зеркало, в жизни не видела себя так, со всех сторон».
Для юного создания сто шестнадцать зеркал страшнее ликера. А оставшиеся в засаде кумушки уже растрезвонили обо всем, как о пожаре:
«Слыхали, люди? Тихоня Деспина-то, а? Будто высох ее колодец! Отправилась за водой в долину Марии, а оттуда прямиком на мельницу к Ангелу. Душа пропащая, милая моя! Так и не вышла, а коромысло с ведрами с порога исчезли!»
А Деспина, бедная, плачет и целый месяц страшными клятвами клянется: «Да пусть меня громом разразит! Бадя Ангел сказал: подрастай, Деспина. Когда твои косы станут ниже пояса, а в волосах расцветет цветочек, бадя тебя сфотографирует и пошлет в газету. Да пусть у меня ноги отнимутся, язык отсохнет! Ангел добрый, и он сказал только: „Знаешь, Деспина, когда тебе скучно или нечего делать, приходи еще, послушаешь радио, покажу тебе альбомы мельничихи – они с мужем полмира объездили, эти буржуи, и страх как любили фотографироваться“. Я не пойду больше, боюсь, там голова кружится… Да чтоб глаза мои повылазили, если хоть пальцем меня тронул! Посидела, посмотрела – боже, какое там богатство, какие шкафы! А зеркала… а какие там ковры!.. И все блестит. Ох, подвернется кому-то счастье. Ах, Ангел, как плохо о тебе думают!»
Слухи мигом облетели село: раз Деспина хвалит, значит, влюбилась… Скоро у Ангеловой мельницы опять зацокали каблучки – явилась местная портниха. Протопала по крыльцу и смело прямо в комнату:
– Здравствуй, Ангелаш, что один скучаешь? Прошу прощения за беспокойство…
Уже неважно, сколько ей лет, молодая или не слишком, – раз портниха, значит, не из застенчивых:
– Не выручишь, Ангел? Кстати, твоя Деспина – дура. Да не о ней речь. Дочка Тасии, что живет у пруда, замуж выходит… Надул ты ее, да она умница, другого окрутила, не то что блаженненькая Деспина. Так вот, хочу тебя попросить – надо бы с невестой свадебный наряд примерить. Да и с тобой попрощаться хочет.;. Так мы зайдем, покрутимся у твоих зеркал, а? Чтоб та довольна осталась, пусть полюбуется на себя, да и на тебя напоследок…
Женская стратегия: чуть слышно выговаривает, шепотком – «шу-шу-шу», пусть, мол, даже земля не учует, о чем мы тут толкуем.
– Что за церемонии, пусть приходит! – вежливо отвечает Ангел. – Почему невесте не покрасоваться перед свадьбой? А ты себя не утруждай, она сама все, что надо, увидит… глядишь, и я что подскажу… Девушке лучше не слышать, о чем болтают портнихи. Так что ты там о Деспине? Что, дурочка, тоже влюбилась? Почему же больше не заходит?
– Гордячка, видишь ли… Дескать, если любит, пусть сам ко мне приходит!
– Ну, начинается…

Как не аукнуться миру на такие новости! Сколько женщин к портнихе в день заходят, считали? А кто на селе первый репродуктор, если не портниха? Тут же из этих «шу-шу-шу» вырастают «ого-го» и «ай-я-яй», и первыми затянули свою песню старушки, блюстительницы морали:
– Взять бы этого Ангела да головой в колодец, обормота! Вчера вечером, кума, слыхала?
– Да что ты, милая? Ай, дожили… А я что слыхала! Дочка Кэтаны вырядилась, будто в клуб на танцульки, а домой-то и не вернулась, не дошла! На мельнице, говорят, ночевала!
– А я своими глазами видела – Деспина Назару оделась мужчиной, в шапку и брюки, и сторожит ветряную мельницу вместо Кирикэ Кривого.
– Не так все было! Она разделась догола и ночью побежала с факелом в руке, чтобы увести тыщу крыс с мельницы, – они там мебель попортили.
– Ох-хо-хо, вот те крест, кума, жизнью своей клянусь – не осталось у нас в селе нераздетых девушек! Да как им, бедным, удержаться! Только и слышишь – оркестры, кино, да клуб, да зеркала в доме этого черта…
А в ответ им еще одна, у которой ни сына нет, ни дочки:
– Да пусть себе гуляют, кумушки! Молодые, пусть! Не то что мы, старые опенки…
А Деспина больна любовью, и только она понимает Ангелово одиночество…
В сумерках возвращался Ангел с лекции на мельницу. Пахнуло на него с реки вечерней свежестью.
«Хорошо выступил… Ну и намотался сегодня! Сколько же они теперь писать стали? Пишут и пишут, надо не надо – пишут, сумка трещит по швам. Им-то радость, а почтальону каково? Уф, отдохнем сейчас, Ангелаш, выходной завтра… Да, что там заведующая говорила? Гости какие-то, спеши… Может, Траян Николаевич? Неспроста что-то поговаривал…»
Так он думал, собираясь отпереть дверь. Вдруг видит, дверь открыта, замка нет. Ну и дела! Дернул за вторую дверь – вот чертовщина, изнутри кто-то держит! «Что за кошки-мышки?» Потянул сильнее, а из комнаты Кирикэ кричит:
– Куда?! Нельзя! Все, больше не помещается! Ой-ой-ой, у меня кровь из носу пошла!
«Да что там такое, какая еще кровь?»
Взбеленился Ангел да как заорет:
– Тебе что, Кирикэ, жить надоело?! Что за дурацкие шутки?
Только он подал голос, как мельница, и мельниковы хоромы, и двор, казалось, содрогнулись, словно от взрывной волны, – будто ответило Ангелу стоголосое эхо.
То есть сначала, если быть точными, чуть-чуть приотворилась дверь, а перед глазами Ангела возник Кирикэ. Держится за голову, дрожит, а сам с ног до макушки мокрый и заплеванный.
– Это вы, бэдика… А я так испугался! Уже сил нет эту дверь держать, думаю, сейчас опять по башке трахнут!
– Да что тут происходит? Объясни толком!
Н-да, волей-неволей будешь спрашивать, если из мельницы, из роскошного зеркального зала, из всех комнат доносятся… Страшно сказать, что за визги, крики, плач и мяуканье. Вам не доводилось слышать, как настраивается симфонический оркестр? Когда каждый инструмент выводит во всю мощь свои рулады не в такт, невпопад – дирижер еще не призвал к порядку.
Такой, знаете ли, товарищи, хор с оркестром… Каждый голос на свой лад: то писклявый, тоненький, как ниточка, то басистый, как «ми» у контрабаса, то дискант, как в церкви на клиросе, то хриплый, вперемежку с пронзительным высоким воем. И вроде не голоса, а голосишки, но до чего же истошные! Представьте – летят они наперебой, через окна, через потолок, с чердака, на крышу и прямо к небесам. Чуть затихнут: дескать, невмоготу. И вдруг как замяукает один, и весь хор тут как тут: