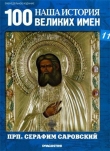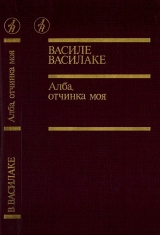
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
С горя он справил большую нужду прямо посреди базара. Будь что будет, пусть ведут его куда-нибудь…
8
Ах, как смеялось село! Идет человек по дороге, идет, сколько идет, и вдруг остановится да как схватится за живот:
– Ха-ха-ха-ха!
И этот смех, словно чахоточный кашель:
– Ха-ха…
Другой ему навстречу. Может, у него, у другого, беда, может, на уме у него какое-нибудь проклятье-распятие, но, увидев этого веселого, спрашивает:
– Ну, что на тебя нашло, чего смеешься?
И уже готов этим распятием хватить веселого по башке, да какое там? Глядишь, и его уже чуть ветром не валит с ног, и, бедный, еще икает, еще слезы вытирает настоящие.
– Ах, этот Поноарэ!
И смеется, смеется, чуть не опух от смеха, и тут бы ему передохнуть, глядь, а первый уже по земле катается…
А третий видит со двора это веселье, почему бы и ему не посмеяться, если знает, что смех полезен, ведь сами врачи говорят это.
– Эй, скажите, что такое, бре, чтоб и мне было смешно!
– Да вот этот Серафим… ха-ха-ха…
К счастью, третий – у своего забора, есть за что держаться. Смеются, смеются, вот-вот штаны потеряют. Видит со двора жена, как грохочет вся окраина, – боже, что там случилось? Перепуганная, подходит к воротам.
– Что с вами, мэй, что это на вас напало, на веселых да красивых?
– Серафим, ха-ха-ха…
Скрещивает женщина руки на груди:
– И что смешного, умники, если человек женится?!
– Женится?
– Когда?
– Как?
Третий смотрит на второго:
– Вы поэтому смеялись?
А второй берет за грудки первого:
– Ты почему смеялся?
– Я? А вы разве ничего не слышали? Серафим-то, говорят, целую ночь миловал этого цыгана, Ангела, ха-ха-ха… в бабьей одежде!..
Второй:
– Враки! Он один сидел, чтоб мне не сдвинуться с этого места! Только как его закрыли снаружи, он – хлоп – и себя изнутри закрыл.
Третий:
– Не дойти мне до дому, если он всю ночь не просидел с мамой Надеждой! Я вам говорю!
И втолковывали друг другу, что все-таки дыма без огня не бывает, но и после всех разговоров расставались с тремя разными мнениями, в которых еще оставалось девять неясностей, а если вокруг столько неясного, что же голове делать – баклуши бить, что ли?
Ворожба и проклятие? Эхе, многое случалось на этом свете, а что, в конце концов разве не добирались до сути?
– Что это я слышал, Ангел, правду ли говорят?
– Что именно?
– Что был у тебя большой спор с Серафимом?
– У меня?! Какой спор?
– Да у крестной Надежды в доме…
Услышав такое, Ангел хмурился и, если сидел за столом, отодвигал от себя миску, обиженный.
– Бадя, тебе что, жалко этого куска мамалыги?
– Прости меня, пожалуйста. Я что… ничего… Что я плохого сказал? – терялся хозяин.
Но Ангел к нему еще и еще:
– Как вы можете говорить, что я хожу в дом к этой кривой, ведь у нее иконы всюду, даже в сенях, развешаны. За кого вы меня принимаете?
– Пойми же, бре, я говорил, что другие говорят. Село говорит, сам же Кирикэ…
– Умники вы у меня. Нашли человека – Кирикэ!
Тогда человек-хозяин начинал себя укорять: «Так мне и надо… Приглашаешь человека к столу, человек, можно сказать, тебе добро делает, пасет твою корову, а ты шпионишь за ним, тьфу!»
– Ну и глуп этот Кирикэ, прости меня господи! Да бросьте, Ангел, ешьте, не то остынет… – просила жена. – Э-э-э, как послушаешь всех…
– И правда, женушка… Дай Ангелу с собой в поле брынзы. – И про себя думал: «Цыган любит брынзу. Правильно я сделал…» И добавлял: – Как там у вас в активе, Ангел?
– Нормально, – отвечал пастух, который из ликбезовца уже стал агитатором, – посмотришь, какой порядок наведем мы в этом селе!
– Замечательно, Ангел, ей-богу!
Приходили новые времена, и люди, большие и малые, говорили, стоя у ворот:
– Вот это техника, вот это порядок!
Колхоз покупал тракторы и машины, и почти в каждом доме слышно было радио, и почти все село затянули провода. Люди были рады, особенно молодежь. И то сказать, чего тебе еще надо, если музыка задаром играет прямо в доме? Только те, что постарше да потемнее, еще сомневались:
– Что, и вам, кум, протянули?
– А как же? Что я, не такой, как все?
– Кум, а не пахнет тут политикой? – спрашивал какой-нибудь глухой дед.
– А хоть и политика, уж раз она к нам приходит, значит, за делом. Как же иначе? Разве не видишь, по столбу еще два провода идут…
– Ну и к чему они?
– То есть как к чему? И этого не понимаешь? Нет ламповых стекол, вот и тянут электрику.
Ну, а Ангел есть Ангел, все тебе скажет, но зайдет разговор о Серафиме – молчит, словно в гробу, будто их дело вовсе и не кончилось.
– Слушай, Ангел, скажи правду, скажи, потом и мы тебе кое-что скажем… Как кончился спор?
– Сейчас покажу тебе спор, – злился Ангел, – на ногах не устоишь… – И обиженно: – Или мало, что я вам скот пасу? Или мало, что я вам слуга? Хотите еще, чтоб я вам почтой стал или радио?
– Да бог с тобой, бре, что ты… – И решали про себя, что узнают все через Кирикэ или через маму Надежду.
Известное дело, что правда, то не кривда – дом мамы Надежды редко когда пустовал теперь: то там посиделки, то старики буквам учатся, такое уж время. В одном только загвоздка: как подступиться к этой старухе, если каждый день говоришь ей: «Целую вашу правую, крестная!»
Да и как же иначе, ведь в этом селе она всех принимала и всем пуп перевязывала… И то сказать, как не уважить человека, который своими руками вывел тебя в этот мир – будь он хорош или плох, все же мир он и ты в нем цветочек-пуп!..
Однако нашелся один бессовестный, не выдержал, зашел к маме Надежде и так, в шутку вроде, начал:
– Мама, крестная Надежда, это правда, что говорят… то да се… мол, Серафим с вами…
А старуха – будто ее ошпарили:
– Ай, бесстыжая твоя рожа! – И открыла свою дряблую шею и выдернула с нитки что-то похожее на засушенный гриб и плюнула на него, ибо, да простят меня, была у нее такая привычка. – Видишь ты это или не видишь? И не стыдно тебе, дылда? Вот он твой пуп, на! Если бы я его тебе не обрезала, стоял бы ты сейчас здесь, дубина стоеросовая?
Вот и поди попробуй после всего этого что-нибудь ей скажи!
А тут еще получилась история с девушкой одной – понесла она неизвестно где, неизвестно от кого и пошла к бабе Надежде со слезами, с деньгами, готовая последнюю рубашку отдать, только бы дала старуха ей зелье – выбросить плод. Несчастная ее судьба, потому что только открыла она рот: «Добрый день, мама Надежда, как поживаете?..», а старуха как вышла на улицу с мусором в руках, так вместо того, чтобы ответить, давай ее поносить, та чуть от стыда не сгорела.
– Мама Надежда, что я вам сделала? – заплакала девушка.
– Уходи с моих глаз, ненасытная прорва!.. Подумала ли ты о жизни своей?.. – И опять быстро-быстро открыла шею, хотела и ей показать какой-нибудь пуп, ибо была у нее привычка: как родится сто первый, отрезает ему пуп и на нитку нанизывает, говоря: «Он-то уж счастливый!»
Село, вспоминая про это, смеялось много, хотя иногда какой-нибудь отец или мать и думали так: «Конечно, она тронутая, Надежда, но в чем-то, может, она и права, и что тут плохого?»
А что она немного не того, это уж точно. Была у нее еще одна странная привычка – по воскресеньям, когда весь народ отдыхал в тени, она раздевалась и бегала голая-голенькая среди бела дня вокруг своего дома:
– Чтоб вы обо мне помнили!
Ох, много странностей было в этом селе, и одна похлестче другой… Например, сам поп купил себе мотоцикл, а обслуживал он три церкви и вокруг каждой трещал этим своим мотоциклом по утрам и вечерам, так что даже самые что ни на есть верующие и те начали сомневаться, даже звонарь однажды сказал ему, попу:
– Батюшка, что вы делаете? О нас судачат.
А поп, мол, ему ответил:
– Истине, сынок ты мой, видишь ли ты, сколько ворон свило гнезда и сидят на колокольне?
– Вижу, батюшка, да разве я их выводил?
– То-то и оно. А надо знать, что, когда трещит мотоцикл, они пугаются и оставляют гнезда. Остынут яйца, и все их семя исчезнет, вот увидишь…
– Ох, батюшка, – и при этих словах звонарь, мол, почесал себе одно место (обычно говорят – «затылок»), – эта нечисть живет долго, проклятая, почти четыреста лет, не лучше ли ее сразу из ружья?..
А поп будто бы страшно огорчился:
– Ну и ну, Истине… Ничего себе звонарь! Сказанул, ей-богу. Ружье – и церковь, тьфу!
А тут, вдобавок ко всему, Ангел покупает себе самозаводящиеся часы и все время ходит и рукою машет, как на демонстрации, так что старухи, завидев его, аж крестятся.
– И на что тебе эти часы, Ангел? Ты ведь пастух…
– Ничего, они кушать не просят.
А село удивляется, а село ходуном ходит!
И кому сейчас какое дело до Серафима? Одно только хотят знать: когда свадьба? и кто невеста? кто музыканты и откуда они?
Разговоров хоть отбавляй, потому что люди ждут: ведь свадьба – это повод для сборища, одним – повеселиться, другим – посудачить, красива ли невеста, богато ли ее приданое, пара ли она жениху. И парни вот-вот лопнут от нетерпения – повести разок невесту в танце, попробовать, крепкое ли, упругое ли у нее тело; и старухам не спится: венчались ли молодые в церкви и кто венчал и сколько подношений было?
Свадьба – это повод много для чего, а если еще свадьба, как в сказке, как свадьба Замфиры:
Катилась песня широка,
Как полноводная река…
И солнце путь прервало свой,
Любуясь пляской удалой,
Впервые видя пир такой
За все века, —
тогда человеку будет о чем поговорить всю осень, такую же длинную, как лето, да и что ему делать, бедному, если без дела сидеть не может?
– Э, Серафим, привет! – повстречав Серафима, напрашивается один на разговор. – Правду говорят, бре? Ну, мои поздравления!
– М-да… если вы уж так хотите…
– Значит, правда, что женишься?
– Я знаю… – говорит Серафим, и непонятно, «да» это или «нет».
– Теперь у тебя одной заботой меньше. А то тяжко одному-одинокому…
– М-да…
И будто это «м-да» и этот Серафим – один черт, будто весь он состоит из одних только «м-да».
«Понимайте как хотите, ибо оба мы – люди… Если я скажу „нет“, ты мне не поверишь, потому что этого тебе будет слишком мало и ты спросишь: „Почему?“, а если скажу „да“, опять обману, потому что ты захочешь знать, что это за „да“, то есть „когда“, „где“, „как“. А если мне все это ни к чему, тогда что делать?»
Ну а прохожий, если спрашивал, так для чего-то ведь спрашивал!
– А что, самое время, пожалуй… Станешь и ты хозяйствовать, а то пока парень да один, сидишь и о зеленых лошадях мечтаешь…
И односельчанин уже готов опять услышать «м-да», но тут вынимает вдруг Серафим из муравейника прутик, пробует его на язык, протягивает и говорит, удивленный, как дитя:
– Попробуй-ка… Как же так, добрый человек, и эти муравьи тоже борщ делают, а?
Качает прохожий головой и говорит: «Да-да-да», а самому уже хочется послать его подальше и о своих грехах заботиться, потому что или этот Серафим так глуп, что земля его еле держит, или так хитер, что пары ему не сыскать…
Жених? Да пускай ходит гоголем, видали мы женихов! Ну, будет слеп день, два, девять, свалится счастье на его голову, да и оно пройдет…
И звеньевой его не трогает, и бригадир даже его не видит, и страховой агент его прощает, хотя, казалось бы, пора, – ведь год уже, как Серафима переселили в село, дом его старый снесли, а огород отошел под виноградник. Так что пусть уж он походит в женихах, были, как говорится, и мы такими, и что из нас вышло, видим сами!
9
Одно плохо: потерял из-за Серафима сон один товарищ из академии… Пишет он, пишет и, как говорится, уясняет себе, что такое человек и что такое этот человек, то есть Серафим. И вот оно уже почти кончено, исследование, вот оно у него на столе, готовое-готовенькое.
«СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА, или Что в ней к месту и что не к месту, и что достойно и что недостойно, ибо смыслов много, а сколько их всего?»
Труд фундаментальный, капитальный, ссылок тысяча и деталей – уйма…
Приведем и мы отрывок, как говорилось встарь, худо-бедно, а поглядишь, уже и хорошо, – ибо глава начинается так:
«После того, как умерла мать Серафима, он остался один-одинешенек и все же стал жить, а что еще делать? Дом ему дал колхоз в селе, стол был еще от матери, и оставалось ему только жениться, чтобы замкнуть цикл существования организованной материи, которая называется человеком, то есть наивысшим из высших».
И вот однажды вечером пришел Серафим на танцы в клуб, и подходит к нему Ангел вместе с Кирикэ:
– Пошли, бре, она у него в клети, – и показывает на Кирикэ.
Вышли они втроем на дорогу. Идут, идут… И вдруг у Серафима ни с того ни с сего – не дай бог никому – отнимаются ноги ниже колен, не идут больше.
– Что с тобой? – спрашивает Ангел.
– Ох, тоска-желание, – стонет Серафим. – Ангел, я так ее желаю, что дышать не могу.
– И у меня ноги дрожат, – хнычет Кирикэ. – Боюсь, ребята, я никогда не женюсь.
Тогда Ангел говорит:
– Берегись, бре, если желание слишком большое, можно и опростоволоситься. Не лучше ли тебе не идти?..
– Не могу! Не могу идти и не могу не идти… – отвечает Серафим.
Так, подгоняя друг друга, подходят они к воротам Надежды. И говорит Серафим:
– Ты знаешь, что сказала моя мама, прежде чем умереть?
– Откуда мне знать?
– Спрашивает: «Из чего этот мир, Серафим?» – «Из людей, говорю, мама». – «Нет, – говорит она, – из любви. Обещай, сын ты мой, сколько будешь жить, слушаться только желания и любви». Я сказал: «Обещаю, мама! Мама, слышишь, мама…» Хотел еще что-то спросить, вдруг, вижу, она закрыла глаза, умерла. Ты чувствуешь, Ангел, или не чувствуешь?
В этом месте, как пишет «академик», Ангел вздохнул, – видно, и у него была когда-то мать…
– А может, лучше не идти? Не лучше ли взять тебе у нее адрес и написать ей?
Ну и голова, ей-богу! Хорошо говорит автор сказки: «Какой дурак, боже, пишет письма посреди ночи, когда за забором живая девка по тебе помирает? Ночью, если что и делается на свете, так это любовь, заговоры, ворожба и стихи или, если уж к горлу подступит, дети».
И тогда Ангел говорит:
– Знаешь, что… Дай-ка я пойду… Скажу ей, что и как, и кончено…
– Нет, – говорит Серафим, – то, что скажу ей я, ты ей не скажешь. – И добавляет: – И то, что я ей скажу теперь, сейчас, никогда не скажу никому… Ух…[4]4
Здесь «академик» делает обширный комментарий относительно любви и прочего и заключает все афоризмом вроде бы собственным: «Когда сердце в тебе горит, твой друг греет над ним руки».
[Закрыть]
Тогда Ангел отходит от них, и Серафим просит Кирикэ:
– Скажи, бре, что-нибудь… Что мне делать? Что ты сделал бы на моем месте?
– Сначала разделался бы…
– Кирикэ, брат Кирикэ!.. Скажу тебе больше, чем брату: идти-то я могу, бояться-то не боюсь, а вот отвечать-то за себя не могу, вот!
Услышал это Ангел и опять подходит:
– Слушай, Серафим, я тебе друг или не друг? Я тебе брат, Серафим, или я тебе не брат? Или зла я тебе желаю, Серафим, скажи?..
– Что?
– Дай мне хоть чуточку, дай хоть взглянуть на нее… Я же тебе добра желаю… Вот сейчас ты размяк, ослаб… И со мной так бывало, но как подумаешь, что твоя краля с кем-то, так сразу в тебе сто чертей просыпается. Вот я на пять минут войду, и увидишь, как взыграешь…
Был он, Серафим, добр, как теплый хлеб, и верил он человеку на слово, но на этот раз сказал:
– Ох, не могу, бре, поверь мне…
Ну, Ангел, как увидел это, оставил их и ушел спать, хотя «академик» так только предполагает, потому что, говорит он, где это видано, чтобы парень оставил другого парня в покое, когда между ними девушка, да еще из тех, что ищут парней со свечой среди бела дня.
Оставшись сами по себе – что им делать вдвоем? – конечно, вошли они в дом Надежды. А Кирикэ недолго думает, дает Серафиму кувшин вина – была осень, и на том берегу Прута гуси и те ходили пьяные – и просит Серафима:
– Только, ради бога, не зажигай света. А то придут парни из клуба или мама увидит, она у соседей.
Входит он, Серафим, в каса маре[5]5
Каса маре – горница.
[Закрыть]. Темно, хоть глаз выколи, а дом мамы Надежды маленький, низенький, с узкими окнами. Видели вы когда-нибудь дом бедной деревенской вдовы?
И слышит Серафим, как закрывается дверь в сенях, слышит он это и слышит шепот:
– Поди и заложи задвижку.
– Это ты, Мария? – шепчет парень. – Кто здесь?
– Молчи, Серафим, садись… то есть нет, сначала дверь закрой на задвижку.
А голос откуда-то из глубины, оттуда примерно, где красный угол…
– Ох, – говорит Серафим, – тот наш разговор вечерний не попусту был, не даром. Смотри, как мы встретились! Говорила, что издалека ты… а я все думал: далеко ли это далёко?
И опять:
– Ох, откуда ты, Мария?
Молчание. Долгое молчание!.. Серафим ждет ответа, а вместо него – вопрос:
– Слышишь, как грызут короеды ставни?
А он рад, все-таки человеческий голос.
– Ну да, – отвечает Серафим, – как добро когда-то выгрызает зло…
– Ну и сказал! Что это за добро, ведь короеды – зло, а ставни – добро!
– Правильно, Мария. Так, Мария, но, понимаешь, для зла добро тоже зло.
И опять молчание, и опять – то ли подавленный вздох, то ли кто от смеха давится.
Встал Серафим и хочет подойти поближе.
– Нет, нет, Серафим, садись, – просит его девушка. – Сколько у тебя классов?
– А почему спрашиваешь?
– Потому что ты мог бы пойти далеко…
– Куда, Мария?
– Ни с места, ни с места…
– Я понял, Мария, правда, Мария: ты про мысли говоришь, так ведь?
Девушка есть девушка, и, если хорошо ей, зачем ей говорить «нет», и говорит она:
– Хорошо, Серафим… Серафим, а как еще тебя звать?
– Поноарэ, – отвечает парень, – только это мое прозвище… А так я Серафим.
– Кто был твоим отцом?
– Мама говорит, что мне не повезло с отцом, не застал я его…
– Может, отцу не повезло с тобой и он тебя не застал?
– Я говорю, что говорила мама, да простит ее бог…
– Да простит ее бог? А что она сделала?
– М-да… Люди так говорят, говорю и я.
– Бедный… Скажи, ты колхозник?
– Конечно. Надо быть, как все люди, говорила моя бедная мама, да будет ей земля пухом…
– А почему пухом? Она же теперь тоже земля, неужели хочешь, чтобы ее ветром развеяло?
– Не хочу, но люди так говорят.
– Бедные…
И опять темно, хоть глаз выколи, и слышно, как в глубине словно кто давится от смеха, и передвигается Серафим по лавке поближе к девушке.
– Постой, постой, Серафим… Вот ты помянул бога… Скажи, ты его любишь?
– Ох, Мария, любил я его одно время и верил я ему, а когда увидел, что он мне не доверяет, не снисходит до меня, что оставил меня сиротой…
– Бог не доверяет, милый, бог не снисходит, бог повелевает.
– Бедный, – вздыхает Серафим. – Видно, и он слуга, если живет повеленьями.
– Так, Серафим, молодец! И что ты думаешь делать теперь?
– Я не думаю, Мария, я делаю, что делается, и все. Теперь бы я женился. – И опять вздыхает. – А ты хочешь за меня пойти, хочешь стать моей женой?
– Зачем же я пришла! Знай, я уже твоя жена, Серафим, и дитя у нас будет месяца через три.
– Нет, – говорит Серафим, – как, – говорит Серафим, – шутишь? Ах, да, да, – говорит ей Серафим, – через сколько месяцев?
Девушка есть девушка, да и говорит она:
– Лучше ты мне скажи, Серафим, желал ты меня и как желал?
– Мария, если б ты знала, Мария… Очень, очень, как мать свою! Ведь рос я только с матерью, а теперь ее нет, как же мне по ней не тосковать? И сестер у меня не было, и хочу я теперь сестру. А как подумаю, что у нас в селе все женщины только жены, то говорю себе: я желаю Марию любовницей! Я ж тебе говорил: пока меня колхоз не перевез, я жил в поле и тогда все думал, думал, думал, пока не начинала вся Земля вращаться со мной. А потом еще, знаешь, видел тебя то черной в поле, то голой в церкви!..
– Это же скорбь, это стыд, это бедность! – прерывает его девушка. – Молчи, Серафим, пей, Серафим, пей и ешь, это тебе только и осталось. Это тебе только и полагается, а то прежде ты и сыт не был, и жажду не утолял, кроме как на рождество да на пасху. Пора пришла – пей и ешь и веселись-празднуй!..
Молчит Серафим. Слушает… «Эх, черт возьми, – думает он, – мало того, что красива, она еще и умна! И как ты теперь подойдешь со своей глупостью к ней? Ибо глупость с глупой делаешь, а мудрое с мудрой. Ведь так издревле принято или нет?»
Давным-давно замолкла девушка, а Серафим все молчит.
– Молчишь, бедный? – спрашивает она. – Скажи что-нибудь.
– М-да… – привычно говорит Серафим.
– Глупость какая-нибудь, не так ли? Ай-яй-яй. Разве я для этого тебя позвала? Я никогда и не думала об этом, ай-яй-яй!
– Прости меня, Мария… Думал я, все в этом мире начинается с глупости… Вот мама, думаю…
– Не думай, не надо!
– И еще думаю, что парни теперь… что говорят себе: «Эхе, король Серафим сидит себе с девкой и думает: „Как к ней подойти, как ее обмануть?“»
– Ой-ей-ей! Что за сор у тебя в голове, Серафим! Ведь ты сам сказал: с тем, что свято, не шутят?!
– Ох, Мария! Ум одно говорит, сердце другого желает. Стыд красив, Мария.
Тогда сразу велит девушка:
– А ну-ка протяни руки. Ты чувствуешь меня, Серафим?
Встает он и думает: «Вот так… Женщина, она женщина и есть…»
С одной мыслью встает, а с другими двумя садится опять на лавку. Да и говорит:
– А зачем, Мария, не надо, Мария. Я и так тебя вижу, если хочешь знать, я даже тебя чувствую!..
– Что ты сказал?! А ну-ка еще скажи, как сказал…
И кажется Серафиму, что там, в глубине, то ли молятся, то ли его проклинают.
– Да встань же, протяни руки. Хочу и я тебя чувствовать! – кричит девушка.
Тогда говорит Серафим:
– Я встал… но у меня руки дрожат…
– Тогда оставь. Оставь их так… Остановись. Возьмись ими… за голову!..
Растерялся парень и говорит:
– Я взялся…
– Ты дурак или притворяешься? Ну, скажи, Серафим!
Тогда говорит себе Серафим: «Вот оно как… или говори и делай, как все, или молчи и делай, что можешь, а думай только так, как ты думаешь».
Однако вдруг в этой тишине, в этой ночи, в этой тьме-тьмущей слышит он то, что можно услышать только из уст пьяного мужика:
– Пошел ты…
Что тут думать Серафиму, что сказать? «Мэй-мэй-мэй! С кем я, где я? До чего я дошел? Чем я стал? Искал я долго и вот что нашел! Она еще не жена, а уже меня посылает…»
– Моя мать умерла, – с горечью говорит парень – Почему говоришь так?
– Потому что есть такое слово… Говорят же люди. И опять давится, будто от смеха, будто от плача.
И вдруг осенило его, все понял Серафим и хочет ее жалеть и хочет к ней снизойти и себе же говорит: «Бедная! Наверно, несчастная! Наверно, жизнь ее до этого довела».
А там уже вместо плача смех раздается, словно кто ее щекочет за пазухой.
– Тьфу! – плюется он. И кричит: —Хочу света, хочу лампу!.. Хочу тебя видеть!.. Мама Надежда!
– С ума сошел?! – словно спрашивает, словно удивляется девушка. – Ты что, хочешь шума, скандала?
– Я хочу света, хочу лампу! Что я, осужденный? Я ничего не боюсь: ни слов, ни смерти… Хочу света, видеть хочу!..
– Хм… Если не боишься, зачем тебе свет?
– Потому что мне стыдно, тьфу!
– Ага, значит, и у тебя есть стыд?..
И девушка опять стала серьезной и разумной, а Серафим удивляется:
– А что я, не человек?
Молчит девушка, молчит и говорит:
– А стыд твой человеческий или мужской?
– Не понимаю… – задумывается Серафим. – Как это, что за два стыда?
– А так… Потому что есть стыд души и стыд тела…
«Ох, и бесстыжая же она, – содрогнулся Серафим. – Вот так берешь ее, красивую, выбираешь, а глянь, она только о глупостях думает. Кто виноват, кто ее научил?» И говорит:
– Мария, кажется мне, что ты знаешь мужчину.
– Почему так думаешь?
– М-да, – огорчается Серафим.
– Отвечай! – настаивает Мария. – Что с тобой? Говори!..
– Эх!
Молчит Серафим. Ставни закрыты, в доме темно. «Постарел я, – думает Серафим, – постарел я на целую человеческую жизнь и поумнел, как ребенок! Ждал ее, желал ее, хотел ее, как трава хочет солнца святого, и вот, пожалуйста, мама моя родная!»
Слышно, петухи поют полночь. В доме темно, на улице темно, а петухи поют. Вот так, подымают крылья, взмахнут разок, еще разок и поют в ночи и поют к свету, с закрытыми глазами.
– Знаешь, Серафим, зачем поют петухи?
– К свету, – отвечает парень устало.
– Молодец, – говорит девушка. – А ну давай и ты разок!
– Что?
– Кукарекай.
И тогда ни с того ни с сего, словно чиркнул спичкой, закричал Серафим:
– Петя-петух-петлю-спалю!
И тут навалилась тишина, словно земля разверзлась и чьи-то руки схватили Серафима, прижали к лавке.
Он не дается, он не уступает.
– Я тебя не покину! – кричит. – Вяжите меня, режьте меня, жгите меня. Я ничего не боюсь!..
– Что с тобой, Серафим?
– Брось шутить, Серафим!
– Что ты, человече, слышишь, Серафим, сядь, Серафим, мы пошутили, что ты, бре, шуток не понимаешь?
– Ничего не боюсь, ничего! Вяжите меня, режьте меня, жгите меня. Мария! Ты со мной, Мария! Где ты?
– Я здесь!
– Мария!
– Не Мария, Замфира…
– Где ты?
– Я сама тебя найду. Прощай, Серафим!
– Я тебе свадьбу сыграю, я тебя одарю! Всю красоту базара, слышишь, Мария… Замфира!.. – крикнул Серафим и рванул на себя ставни, и луна, слабая, чахоточная, проскользнула в каса маре мамы Надежды. И тут, откуда ни возьмись, рядком на лавке парни один к одному во главе с Ангелом, но глаза Серафима искали Марию-Замфиру, а те парни смотрели серьезно-торжественно, и он взглянул куда-то над ними, сквозь них – глядел долго, мучительно долго, целую жизнь и застонал, спрашивая:
– Эх, разве так шутят?!
Никто ему не ответил, то ли не было что, то ли не знали как. И тогда же, в тот же миг, услышали скрип двери и скрипучий голос мамы Надежды:
– И по ночам вам покоя нет, вурдалаки! А ну-ка марш по домам! Что здесь делаете в темноте? – и она чиркнула спичкой, и первый, кого увидела, был Серафим, и вытолкала его на улицу. – Не отдохнешь из-за вас, арестанты! Оставить бы вас с неперевязанными пупами, чтобы волочились по земле, посмотрела бы я тогда, как бы вы шлялись!
…Пришел Серафим домой, уже утро было.
Хозяйства особенного не имел – только дом и стол и забот примерно столько же, так что взял он и задумался: «А не уехать ли мне из этого села?»
Схватил было ведро, пойти за водой, а там глянь – в воротах почтальон Кирьяк:
– Серафим, скажи, какой тебе ночью сон снился? Выстрелы не слышались? – И протянул ему письмо.
Письмо, как все письма.
«Жди меня на Бельцком переезде. Буду завтра под вечер с вещами. Не сердись, не могла ждать… Целую тебя. Замфира».
………………………………………………………………
Итак, выше была приведена глава из исследования «академика». Видали вы такую нелепицу! Взять хотя бы последние три слова: «Целую тебя. Замфира». Деревенская девушка не напишет тебе «целую», хоть стреляй в нее. А если и напишет, то, я бы сказал, в безличной форме, примерно так: «Сломалась ручка и перо. Целую. Замфира. Будь здоров». Спрашивается: где же это «тебя», «тебя», которое проясняет все на этом свете?
Нам думается, критика не примет эту главу и хорошо сделает. И значит, если бы были другие конкретные факты о пребывании Серафима в доме мамы Надежды, можно было бы эту главу совсем исключить. Ну да. Быть-то он там был, парень, но если был, то для чего именно? Для спора или для свидания?
Могло быть и то и другое, ибо в доме мамы Надежды парни собирались и зимой и летом. Один тайком возьмет из дома кувшин вина, другой орехи, третий – копченые свиные ребра, вот и готово тебе гулянье.
Хорошо, пусть так, но на этот раз парни никак не могли присутствовать в доме мамы Надежды, иначе они не приставали бы теперь к Ангелу, к Серафиму, к старухе с разными вопросами. А если там были только Ангел и Кирикэ и был между ними спор, откуда тогда взялась невеста у Серафима.
Допустим, старуха устроила им встречу…
Это вполне возможно, потому что мама Надежда и детей принимала, и ворожила, и разными травами лечила… А как будешь принимать детей, если сначала не сосватаешь и свадьбу не устроишь?
Хорошо, но что понадобилось этой девушке, Замфире, да еще с вещами, на каком-то переезде? Где такое видано в наших, деревенских условиях, к тому же всем известно, что эта Замфира жила в соседнем селе вместе с прабабкой и давно была готова замуж, как тесто в печь. Сама же мама Надежда знавала ту прабабку; известное дело, никто лучше друг друга не знает, чем старухи…
А была ли Замфира та красавица, из-за которой в Серафима стреляли, и как возникла эта пламенная любовь и где была свадьба – это только они сами знают и это их дело…
А село есть село, пускай болтает, кому когда-нибудь удавалось заткнуть ему рот?..
Только как-то вечером, как раз когда танцы были в самом разгаре, пожалуйста, входит в клуб Кирикэ. Входит так вроде незаметно, и вдруг все замечают: Кирикэ перевязан крест-накрест белым полотенцем!
– Что с тобой, бре, хочешь нас напугать? – кольцом сошлись парни вокруг него. – Почему ты повесил эти кальсоны себе на шею?
У Кирикэ один глаз на нас, а другой на вас.
– Братцы, прошу вас, тофшественно… – зашепелявил он. – Гляньте-ка, я шфат.
Ну, тут смешки:
– Ха, какой сват?
– У кого сват?
– Что за свадьба, бре?
А Кирикэ размяк, чуть слезы не вытирает:
– Конец, Серафим! Прощай, бадя Серафим! Стал ты хозяином. – И руку к глазам подносит.
Ой, какой тут сразу шум, гам, суета какая! Музыканты бросают играть, злые оттого, что лишились бульона из двух куриц и нескольких ведер белого вина, ругаются парни, потому что не пришлось им пощупать невесту, горюют девушки, потому что потеряли один девичник, дети – одно воспоминание, старушки – один вздох, мужчины – беспробудное трехдневное пьянство, а мы, читатели, – повод для длинных разговоров.
– Кто был еще на свадьбе?
– Я… тофшественно, я…
Вот так привязалось это «торжественно» у Кирикэ к языку и не отвяжется! Видимо, так всегда и бывает с этими мудреными словами – получается из них одна чепуха, и все.
А парни – те думают: «Боже, чем больше растет этот Кирикэ, тем лучше видно, что он дурак…»
И начинают его выспрашивать, осторожненько, словно ребенка, который потерял ключ, и теперь все стоят перед закрытой дверью.
– Слушай, Кирикэ, а невеста красивая?
– Так я ее не видел.
– А где же свадьба была?
– Не знаю.
– Зачем же у тебя полотенце?
– А что, разве некрасиво?!
Попробуй после этого поговори с Кирикэ!
Тогда один, драчливый, недолго думая, к нему:
– Вот как стукну, будет тебя мама в гробу целовать! Откуда у тебя этот бабий подол?
– Так я ведь вам говорю!.. Приходит ко мне этот, как его… бадя Серафим и говорит: «Тофшественный тебе мой поклон, Кирикэ, что я искал, то нашел… Спасибо матери твоей и дому твоему… Давай я тебя повяжу…» И повязал!
А драчливый не унимается:
– Сегодня вечером все равно изобью тебя, Кирикэ…
Хнычет Кирикэ:
– Тофшественно, ей-богу, так и было! Чтоб мне ослепнуть…
– Не ослепнешь, – говорит ему добрый.
– А ну-ка молчите, – вмешивается тогда шустрый, – так мы ничего не узнаем. На тебе семечки, Кирикэ…
– Спасибо, – говорит Кирикэ. – :А то мама меня не кормит с тех пор, как товарищ Ангел привел к нам бадю Серафима. Ругается: «Это разве стены? Чем вы их испачкали, проклятые? Тьфу, что это такое?»
Тогда спрашивает шустрый:
– А сейчас твоя мать дома?
– Да куда там… – опять хнычет Кирикэ.
Тогда отправляются все четверо к дому мамы Надежды. Один из них драчливый, другой добрый, третий шустрый, а четвертый – Кирикэ.