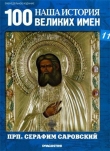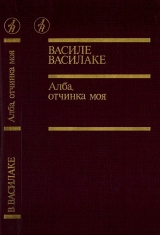
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)
– Издалека?
– Издалека…
– Очень красивая ты!..
А девушка опять как девушка, разыгрались в ней черти от радости, а тут Серафим возьми да спроси:
– Ты почему смеешься? Что, не так это?
– Так-то так… Да другого чего не мог сказать?
– А я тебе прямо говорю, потому что люба ты мне. Иначе зачем мне язык?
– Ха-ха-ха… – И не успевает девушка растолковать Серафиму, что к чему, как другой к ней подходит, и Серафим ее отдает, такой уж обычай, и она идет, ведь девушка она и на хору пришла.
Эх, как взял тот ее за руку, и как начал ее водить, и как начал ее кружить да трясти – аж в глазах потемнело! Ну, а Серафим, раз уж он ее отдал, так что ему делать? – стоит и смотрит, смотрит и стоит. А тут один танец не кончился – начинается другой, и этот еще как следует не разошелся – кто-то уже новый заказывает, а ему: «Подожди, братец, мы только начали!»
Визжит скрипка, бедная, словно волокут ее живую на живодерню. Кипит-пенится толпа, будто вот-вот через край перельется, а девушка – одна-одинешенька, и на всех ее не хватает.
Видит это Серафим, и больше невмоготу ему терпеть:
– Дай-ка и мне, и я потанцую с ней…
– А если я не хочу?
– А как же я ее отдал? – по-братски глядит на того Серафим.
– М-м, тебе поговорить охота? – И оставляет девушку посреди хоры и тянет Серафима в сторону. Огляделся разок вокруг, тяжело вздохнул по-мужски и ни с того ни с сего руки в бока: – Ну, говори.
А Серафим не очень-то понимает, к чему дело клонится, и спрашивает:
– Что?
– Ну ты глядел на меня так, вроде хотел что-то сказать.
– Я, бре, говорил об этой девушке.
– М-м… А ну-ка побожись!
– Ей-богу.
– Ну-ка, перекрестись…
И только Серафим собрался поднять три пальца ко лбу, тот – раз ему слева!
– Почему дерешься, бре?! – оторопел Серафим.
– А вот почему. – И тут же еще и справа поддает.
– Стой, что я тебе сделал?!
– Вот сейчас покажу. – И вынимает нож, из которого лезвие само выскакивает. – Вот сейчас тебя поучу.
Серафим стоит не шелохнется, будто сердце у него скрутило, говорит, будто ему все трын-трава:
– Давай бей меня, бре, давай режь меня, убивай. Ничего я с собой не могу поделать.
Видит все это парень и вдруг ни с того ни с сего – тьфу, тьфу! – прямо в глаза Серафиму. Ни с того ни с сего. А Серафим – он Серафим и есть… Тогда говорит тот, другой, с жалостью:
– Иди-ка ты, щенок, домой.
Однако и это не проняло Серафима, стоит не шелохнувшись. Тогда тот совсем взъярился, вытащил пистолет и – трах-тах-тах! – над самым его ухом. И не видно больше Серафима, на землю упал Серафим, подкошенный.
Вот так. Ну, а народу, понятное дело, многое множество, веселье большое, и кому какой интерес, что делают два петуха за забором. Но как услышали выстрел, мужчины валом повалили, и жандармы тут как тут, не говоря уж о женщинах и детях, этим всегда все интересно.
– Убит?
– Жив?
– Кто стрелял, в кого стрелял?
– Упаси нас, господи! Грехи наши тяжкие…
А Серафим на земле лежит распластанный. Рубашка, та, мамина, с цветами, гордость его прежняя, порвана в клочья, глаза его, большие, красивые – только в церкви, бывало, увидишь такие, – совсем закатились, лежит человек ни жив ни мертв, смотреть нет сил.
– Ранили тебя, Серафим?
– Кто?
– Где он?
Открыл Серафим эти свои глаза, большие, поводит ими вокруг.
– Сбежал, так ведь? – выплюнул зуб с кровью и попытался приподняться – а что ему еще делать? – Подумал он, что испугаюсь!
А люди как люди, не знаете вы разве людей? И посмеялись бы и поплакали, а все лучше словом обмолвиться. Говорят:
– Ничего, попадется он нам! Встань, Серафим…
– Помогите-ка ему, бедному.
– Слушай, поди умойся! Одежду смени. Э-эх!..
А бедная его мама-матушка, как увидела, схватилась за голову:
– Ай-яй-яй, сынок ты мой, ведь уби-и-ить могли!
– Мама…
– Огнем гореть бы этим бабам, как соломе. И какая страна, боже, и мир какой, святая Мария, ох, с пистолетами ходят, как со спичками!..
– Оставь, мама… Знала бы ты, что это за девушка…
– Проклятая, не иначе, раз за ней с пистолетами ходят! Слушай меня, сынок, ничто так не портит бабу, как мужицкое буйство.
– Ух, тогда бы лучше я его на месте убил!..
– Ай-вай-вай! – стала жалеть его мама. – Оставь, не связывайся с ним! Будто больше нет девок на свете, накажи их бог, чем только можешь.
«Женить надо его, – решила она сразу. – Женю, грехи мои тяжкие… Плохо без детей, а еще хуже иметь их, а потом потерять, ибо может случиться однажды, что на холстине его мне с дороги принесут и, вместо того, чтобы женить, похороню его, а уж это я никак не могу… Женщина, она, как виноградная лоза вокруг тычка, около мужика вьется. И этот тычок, боже, попробуй-ка его выдернуть, – посмотришь, отпустит его лоза?»
– А он бил меня, мама, бил меня, будто я ему враг! Я его спросил, почему бьет, тогда он в меня плюнул, – застонал Серафим. – А если б сказал, наверное бы и не ударил…
– Вот тебе и на! Да будь она проклята, антихристка… Ты поищи в своем селе, сынок мой, ведь своя простокваша лучше чужой сметаны…
– Ох и мир этот, мама!..
5
От базара рябило у Белого в глазах, будто пестрое платье полоскалось на солнце и на ветру. Когда-то, еще сосунком, пожевал он такое же платьице и получил по губам, будь здоров! – так что и теперь закрывает глаза, едва зарябит где.
Странное дело, это рябое платье сейчас его ослепило, опьянило, и он тяжело вздохнул, словно хотел сказать: отпустите вы меня, оставьте в покое… покоя… покоя нету.
– Вот и добрались мы, Фрэсинэ.
– Точно, вон и тот, с овцами…
Они входили в ворота базара, и он, Белый, ткнулся первым, но тут же получил по рогам портфелем, и он же, Портфель, крикнул:
– Эй, дяденька, а такса?
– Почему бьешь, товарищ, ты что, выиграл его в костяшки?
– Помолчи лучше, а то совсем на базар не пущу!
– Пожалуйста, если нужна эта такса… А если не продам, вернете деньги?
– Так ты попроси его, чтоб продался…
– Хе-хе, если б он, как вы, понимал…
– А не хотите вы оба туда, откуда пришли?!
Блуждали долго – он, она, Белый, Белая – среди крика, кашля, свиста, пыли, богов, крестов, распятий и запахов разных-преразных, таких, что кишки выворачивало, и все тут.
– Рыба, шфежая, шфежая рыба!
– И это свежая… Да она воняет!
– Шфаняет? Она? Это я, я шфаняю, – бил себя шепелявый кулаком в грудь.
Мирный, каким он и был, Белый шел, принюхиваясь к телегам, подводам, козам, кормам-овощам, кусучим, вонючим, колючим: лук, хрен, редька, щавель, крапива…
– А как же, милая, в борщ, доченька, знаешь, какой борщ из крапивы!
Но та уже попробовала и плевалась-ругалась:
– Бесстыжая, спекулянтка, обманщица!
– Дура!. Дикая!
– Воровка… всякую гадость продаешь, тьфу, тьфу!

Белый шел и нюхал, и стало ему плохо, будто шел за гусыней, и он поднял морду кверху и оскалился на небо, на солнце. Эх, если бы он не был быком, если бы не был тем, кем был, должен был бы он привыкнуть, должен был бы знать, понимать тысячу вещей: время – базар – хозяин; такса – крест – бог; спекулянт – обман; страховка – солнце – источник – интерес; веревка – ненормальный; много – мало, твой – мой и т. д. Но надо помнить, что был он бык, бык от копыт до рогов, и, придя на скотный базар после всех этих крестов, запахов, и свиста, он увидел, что и остальные животные невыспавшиеся, усталые, ибо если у их хозяев был здесь какой-то интерес, то какой интерес для них, животных, в том, что их согнали сюда?!
Александре, пригляди и за моей, пожалуйста…
– А сколько просить?
– А ты по базару смотри. Только от семисот ни копейки не уступай…
– А я тебя прошу, синьку купи, если увидишь. Жена велела…
– Если цыплят продам, а то у меня денег нету…
– Да вот тебе деньги!
Козырек помахал замусоленной бумажкой. Благодаря такой вот бумажке, которую протянули Портфелю, Белый добрался сюда, до своих. Странно, но Бычок уловил запах дубленой кожи, смешанный с запахом человека; да, то был запах сумки, шерсти и тряпки, согретой телом, – вот так пахли эти бумаги: человеческим телом, засунутым в кожух!.. И вдруг, со всех четырех сторон, на него хлынул этот запах, и он закрыл глаза и отрыгнул и начал жевать какой-то капустный кочан.
– Здорово, дядя Тоадер! Приятного аппетита.
– Аппетит как аппетит, да думаешь, есть чем жевать? – и Кожух открыл рот и показал десны. – Плохой базар, совсем плохой.
– Аза этого сколько просишь?
– Тогда скажешь, что и магарыч я должен ставить!
– А ты уступи, и в другой раз бог тебе уступит.
– Эге, до бога-то… Одной рукой он мне дает, а обеими отбирает.
– Бери деньги, а то потом искать их будешь.
– Не возьму.
– Тогда я не даю.
– Бык, телка?
– Бычок.
Белый уже заснул от спора Козырька, Кожуха, Портфеля, Шубы, Шапки, Шляпы, от этого запаха бумаг, запаха распаренного человеческого тела. И вот на тебе, пожалуйста, его будят и опять начинают крутиться вокруг…
– Возьмите-ка лучше у меня, – и Белый почувствовал, что потянули веревку: «Хэй».
– Красив, да бычок… А мы хотим для породы телку.
– Вот телка. Сколько даешь?
– Эх, мил человек!.. Знаешь, приходят на базар два ненормальных. Один просит много, другой дает мало…
– Ну, послушаем, поговорка ваша.
– Значит, вам не до покупки.
– Значит, вам не до продажи!
Белый опустил уши – что ж, значит, не нужен ты этому, раз вывел тебя за околицу и привел сюда, где черт ногу сломит, да и тому ты без надобности, раз даже и не смотрит на тебя. Были бы сейчас эзоповские времена и был бы он не просто бык, а бык-философ, он наверняка долго-долго бы размышлял: «Два ненормальных! Один просит много, другой дает мало… То есть почему ненормальный? Потому что дает? Потому что берет? Тогда пусть один дает, сколько у него есть, а другой берет, сколько дают!.. Ибо таков этот мир, и зачем говорить: ненормальный? Или, может, им это выгодно? Но тогда что же это такое: „ненормальный“? Может, просто слово для тех, кто на двух ногах ходит? Много… мало… А ведь мир – он не больше, чем мир, и на печи ветер не дует, и вымя матери не растягивается больше, чем коровье вымя. А молоко? Эх, молоко!.. Давно он забыл его вкус. И в конечном счете добро и зло – две рябые буренки, издали их путаешь, а попробуй сунься к ним – бодаются, собаки».
– А ну-ка, уступи хоть на литр вина…
6
Вздыхал дома Серафим: «Ох, и мир этот, мама…», а зря вздыхал… Ведь как смеялось село в это самое время! Веселились одногодки его, веселились девушки, даже стариков подпирало, не говоря уж о детях, у которых и других-то дел не было.
– Да как же это так, Серафим, мэй, – подзуживали его, – он тебя бьет, а ты, значит, руки за спину: «Еще ударь, бре, а то с одного разу ничего не понимаю!» Так, что ли?
У Серафима глаза большие-большие: «А теперь зачем они смеются? Ведь смешного здесь нет ничего», – и спрашивал удивленно:
– А чего ж вы хотели? Смертоубийства или чего? Ведь здесь как… ведь в драке как бывает? Не уступает один – все, сбивай гробы для обоих!
Смертью пахло от этих слов. Однако если люди настроены посмеяться, почему бы им не смеяться? И тут же просили серьезно:
– Скажи, как же оно случилось?
– Э-э, – жаловался Серафим искренне, по-детски, – понимаете, я мягкий молдаванин. Ударит меня кто-нибудь, а я поделать с собой ничего не могу. Такая меня тоска одолевает – большая, как этот мир.
– Что ты-ы-ы! – по-бабьи удивлялся Ангел, сельский пастух. – Вот я тебя сейчас ударю, что будешь делать, а, Серафим?
– Что ж, ударь! Ударь, пожалуйста, вот тебе и легче станет. Думаешь, я забыл, как ты мне дал овечий помет вместо сушеной черешни, потому что я был маленький и глупый, а ты смеялся, – сам себе жаловался Серафим.
– Да что ты говоришь? Ну и ну! Как же я это забыл? – удивился тот.
Вот так стояли они и разговаривали друг с другом, и теперь посмотрите, каков человек в этом мире: то давится от смеха, а то готов удавиться от счастья, ибо на самом деле не так все просто, как иногда получается в книгах.
Бывали у этого села пастухи и раньше, и такие и этакие, и вдруг на тебе – новый пастух, Ангел, не пастух, а полтора пастуха! И это понятно, ибо не посчастливилось ему иметь отца и мать, и даже тосковал он о них очень редко.
– Вот, маманя, видите, какое время настало? – откровенничал он с какой-нибудь бабкой, у которой столовался. – Останешься сиротой, а жить-то живешь, черт возьми!
– Если бог дает дни… – качала головой старая.
– У меня ведь, бабушка, детства не были, совсем не было! – кричал он.
– Эх, даст тебе бог детей и внуков…
– Хм, черт возьми! – восклицал он, меняя разговор. – Дай-ка перца горького-горького, я ему покажу! – Ибо была у Ангела привычка есть сильно перченный борщ.
А теперь, откуда он взялся, этот Ангел?
Ученый из академии совсем не занимается этим вопросом, а вот каковы факты: давным-давно, весной, когда прилетели аисты, в село Серафима пришел, один-одинешенек, жестянщик-цыган, которого звали Василий Красивый. Не то чтобы он был очень красивый, скорее, наоборот, был страшен, как смертный грех, но посмотрите, каковы и слова в этом мире: назови-ка тебя красавчиком, разве ты мне нос не расквасишь?
Видно, все дело в том, что в селе Серафима жили сплошь эстеты, но тогда совершенно непостижимо, откуда взялось столько чистого артистизма в этом селе, которое продавало сливы, чтобы купить хлеба… Ведь матери здесь растили детей в страхе и послушании, говоря: «Тсс, тихо, а то сейчас цыган придет и в мешок заберет!» Однако же и детки вырастали в этом селе, будь здоров! Только начинали понимать, что их в мешок не засунешь, на заборы карабкались:
– А вы откуда будете, дед Василе? – кричали цыгану, который шел по селу.
– И-из Оалонешт.
– Из Халоханешт?
Они дразнили его до тех пор, пока тянулась дорога, и все дворы клокотали так, будто полны были не детьми, а откормленными индюшками.
И вот однажды, какой-то весной, приходит этот Красивый и не один-одинешенек, как раньше, а с грудным ребенком на руках.
– А где же мать его? – удивился какой-то крестьянин: мол, сосунок-то есть, а где сиська?
– Эх, неужто не знаете цыганскую долю, – вздохнул тот, – была она, да умерла.
Раньше, из года в год, цыган ютился в сарае у крестьянина по имени Кислое Молоко, а этот год кончился для него ранней весной, ибо только-только все расцвело, как он умер от чахотки.
Крестьянин же тот обычно пел на клиросе по воскресеньям и после того, как похоронили Красивого, спрашивает у попа:
– Батюшка, а с этим ангелом что будем делать?
Вот так и стал Ангел Ангелом. Поп же долго не думает, берет да и отдает его другому цыгану, сторожу на винограднике, у которого своих детей одиннадцать душ. Видно, подумал поп: этому цыгану только и не хватает, что цыганенка, остальное все есть у него… Ну, а тот видит, что цыганенок пить-есть просит, и посылает его гусят пасти. Выросли гусята, переводят Ангела к ягнятам, вот и ягнята уже овцы, и тут оказался бедный Ангел в погонщиках.
Протягивает ему однажды чабан кружку теплого молока и говорит:
– На, пей, может, белее станешь…
Так-то оно так, да в молоке – длинный волос овечий.
– Есть брынзу ем, а из чего она, не знаю, – и как выплеснет молоко, все-все, до дна.
А эти, как их называют, чабаны, к нему по-доброму, по-хорошему:
– Слушай, ведь и ты станешь чабаном, а потом, может, и старшим…
– Противнее овцы не видел животного. Вон как пускает горохи в подойник, и не заметишь. А мы, чабаны… тьфу! – И ушел Ангел насовсем из овчарни.
Вот так обзавелось село своим пастухом, который разбирался и в крупном рогатом скоте, и в мелком.
А время оно и есть время – идет себе, а потом вдруг берет и меняется, глядишь, и в селе уже колхоз.
И вот теперь, когда стоят разговаривают Ангел и Серафим, все беды уже над ними прошли: и война, и голод. Оставалось им жить по-человечески, ибо все уже по-человечески жили, и вся эта благодать была запечатлена в книгах, в газетах и даже громко передавалась по радио. Да это и понятно, если посидеть, и подумать хорошенько, раз тебя мучит забота: «Ведь вот, умрем, и не будут знать наши внуки и правнуки – да и неоткуда им будет знать! – как жилось нам. Так почему же все-все это не напечатать в газетах и книгах, чтобы и внуки и правнуки видели, чтобы и они читали? К примеру, были капиталисты, и построили капиталисты нам, крестьянам, Крестьянский банк. Мол, нужны деньги – банк ваш, приходи и бери. Простой расчет: вернете потом. Хе-хе, а мы, думаете, дураки? И брать не брали, и отдавать не отдавали, и в конце концов – на, Крестьянский банк, комбинацию из трех пальцев не хочешь?»
И в селе Серафима и Ангела тоже был Крестьянский банк, с кассиром, со всем, только без денег, потому что деньги были далеко-далеко, в Бухаресте, а здесь – только счета. А теперь, как пришла власть Серпа и Молота, из банка сделали клуб.
И танцевали в этом банке парни и девушки, топали, прыгали, гикали, аж штукатурка со стен сыпалась. В субботу вечером, в воскресенье вечером – это уж обязательно. Да и в другие вечера тоже – когда бывали собрания – и тоже обязательно с музыкой. Музыканты играли задаром от радости, что им дали задаром банк, парни и девушки танцевали, радуясь, что танцуют задаром и что под ногами деревянный пол и хорошо слышно, как каблуки стучат, – такая благодать, хоть черпаком ее черпай!
– Не гикайте только, – просили старики, тоже довольные: что есть – то есть, а что будет…
Танцевал и Серафим, да редко. Все танцуют задаром, почему бы и ему задаром не потанцевать? Парней и девушек много, даже молодожены, Серафимовы сверстники, пришли… Только что кончилось собрание, дела в колхозе шли хорошо, и люди были довольны всем на свете.
– Ну, Серафим, – положил Ангел-пастух ему руку на плечо, – танцуешь, да вижу, не очень-то…
– Ох, Ангел, – начал Серафим мягко, – поверишь мне, что не могу…
– Чего так?
– А так – ведь, когда танцуешь, обо всем другом забываешь и только о ногах думаешь, хочу сказать, только волнуешься, а когда просто смотришь, и танцевать танцуешь, и о другом обо всем вроде бы вспоминаешь…
Смотрит на него Ангел, примериваясь: «И долго думала его мать, пока его родила? И с кем, господи…»
– Вроде бы я тебя понимаю, да понять не могу, – говорит.
– Ну да… – соглашается Серафим. – Что такое мама, сирота никогда не узнает…
Этого-то Ангел и ждал: был горяч, а от таких слов вспыхнул как порох:
– Как, как, как? А ну-ка еще раз скажи, как сказал!
– Я сказал, что мне тебя жалко, вот что сказал…
– Тебе? Меня? А что я, твой ребенок? – И Ангел ласково берет Серафима за пуговку на рубашке. – Скажи-ка правду: ты меня сейчас послал к матери или цыганом обозвал? Скажи все-все, не бойся, ничего тебе не сделаю.
Ошалело глядит на всех собравшихся вокруг Серафим и пожимает плечами: «Что я сделал ему, братцы, чего он привязался ко мне?»
Один парень, повзрослей, советует Ангелу:
– Успокойся ты, бре, чего пристал к человеку, вроде ты трезв…
– Я? – говорит Ангел.
– Нет, я, – говорит Серафим.
Услышав это, сунул Ангел руки в карманы:
– Выйдем-ка, братец!
Заволновались парни: «Подерутся или только так? А кто кого, думаешь? Хорошо, но с чего началось?»
Парень повзрослей смеется:
– Кто за кого, а что до меня, я за обоих…
А был Ангел высок и красив, с зубами белыми-белыми и жилистыми руками, и женщины смотрели на него вроде так: «Эх, только бы тяжелой не остаться, ведь схватит и не успеешь даже сказать „Оставь!..“ Но и Серафим был не хуже, потому что, глядя ему вслед, тоже вздыхали женщины: „Эх, будь уж что будет, да простит меня бог!..“»
Но ничего этого не происходит, а вот стоят они оба за клубом, тянут друг друга, толкаются, и слышно только: «Пр-р-р-р-р», словно что порвалось.
– Эх, Ангел, видишь, порвал ты мне рубаху, – говорит печально Серафим.
– Я?! – удивляется Ангел.
– Нет, я… – говорит ему в тон Серафим.
А свидетели ничего не понимают, и тогда Ангел обводит всех глазами: «Будет он драться когда-нибудь или не будет?»
А тут откуда ни возьмись один маленький, кривой, по имени Кирикэ, сын мамы Надежды, никак не может разобраться в толпе да в темноте:
– А какой из них Серафим и где Ангел?
Парень повзрослей дает ему подзатыльник:
– Вот они оба!
Хнычет Кирикэ:
– Зачем бьешь, бадя, теперь я ничего не увижу!..
– Затем, чтоб еще раз спросил, – смеется парень повзрослей. – Ну ладно, пусть будет как есть, хватит.
А Серафим, вконец убитый:
– А обо мне, братцы, уже и речи нет?
Все разинули рты, ну а Ангел руками разводит:
– Вот видите, всегда он так задирается!
– Я? – говорит Серафим.
– Нет, я! – говорит в тон ему Ангел.
– Чтоб я тебе когда-нибудь еще что сказал, Ангел, пусть я ослепну! – И вдруг ни с того ни с сего как схватит свою правую руку левой и поднимает ее и кричит: – Чья, бре?! Кто это, мэй?! – И отпускает руку и снова хватает и снова кричит: – Правая горит, а левая держит, и почему левая моя, а правая чужая, а? Умру – не забуду тебя, Ангел!
Обиженный, Ангел призывает всех в свидетели:
– Слышите? Теперь он желает моей смерти! Кто же за это ответит?
А все остальные, столько всего услышав, не знают, что думать, что сказать, что делать:
– Подожди, бре… Стой, бре… То есть как – не забудешь, за что: за добро, за зло?
– Кто, я? – успокаивается Серафим.
– Уж конечно не я… – режет Ангел.
Видит это парень повзрослей да и берет обоих:
– Э-эх, дайте-ка вы друг другу руки, и мир! – И смеется, обернувшись к собравшимся: – Посмотрите-ка на этих петухов! За добро, за зло, за жизнь, за смерть… Катитесь вы к черту и пошли в клуб!
– Хорошо сказали, бадя. Что за тварь человек! – Хнычет Кирикэ. – Когда меня по утрам мама будит, так ее ненавижу… Теперь скажите, кто кому навтыкал? Серафим Ангелу или наоборот? А то мама меня родила не очень-то зрячим.
Вот она, молодость!
Время уже спать, а они опять играть, танцевать: музыка играет задаром, в клубе тепло, девушки ждут. И тогда говорит Ангел Серафиму:
– Слушай, давай будем как два брата родные без отца, без матери и давай плясать так, чтобы этот Крестьянский банк развалился…
Услышал это Серафим и чуть не плачет:
– Хорошо ты сказал, Ангел, да только с кем плясать? С кем, Ангел? Думаешь, после той хоры, когда в меня из винтовки стреляли, кто-нибудь к моей душе прилепится?..
Широко открыл Ангел глаза:
– Да ты же говорил, что из пистолета?
Махнул Серафим рукой горестно:
– Пистолет ли, винтовка, не все одно – смерть?
Почесал Ангел затылок и ушел куда-то. Не было его долго-долго, и вдруг опять появился перед Серафимом:
– Угощаешь? – и потирает ладони.
– Подумаешь, дело, – отвечает Серафим рассеянно. – Было бы за что.
– А о той девушке, красавице той, забыл?
И снова Ангела нет как нет. Потом, поздно, приходит с Кирикэ мамы Надежды.
Теперь, не подумайте, что Надежда – это надежда, а Кирикэ – тот Хромой Кирикэ, несчастный святой, которому бабы молились от хромоты в давние времена, когда еще попы были. Надежда – это просто повивальная бабка, потому что пока еще не было государственной акушерки, а Кирикэ – сын ее, вы его сейчас только видели, мелковатый, но совсем не маленький, у него уже было семь расстроенных помолвок, а на восьмую он и не надеялся: девушки обходили его на пушечный выстрел, потому что кривой был Кирикэ, очень-очень… И то не его, бедняги, вина, таким его родила мама, которая и сама кривая была.
Значит, приходит этот Кирикэ, и Ангел показывает ему на Серафима.
– Ты погляди на него, он мне не верит… Послала тебя та девушка за ним или нет, говори!
– Ага, – отвечает Кирикэ, и один глаз у него на нас, а другой – на вас.
– Скажи хоть, как ее звать? – спрашивает Ангел и смотрит то на Кирикэ, то на Серафима.
Обрадовался Серафим: ох, боже, озари ты каждого любовью…
– И правда… Как же ее звать, бре? Ведь я с ней только раз покружился, а потом увели ее у меня…
А Кирикэ… Чего ж вы хотите от Кирикэ?
Тогда Ангел-пастух как ткнет ему кулаком в бок: «Говори, кривой, не то сейчас из тебя котлету сделаю!»
– Мария… ага, Мария! Как посылала меня сюда, сказала: без Серафима не возвращайся, ясно?
Ангелу радостно, Ангелу весело!
– Надо было ее сюда привести! Чего не сказал ей, что Серафим в клубе, посмотрели бы на нее…
У кривого глаза, забегали во все стороны. Покачал он головой, говорит:
– Не-ет, она сказала, что не покажется никому, чтоб никто не знал, что она пришла…
– Видал, Серафим? – говорит Ангел. – Не сдвинуться мне с этого места, если ты не предчувствовал чего-то такого, – и по-братски похлопал его по затылку. – Вот почему ты не танцуешь, братишка…
Хорошо, очень хорошо, что Серафим был влюблен…
– И еще что она сказала? – спрашивает.
Тут Ангел его перебивает:
– Посмотрите-ка на него! Может, хочешь, чтобы я к ней пошел?
– Стойте, подождите, – просит Серафим, – а мама Надежда что скажет?
– Слушай, Кирикэ, – наклоняется к ним обоим Ангел, – чтоб никто, чтоб сама земля не знала…
– Ну хоть часок, – просит опять Серафим.
А мама Надежда есть мама Надежда, конечно, не было ее, как всегда, дома. Ходила она по селу денно и нощно по своим повивальным делам, потому что в те годы люди сильно умножались, – к добру, стало быть. Ведь от нужды они избавились, потому что основали колхоз, и с войны вернулись, потому что никакая война не продержится столько, сколько продержится мир, и если после этого есть что есть да еще и пить, почему ж не рожать детей?
Так что бедная Надежда, старенькая, какая она была, не успевала одному младенчику перевязать пуп, – глянь, у ворот уже другой перепуганный отец кричит:
– Давай быстрей, мама Надежда, а то моя уже на стенку лезет, и воды пошли!
Значит, не было у мамы Надежды ни капельки покоя, а тут еще в доме ее получается большущая история без начала и конца, потому что, если разобраться, кто он, этот Серафим, – птенчик с травинкой в клюве или, как говорится, немножко дурак или кто? Ведь село всегда хочет иметь о человеке ясное мнение, как о погоде: дурак он или только притворяется? Или, может, другое что, и тогда зачем ломать голову, раз он все равно такой же, как ты…
7
– Бычок или телка?
– Бычок… Хэй, Белый, вставай!
И тут же вокруг Белого стали крутиться, вертеться, стали его тянуть, похлопывать, тормошить, гладить, оглядывать с головы до ног и еще раз с ног до головы, потом опять осматривали со всех сторон, словно яйцо с зародышем на свет. Он хорошо это чувствовал, потому что бык быком, а раз он живой, то как ему не чувствовать? Кишели-мельтешили вокруг шубейки, кацавейки, цигейки, пряжки, косынки, кожухи, козырьки, ватники…
– Поглядите-ка на него, видать, родила его мама к рождеству и вместе с детьми в доме зимовал…
– Сколько базаров исходил, такой картинки не видел!
– А Белый какой, бре, бре, бре!..
– Точка, точка, два крючочка…
– Вы это о рогах?
– И сколько за него просит?
– А помните, Бельцкий уезд как-то прислал нам такого же, семенного…
– Чего-чего, а этого в уезде было хоть отбавляй…
– Смотрите, уже бьют по рукам. За сколько уступили?
– Пять лепешек да два кола!
– Вы это о копытах и морде?
– Да бросьте, он прямо картинка, и все тут!
– Деньги как на дрожжах будут расти, если хорошо его кормишь.
– Да теперь, со всей этой техникой, на что он?
– На жаркое…
– И не говорите. Это ведь такое утешение, когда бычок есть. Выйдешь по нужде, пройдешься по загону, вот и мысль появится, с самого утра.
– Так-то так, да ведь с этой техникой он что? Говорю же вам: пять лепешек да два кола. Вы только поглядите, что пишут!
«МОЛОКО БЕЗ КОРОВЫ, ИЛИ КОРОВА-РОБОТ
Группа английских ученых создала агрегат, который производит молоко… без коровы. Эта машина перерабатывает траву, морковь, горох, словом, все то, что необходимо корове для корма… Но если в коровье молоко переходит только восемнадцать процентов белка, содержащегося в кормах, то машина превращает в молоко восемьдесят процентов этих белков. У „машинного молока“ еще одно преимущество: оно не содержит некоторых элементов, вредных для стариков и детей».
– М-м-м, а какое жаркое из него… котлеты, гуляш, печенка домашняя.
– Да пропади они пропадом! Где природа, братья, где живое дыхание? То есть что же, только мы и останемся, что ли? Запихнем в машину асфальт и г… а с другого конца парное молоко потечет? И это я должен пить?
– Да оставьте вы… Много повидал я на свете, а такой красотищи не видел!
– Значит, договорились? Ну, в добрый час!
– А магарыч?
Визжали свиньи, ржали жеребцы, а может, кобылицы, кто их разберет, а у Белого щекотало в ноздрях от запаха дыма и вина, и в ушах бухал барабан, и мычал тромбон, и жалел-плакал кларнет, а базар стонал: «в-ву-у-у!..» До тех пор, пока не очутился возле пузатой вонючей бочки, валявшейся на куче кукурузных стеблей, и он, Белый, потянулся туда мордой, потому что уже, слава богу, в животе урчало.
– Караул, воры! – И юбка за юбкой – и все в одной – всколыхнулись, вспыхнули: – Тьфу, черт, а я думала, он к деньгам!.. Эй, ты, с быком! Что, и тебя угощать и быка кормить?
– А мне все это ни к чему, будьте здоровы, мамаша. Мне любо, чтоб было любо, любо, что б оно ни было. Будь хоть лягушка, а если она мне люба, кому какое дело – не правда ли? Один раз живу на свете!
– Молодец! Как хорошо, что мы встретились… Дайка я тебя поцелую… Так мне радостно от всего мира этого, ну, дай, дай… Это твой бык? Дай и его поцелую, на, на!
– Эй, ты, играй! Вот, видишь?
И Белому снова ударили в ноздри разные-преразные запахи, запахи этих бумаг, гниющих между тряпкой и телом.
– Сегодня они есть, завтра их нету, – играй, а то во мне кровь застывает!
– А думаешь, во мне – нет?
– Бери вперед, на три кувшина.
– Поднимите бочку…
– Наливай, эй!
– Ю-ю-юй!
И снова барабан, труба, кларнет и скрипка стали плакать и стонать, а оттуда, с полей, с косогоров, шел запах отавы и пряного подсолнечного цвета. На небе расплавилось солнце, как воск, и если бы был пучок травы, мамочка моя родная… – разве есть у этого мира конец?
– За помин моей матери! Год, как скончалась, бедная.
– Бедная…
– Эй, прекратите играть!
– Вот вам калачик и свеча за упокой ее души.
– Встань, дорогой, милый ты мой, а то колени испачкаешь…
– Кровь людская не водица…
– Печаль-то какая… жалость-то какая.
– Ох, этот мир…
– Ох, бедная его мама…
– Ой, вай! Воры!..
– На помощь! Караул! Ограбили!..
И юбка за юбкой, все в одной, вздулись и опали тряпками, и Белый дернулся, аж веревка зазвенела.
Пыль, ругань, распряженные лошади, открытые рты, мухи, плевки, мусор…
– Держите его!
– Вот он, во-во!..
– Где?
– А базар сегодня на славу!
– На той стороне ограбили кого-то.
– На то он и базар: голый с голого кожу сдирает, а тот еще просит: оставь мне хоть рубашку.
– Так-то оно так, да хорошо, что здоровье есть!.. Теперь немного дождя бы, и все!
Белый, бык-бычок, ах, если бы у него язык был не только чтоб кочаны жевать, но и беды свои рассказать! Например, что когда-то был он хозяином лесов и источников и стоял на государственном гербе и на знаменах стоял, непокоренный, с рогами против полумесяца, и тот, испуганный, случалось, бежал от него в грохоте выстрелов, блеске ятаганов и топоте копыт. Потом был он гордостью уезда – много ли, мало ли, а чем-то же он был, но никогда, ни за что в жизни его дедов и прадедов и речи не могло быть о том, чтобы он, рогатый, шагал покорный, вислоухий на воображаемом поводу, и чтоб увидел себя висящим на ржавой жестянке, и чтоб обрадовался какому-то прошлогоднему кочану! И чтоб за его счет пили и веселились и пели, будто мать двойняшкой или с двумя головами его родила, – этого уж не понять ни на небе, ни на земле.