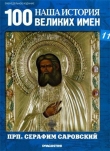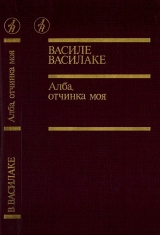
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
– «Ох, – застонал он. – И о чем же я думал, когда покупал этого бычка?»
А овраг кончается в селе и начинается в селе…
Выходит Серафим на дорогу и думает: «А знаешь, ведь еще остался бурьян по обочинам».
Глянь, а тут уже пацан, с овцой на поводу.
– Дядя, тебе кто разрешил? Сколько тянется забор, обочина вся наша! Или вы свою вскопали и теперь на нашу заглядываетесь?
Так, то вдоль заборов, то по дороге, дошел Серафим до своего дома. А у него под забором чисто, подметено, ведь только что женился хозяин… А скотина – она и есть скотина, откуда ей знать, что и как, – давай по соседским дворам. Думает Серафим: «Ох, что же делать, соседей не обидеть бы…»
И открывает ворота и загоняет стадо во двор.
– Ничего себе… – говорит за его спиной Захария. Что это ты выдумал, бре?
– А вы откуда взялись? – искренне удивляется хозяин-пастух.
– Так я же все время рядом!
И говорит о скотине:
– Что теперь натворит в твоем дворе эта сволочь! Вот посмотришь!
– Э, да бог с ними, Захария!
Садятся они обедать. Приносит Серафим немного соли и что к ней полагается, а Захария достает водку…
Ну, а скотина изголодавшаяся? Как попала во двор к Серафиму, так ест аж давится: тыквы множество, кукуруза, фасоль, картофель, то, другое, чего только не найдешь во дворе колхозника, который не держит скотину!
– Хо-ро-шо! – говорит Захария.
А этот, как его там, хозяин, глотнул и он водки и говорит:
– Лишь теперь я понял, дед: интерес – он что-то да значит… Конечно мое дело!
– Что же он значит? – говорит Захария, а сам ест, жует.
А вот что, дед. Хочешь быть добрым, а мысли, а мысли, а дела, а дела… Сегодня думал я: «Бедная моя мама». И снова подумал: «И мысли ее, бедной!» А кто может разрушить мысли?! Молния, холод, атомы? Думаю о самой доброй мысли. Но опять думаю: «А если я умру?»
И вздыхает Серафим: «Сколько я жив, столько я стойкий-крепкий». И вспоминает: «А вчера у меня сдох на солнце поросенок».
Глядит на него понимающе Захария и говорит, успокаивая:
– Устал ты… И со мной такое бывало, как случится что-нибудь… Вот так: сядет мысль на грудь и душит тебя… Вижу, плохо дело, и говорю тогда: «А ну иди сюда, скрипка, иди ко мне». Жаль, собака была по соседству, как услышит, выть начинает. И я тогда со злости: «А ну-ка иди, Захария, в корчму!» – И Захария еще выпил и заключил: – Не встать мне с этого места, если ты не гож только для скрипки для одной!..
– Эх, – махнул рукой Серафим, – я даже петь не могу, не то что играть.
– Мэ-эй! – вскрикнул Захария. – А ты пой для себя! Кукушка ведь для себя поет, сверчок тоже!..
И тогда впервые громко сказал и Серафим:
– Скажите-ка вы мне, дед, что это за песня, если ее никто не слышит? Ведь песня – она песня, когда другие – мир ее слышит!.. Ведь кукушку, и ее лес слушает… Как того немца называли?
– Штраус?
– Ага. Вот если бы вы его не слышали, разве вспоминали бы сейчас?
И так размяк Захария, так он подобрел да вдруг и говорит:
– Мэй, Серафим… Эх, ты давно не слышал, как я играю… Ты никогда не слышал, как я играю на одной струне!
Взял он скрипку, натер как следует канифолью смычок и все хвастает:
– Даю голову наотрез, что не найдешь музыканта, который играет как я, и только на одной струне!
………………………………………………………………
А по сельской дороге бежит-спешит Замфира. Постоит, отдышится да и думает:
«Господи боже, был бы пожар – дым было бы видно!»
«Был бы покойник – плач было бы слышно».
«Ох, а если ограбили нас…» И вот на тебе, она уже у ворот…
И как вы думаете, не потемнело у нее в глазах?
Дом и двор словно загон и сарай, чужие бы прошли, и то такого бы не натворили.
А там, перед домом, Серафим стоит рядом с бычком, да еще и ласкает его, грешный.
– Посмотрите-ка на него, дед! В плугу и в ярме был он, кем был, а теперь, скажите, что его ждет?
А музыкант, когда играет, думаете, он что-нибудь слышит?
– И хорошего ничего, и пользы уж совсем нисколечко, так ведь?.. Ну, а если он мне люб? Поймите меня по-человечески, дед, он мне люб, а это не шутка, да, да. Вот, скажите-ка мне, какая польза от цветка? Но если он тебе люб, рвешь его, не так ли?.. Теперь, раз уж так все вышло, что мне делать с ним? Ибо так случилось: как его увидел – дрогнуло во мне что-то.
А дед Захария и слышит и не слышит, играет и играет на одной струне, с закрытыми глазами, как во сне. Вдруг бросил игру и стал пальцами шевелить. Да еще и вздыхает:
– Эх, техника, техника… Где моя техника – молодость! – И вдруг: – Слушай, Серафим…
А этот, как его там, Серафим, уже из сеней кричит:
– Ни-ни-ни-ня!
Бык-бычок, а и он понимает, что его зовут, и как стоял возле Захарии под орехом, так уже бежит к Серафиму, чуть в сени не заходит. А хозяин радуется-бахвалится: где еще вы такого бычка видали? И говорит старику:
– Видели вы, дед? Вот вы говорили, что и красоты в нем никакой и пользы нисколечко, а я говорю: а если он дышит? Ведь живой он и понимает: «Ни-ни-ни-ня!» Смотрите-ка! – И, говоря так, берет бычка за шею по-братски, приглашая: «Ну-ну, давай, Апис…»
Потом опять к Захарии:
– А зарезать – собака ведь не съест сразу целиком! Так почему же мне не держать его вместо собаки? Той хлеб нужен, а этот растет как растет – немного травы, немного сена…
В жизни Серафим не говорил столько. А как смягчилось от этого сердце старика, вот-вот прослезится! И говорит расчуветвованно:
– Милый ты мой, знаешь, что? Прими-ка ты мою старость в свой дом! Ей-богу.
А Замфира как услышала это, так и говорит себе: «Ну и дела!»
А Захария, увидев Замфиру, еще больше разгорячился:
– И дом на вас запишу, и скрипку вам оставлю, ведь у вас будут дети.
А Серафим Замфиру не видит. Не видит, и все. Свое твердит:
– Клянусь верой: умереть мне, если видел я что-нибудь красивее на этом свете! Вот так стояли крестьяне вокруг него! – И растопырил пальцы, словно бык или птенец, выклюнувшийся из скорлупки. – Вот так, дед: все, что дышит на этой земле, мне дорого, аж пропадаю! Вот увижу лягушку, и ту… Вы когда-нибудь видели, как толпятся дети вокруг червяка?
Не выдержала тут Замфира:
– Вот и держи его вместо жены… А я не буду тебе в доме червяком. – И заплакала женщина.
Растерялся Серафим, говорит испуганно:
– Чем я тебя обидел, Замфирушка? Скажи, прошу… И побей меня, если я виноват!
Утешает и Захария женщину:
– Милая ты моя, муж-то какой у тебя, дай бог всем.
А Замфира – она как женщина: похвалишь ее беду, будто на углях ее жаришь.
– А то другого ненормального я не нашла в этом селе! Видно, все здесь… – И повернулась, будто ветер погнал ее к воротам.
Стоят они вот так, Серафим и Захария, и молчат… Видит все это старик и убирает инструмент свой в котомку, говоря:
– Вот так… хочу сказать, в остальные дни, как вы миритесь?
Совсем разбередило это Серафима:
– Дедушка! Если бы у нас уговора не было с самого начала! Или бы я с ней ругался, или сказал бы что плохое! Вы же сами слышали… Я к ней по-хорошему, она ко мне по-хорошему, хотим и мы быть хозяевами, как все люди… Ибо с самого начала так уговорились. Далее сама она сказала: «Слушай, этому дому нужна скотина!» Я говорю: «Нужна!» – «Так выбери, что тебе больше понравится, то и мне будет мило». А теперь пожалуйста!
Вздыхает Серафим, снимает шапку:
– Эх, и счастлив же был этот Штраус…
– М-да, – и старик протянул ему руку, – что тебе сказать? Будь здоров, Серафим… – И к воротам его дорога – пошел Захария.
А Серафим собрал стадо и тоже к воротам: погнал его поить.
Вот уже вечер. Вот уже ночь. Село как село, покоя ему нет, а тут стада след простыл, и все! Вначале детей послали его искать. Как пошли, так и вернулись: нет скотины. Пошли женщины – то же самое. Да еще ругались: «Где его найдешь в темноте!» Увидели все это – вышли мужчины с сыновьями. Они, меньшие, – что им делать, ожидаючи? Взяли тыквы и повырезали такие маски, словно чтоб чертей пугать!..
А у Трех Колодцев земля стонет – столько людей собралось, и каждый со своим словом-мнением, а трое верховых ждут, чем все кончится.
– Не забудьте, загляните к Захарии!
– И еще раз домой к Серафиму!
– И посвистите разок в лесу, не поглотила же их земля!
Полетели всадники, а разговор не унимается:
– Наверно, заснул где-то, а стадо? Теперь ищи-свищи его.
– Осталось только свечку поставить!
– Видать, правду говорят, что валялись они с Захарией пьяные в овраге.
– Неправда! Его лесник арестовал.
И когда собрали все слова вместе, оказалось: где только не был Серафим за этот летний день, с утра до вечера! В лесу, в буфете, и в овраге, и в соседнем совхозе, и на базаре, и у себя во дворе. Тут совсем вышел из себя инвалид:
– А ну замолчите! Пойду-ка я в милицию: его из-под земли достанут!
Останавливались на дороге прохожие, любопытствуя: «Что за собрание, чего их среди ночи лихорадит?» Увидев это, какая-то женщина напустилась на детей, которые носились туда-сюда с тыквенными масками, подсвеченными изнутри свечами:
– Дьяволы, и у вас покоя нету!..
Время было к дождю, сверкало и гремело – Илья пророк гнал по небу своих лошадей; а по дороге ехал-спешил Ангел, треща своим мотовело. Как раз развозил вечернюю почту и, увидев сразу столько народу, обрадовался.
– Вот хорошо, что вы собрались… Получайте, пожалуйста, газеты!
Вынул он из кармана фонарик и начал шарить в толпе. Но того, кого искал, не нашел.
А тут бабушка Сафта спрашивает его:
– Мэй, Ангелаш, там, откуда едешь, случайно не видел, не встретил стадо?
– Бабка, а почему ты не идешь спать? – удивился Ангел. – На что тебе скотина на старости лет, ведь колхоз и так тебе дает молоко.
Молчит бабушка Сафта, потому что вмешалась баба Анисья:
– Хорошо, у других дети есть. А у меня, старухи, кому его пить?
– Это правда… – вздыхает Ангел. – Значит, вы ждете Серафима. Тогда я поехал, бедный.
Видит он, что все молчат, садится на свое мотовело – и прямо к дому Серафима. А там глянь – фонарь светит, а в доме темно. Видит, у ворот тень.
– Добрый вечер, Замфира. Я к Серафиму.
Молчит женщина, потому что нечего ей сказать. А Ангел снова спрашивает:
– Почему ж ты молчишь? Скажи-ка лучше, на что тебя подписать? На «Женщину» хочешь? Или на «Крестьянку»?
Снова молчит Замфира, потому что только этого ей сейчас не хватает: снизу, из долины, поднимается, идет сюда народу множество, и голоса, и слова разные, будто собираются дом поджечь.
– Хорошо, товарищ милиционер, но если этот Поноарэ потерял нашу скотину, наше добро, наш труд, почему его не арестовать? – кричит инвалид.
– Что арестовать, люди добрые? – возмущается милиционер. – Кого? Разве не видите, что темно? Человека нет!
– Хорошо, товарищ милиционер, но как же тогда? Или закона нет? Так недалеко и до беды!..
– Эхе-хе, а ну-ка пошли вы все со мной, дадите показания, как и почему…
– Ну, если так…
– То что? – интересуется милиционер.
– Лучше на завтра оставим, – говорит бабушка Сафта. – Человек же нам добра хотел, так ведь, люди добрые?
– А вот не так. Серафима надо вызвать сегодня же вечером, – не отстает инвалид.
А тут, со своей стороны, и этот Ангел тоже не сдается. Замфира идет быстро-быстро, а Ангел за ней медленно, на мотовело.
– Обожди, Замфира! Почему не хочешь разговаривать? – спрашивает он ее, а тут глянь, женщина идти-то идет, но и плакать плачет. – Видишь, какая ты, Замфира? – И давай ей по-ангельски втолковывать – Ты плачешь, потому что ты сама виновата. Ты плачешь, и ты же сердишься, так ведь?
И, выведенный из себя этим молчанием, вдруг спрашивает возмущенно:
– Ну, а теперь чего плачешь?
– Да оставь ты меня с богом, мэй! – не выдерживает и женщина.
– Теперь видишь, каково тебе? И все потому, что не хотела меня слушать! – говорит Ангел, торжествуя. – Зачем посылала весть Серафиму через маму Надежду?
– Хоть бы мне не слышать тебя! – И проклинает всуе: – Да будь он проклят, этот белый бык!
Вот так идут они, бредут и мучают друг друга, как два врага: храни, боже, любовь от порчи, ибо никто ее не исцелит.
А Ангел хочет, а Ангел пробует, и Ангел говорит:
– Э-э, оставим мы все это… Пошли ко мне! Поверь, ведь я тоже одинок и никого у меня нет, ты слышишь меня, Замфира? Ведь настоящий отец детенышу я?!
– Растут они, дети, и без отца…
– Смотри, чтоб потом не раскаялась…
– Чем такой отец – лучше под поезд!
– Замфира! Одумайся, Замфира!
– И слышать тебя не хочу!
И Замфира все шла и шла, и Ангел, увидев это, плюнул и остановился и сказал:
– Думаешь, я пропаду? Эхе-хе-хе-хе! – И он заскрежетал зубами и почувствовал, что дальше некуда. И подумал: «Ты посмотри на нее! Эхе, или нет больше женщин на свете! Да пошла она к чертовой матери!» – и повернул обратно.
«Поищет она меня, да найти не сможет. Она меня еще просить будет», – говорил он себе, и, чем больше так думал, тем ему становилось вся тяжелее, так что еще чуть-чуть и окликнул бы ее. До тех пор, пока снова себе не сказал: «А вот я ее и не окликнул… Да пусть катится к чертовой матери!» И сел на мотовело. «Поищет она меня». И успокоился, потому что надо было глядеть на дорогу, чтобы не наехать на забор или еще на что-нибудь.
…Правление колхоза, куда направился Ангел, тоже помещалось в крестьянском доме с сенями, с крыльцом, но без завалинки. Люди приходили сюда по делу, но и без дела заходили. Из-за этого часто по вечерам ссорились хозяин с хозяйкой, да так, что слышно было даже на дороге.
– Ну, а теперь куда? Опять в буфет? Или к любви своей первой? Опять до полуночи? – сердилась жена.
А он:
– Тихо, жена… Люди ведь слышат. Какой тебе буфет померещился? Какая любовь? Пойду посмотрю, что там слышно в правлении.
А она тогда мягко:
– Ну-ка сядь, хочу сказать тебе что-то.
И клала голову его себе на колени, будто он маленький, и рассказывала длинную сказку без начала, без конца, которую нам все же с какого-то места, да надо начать.
– …И тогда человек пошел к всевышнему и сказал:
«Боже, я все понимаю и во всем разбираюсь. Одно мне только непонятно: если ты создал меня для жизни, почему посылаешь мне смерть?»
Услышав это, Бог нахмурился и спросил:
«Кто ты такой?»
«Человек».
«И что ты хочешь от меня?»
«Хочу знать, зачем я умираю».
«Спроси у своих детей».
«А если я не знаю, откуда моим детям знать?»
«Так пусть они узнают у своих детей».
«А где дети моих детей отыщут ответ?»
«А на что я дал тебе жен…»
Слышь, муженек? – и взглянула женщина на мужа, а он уже и заснул. А когда открыл глаза, чтобы спросить: чем же кончилась эта сказка? – глянь, а на улице уже белый свет. И наваливались на него другие дела и заботы, так что откладывал он сказку опять до вечера.
Вот так в конце концов женщины брали верх, и теперь все мужья, умники, сидели дома. Пришло время, и сами женщины посылали их туда-сюда, они же, отученные, даже с места не двигались.
Она:
– Сидишь пнем у печки, провонял мне всю душу! Цигарка за цигаркой… Нет чтобы пойти да посмотреть, как там мамина коза! Или ждешь, чтоб я пошла? Смотри, пойду я, тогда уж покажу этим Ангелам да Архангелам! Утром послал ребенка со скотиной вместо того, чтоб самому поговорить с пастухом, вот он и видит, какие вы дураки, ты да Серафим…
Он (затягиваясь цигаркой):
– Угу. Хм, ничего… – И прикуривал от той цигарки другую. – Да помолчи ты, дурная, а то я сейчас думал, а ты помешала…
…Так что и в этот вечер опять довольно много мужчин было в правлении.
– Привет, Серафим, – поздоровались они. – Ты по какому случаю?
– Да так, всякое…
И он смутился и забыл, что у него шапка в руках, и, когда вошел в кабинет председателя, забыл ее повесить. А тот, занятый своими делами, счетами-расчетами, даже не замечал, кто заходит, кто выходит, ибо должно было быть собрание и комната была полна дыма и людей.
– Где тебя черт носит? – удивился Настас-бригадир, первый увидев Серафима. – Посылал одного за тобой – пришел без тебя. Послал двоих – те ни с тобой, ни без тебя. Пошел сам и встретил твою жену. – И вдруг, понизив голос, зашептал ему на ухо: – Скажи правду: правда, что разводишься? Они не знают, а то начнут теребить, – и бригадир покосился на тех, за столом.
Справа от председателя сидел милиционер, слева – два лесника, важные, как индюки, ибо пришли сюда в интересах службы.
– Вот и Серафим, Михаил Иванович! – крикнул радостно Ангел.
Посмотрел председатель на Серафима и говорит:
– Ну, рассказывай, товарищ, что случилось, что там с вами?
– А я знаю?.. – искренне удивился тот. – Узнаю, если вы мне скажете, – и пожал плечами. – Вот, бадя Настас вам сказал… – И вдруг Настасу: – А что она вам сказала? Что я ей сделал плохого? Что я ей сказал? Я даже дома еще не был… – И вдруг поднял глаза к потолку – Мама, мама! Теперь ты видишь, что со мной?!
Долго-долго смотрели собравшиеся на него: «Говорит вроде хорошо, да о чем?» А тут Ангел прикурил от своей зажигалки, и из нее раздалось: «Пусть всегда будет мама!», и это отвлекло всех, и они так и не поняли, что происходит, и тогда председатель прервал тишину:
– Ну так что?
Молчит Серафим, а один лесник говорит поспешно:
– Давайте подпишем акт, и конец. – И вздохнул: – Уже полночь, а лес у меня один-одинешенек.
Поворачивается председатель к леснику:
– Если я подпишу, он должен платить… – И снова к Серафиму: – Брат ты мой, скажи мне, как же это случилось? Мы дом тебе дали, мы тебя в село перевели, думали, ты будешь примерным колхозником…
– Могу добавить, – вмешивается в разговор бригадир. – Это точно, Михаил Иванович, с тех пор, как он женился – нет Серафима-парня! Эх, знали бы вы, какой работяга был, горячий – чисто спичка!
Качает головой Поноарэ: «Что правда, то не кривда, и я вижу, и я чувствую, а думаете, понимаю?»
Видит все это милиционер и давай быстро записывать в протокол:
– Скажите-ка, товарищ, это вы ходили сегодня со стадом?
Кивает головой Серафим: да.
– И это вы повели скотину по большому оврагу?
Кивает Серафим: так это.
– И вы разбили там кирпичи?
– Ага, – кивает Серафим. – Только не я, как вы говорите: «Вы», «вы», а скотина…
– А у вас глаза есть? – возмущается милиционер.
– М-да… – привычно говорит Серафим.
Теперь и председателю надоели все эти разговоры с Серафимом. Говорит он:
– Ну?
И Серафим со своей стороны:
– Что?
– Дорогой мой, ну скажите: разве это красиво? Смотрите, сколько всего наворотили…
Как проняли эти мягкие слова Серафима! Чуть ли не всхлипывает:
– Если нет у меня счастья, то и нет его… Михаил Иванович! Думал я, добро делаю – с добром встречусь. Думал – сколько солнца, столько тени, столько зелени – все лес!.. Грешно ведь… А у меня во дворе что? Ничего!
Тут уж никто не понял, чего хочет этот Серафим… «Лес, солнце, тень, зелень…»
– А еда у вас есть, жить есть на что, одеться есть во что?
Слова эти совсем огорчили Серафима:
– Да речь не об этом… Потому что есть у нас язык, и мы говорим, пишем, бьем себя кулаком в грудь… А я теперь думаю, эх! – И он махнул рукой и вдруг просветлел – Понял я… Ох! Теперь я вижу, что маму свою подвел, и жену обманул, и Аписа… И деда Захария обидел, и вас, и Фарфурела… Эх, что мне еще сказать? – И опустил глаза. – Вижу теперь: все за меня и все мне хотят добра… – И по-человечески всем поклонился: – Прошу, простите меня!.. Эх, до чего хорошо сказал этот Штраус, мэй, мэй!..
– Кто, кто? – интересуется Ангел.
Молчит Серафим, а милиционер объясняет:
– Да тот, с кирпичами… – И Серафиму: – Вот так-то, товарищ, понимать надо…
– А я что сказал? – радуется Серафим. – Если я добр, то, конечно, добр. Не видите?
– Вы свободны, – разрешает ему председатель.
Открывает Серафим дверь, выходит. Собрание вот-вот начнется – глядь, а он, Серафим, и не вышел. То ли не выходил, то ли вернулся. Только не говорит, а мается.
– Что с вами? – спрашивает его председатель. – Пожалуйста, я вас слушаю…
Махнул рукой Серафим и выходит, говоря:
– Уж в другой раз… Когда вы одни будете…
Вышел Серафим на дорогу и думает: «Идти-то я иду, а куда иду?»
Идти-то он идет, а за ним бычок идет не идет. А по дворам старухи матери, отцы-братья, сыновья-дети глядят, удивляются:
– Что же это, бре? Идти-то он идет, а петь не поет, а?
– Бедняга… Принял натощак, и только с хлебом…
– Ну если так, чего же удивляться? Идет он, этот Серафим, и слышать не слышит и думать не думает, ибо только одно на уме: «Ах, как бы я лег, поспал бы… Ах, мамонька моя, как бы спал! Спал бы и не проснулся больше. И, ей-богу, пусть болит у меня, что болит, никто меня не разбудит».
А дорога тянется-тянется, а эти двое идут – никак не дойдут.
– Наконец-то, спасибо, нашли пастуха!
– И женушка… Ангелам-Архангелам – на утешение!
– Известное дело! Уж лучше глупый да злой, чем злой да умный…
А Серафим, может, слышит, может, не слышит, а голову себе совсем не ломает. «Откуда иду и куда повернуть? Домой, конечно, домой».
Впереди забор, а в заборе ворота. «Пока идешь – не думаешь, а очнешься – вон ты где».
Шел он не шел, а дойти дошел. «Ворота закрываются или открываются? Кто я теперь? Кому я нужен теперь? Ох, лягу я под орех и засну как убитый». И заснул он крепко-крепко, так, что если у него ничего не болит, больше и не встанет!..
………………………………………………………………
Проснулся он на заре, когда все в поту, и первое вот о чем подумал: «А где жена?.. То есть была бы жена, не было бы мне теперь холодно…»
Кинулся он к жене, а жены нету! Кинулся к бычку – и бычка нет… «Ну и ну, дела божеские… Без жены на что мне бычок? Уж лучше пусть его собаки съедят, ведь я им обещал…»
Встал он, помылся, причесался и – за женой. А жена-то ни здесь, ни там, а чуточку подальше.
Идет он, идет, а тут уж и день занимается…
«Вот и еще один день жизни прошел и вот другой на его место приходит… А что поделаешь: так-то!»
Подходит он к Замфирову двору, а там глянь – во дворе прабабка. Сидит себе старуха на стульчике и на солнце греется. А старуха старая-престарая, и все дни ее считать – не сочтешь.
– Доброе утро, бабушка!
Вздрогнула старуха и говорит:
– А?
– Говорю, день добрый. Доброе утро! – кричит Серафим. – Что поделываете?
И тут вдруг опускает старуха голову на посох и давай рыхлить песок под ногами, будто память свою, и говорит:
– Делаю, делаю, делаю… А ты кто?
– Серафим.
Приставила старуха ладонь к уху:
– Какой Серафим? Из долины или с холма?
– Так я же Серафим, я муж вашей внучки.
– Внучка… внучка… внуч… – опять не может вспомнить старуха.
– Муж Замфиры!
– Замфира… Замфира… Замфира, – и опять опирается на посох. – Какая это Замфира? Нет у меня такой внучки. Настасия, Катинка, Фрося, Лиза, Оля, Мария… Мария… Мария…
– Серафим!
– Серафим… Серафим… Серафим… Какой Серафим? Неужели крестницы Елены из Поноарэ?
– Ну да. А вы знали мою маму, да простит ее бог?
– Я ведь ее крестила…
– Так я ее сын – Серафим!
– Это ты, кум Серафим!
– Да. То есть нет. Сын Серафим, сын Серафим из Поноарэ!
– Ох, да-да, – качает старуха головой. – Помню я, как крестницу Елену хоронила, – и старуха согнулась, оперлась подбородком на посох. – Да, похоронили ее без попа, поп-то сбежал с немецкими турками…
Оцепенел Серафим, окаменел человек. Кричит:
– Как же так? Если вы были на похоронах, как же вы не помните? Вспомните, я от горя так плакал, что свалился в могилу…
– Никто… неправда… Хотя… постой, оставался еще, да, был и кум Серафим… Потом, после этого, была я и на его похоронах. У него было поле в долине Елены, а жена его, Кристина, оплакивала его, а сколько жил – проклинала: «Чтоб лопнули твои глаза, в поле-то не идешь, как и я не иду, а идешь к Елене, к разлучнице, а то все село ее не насытило!»
– Да ведь у меня отца не было… Я отца своего не видел!
– Ох, и как хотели они ребеночка! Помню, жаловался мне, бедный: «Назвал бы я его Серафимом…» И у него счастья не было – умер, не родив ничего…
Опять оцепенел Серафим, опять растерялся человек.
«Ох, да что ж это еще такое? Что говоришь, старая? Как же так: нет меня, бабушка? Где ж я тогда? Как же так, или я не семя человеческое? Что же я такое? Как же так, и у матери моей детей не было?! Кто ж тогда я? Как же меня нет, если я есть, вот я! Понимаешь ли, что говоришь, бабушка?»
Стоит столбом перед ней Серафим и уже не знает, что говорить, что делать, и как схватится руками за голову: «Так чей же я, если я есмь!»
– Бабушка, слышишь, бабушка! Я же муж вашей внучки!
А старуха словно потеряла рассудок, все одно и одно твердит, свое:
– Вот, вот… Вот так и говорила бедная Елена: «Если б он у меня был, я б его женила, я б его хозяином сделала, чтоб был, как все люди». А умерла, бедная, без рода, без семени!
И ни с того ни с сего заплакала старуха…
Хорошо, что Замфира вышла из-за дома с охапкой фасоли, а то Серафим уже и не знал, что делать. А старуха в своем одиночестве безнадежном, в своей беспросветной старости молит небо:
– Боже! Услышь меня, прибери меня, боже! Боже, почему ты не даешь и другим столько дней, сколько трав на земле, чтобы видели и понимали они, сколько не поняли!
Слышит это Серафим, и жалость его разрывает, и говорит он:
– Замфира, есть в тебе хоть капелька души? Скажи ей что-нибудь, утешь ее, бедную.
Как будто и не слышит его Замфира. Говорит:
– Молчи, бабушка! Скажи, чего хочешь?
Но молчит старуха, и Замфира опять за свое дело – распластала коврик, кладет фасоль и давай чистить.
Садится Серафим рядом и говорит:
– Значит, ты меня бросила?
А Замфира:
– Да, бросила…
Снова спрашивает ее Серафим:
– Ну, а потом?
– Что потом? – спрашивает Замфира.
– Говорю: вот ты меня бросила… Хорошо. А после меня кого еще бросишь?
Молчит Замфира, а про себя говорит: «Знаешь что…» А тут, будто с того света, подает голос старуха:
– Мария… А Мария…
Испугалась Замфира.
– Нету мамы… Мама умерла, что с тобой, бабушка?
– Добрый человек, а листья зеленые есть еще на деревьях?
А эти двое словно очнулись и глядят вокруг пристыженно. Мол, живем мы и не замечаем каждый день: то ли зелен, то ли высох лист, ибо живем, ибо умираем медленно.
А старуха как старуха – уже совсем согнулась и говорит:
– А что солнце сильно остыло… Совсем остыло…
Спрашивает тогда Серафим:
– Ну, что скажешь, Замфира?
– Так я сначала постараюсь кого-нибудь найти, а уж потом бросать буду.
Слышит это Серафим и выпускает фасолины из рук, и куда, вы думаете, они падают? – не на ковер, а в траву.
– А мне, кого мне бросить?
И тут нашло на Замфиру не поймешь что – и злость, и любовь, и смех, и насмешливость, и спрашивает с любопытством:
– Скажи-ка правду: почему женился на мне, а? Потому что жалел или потому что любил?
– Если знаешь сама, зачем спрашиваешь, Замфира… Когда любишь, тогда и жалеешь… Или ты не видишь, женщина: все люди так… Весь мир как ком-клубок – мужчина и женщина, муж и жена… Тогда мы – кто же? А то мама моя бедная, будь ей земля пухом…
– Кого это слышно у нас? С кем говорите? – ожила опять старуха, будто дитя от сна.
Кричит тогда Серафим:
– Я это, бабушка! Я, внук ваш!
Не слышит старуха,?. тут еще Замфира возьми да заплачь. Одна слеза на белую фасолину падает, другая – на черную.
А тут и старуха как застонет, как завоет в своем воображаемом одиночестве:
– Все меня оставили, все меня бросили! Умру, и никто не услышит, о-ох!
Совсем потерялся от жалости Серафим. Говорит:
– Замфира, слышишь, жена? Собирай вещи, возьмем и бабушку с собой.
Смотрит на него жена: «Ну и дитя какое, ну и родила тебя мать, прости господи». И спрашивает его:
– А ты думаешь, дойдет она до дома? Разве может она ходить?
– Тогда я схожу за машиной.
– Ты что, ребенок? Машины ведь все в поле!
– Замфира… – И растерянно огляделся вокруг. – А тачки у вас какой-нибудь нет?
– Вот тебе и на!..
– Тогда знаешь что? Давай возьмем ее под руки.
Смеется Замфира: «Ну и голова». И говорит:
– Ох, горюшко ты мое… Ладно, схожу за кем-нибудь…
…Оставшись один, сам по себе, Белый почувствовал, что свободен.
Вышел, сам не зная откуда, блуждал много и долго в ночи, пока среди дня не очутился в лесу. Был сыт, было жарко, и готов уж был свалиться в тени, как вдруг набросился на него кто-то.
И начал жужжать в ухо:
– Один мертвый между двумя живыми проходил живое между двумя мертвыми, и сказало живое между двумя мертвыми мертвому между двумя живыми: «Ты на меня не очень-то, а то если живое на живого навалится – останутся только мертвые!»
Белый навострил уши…
Ага, это пришел маленький, незаметный, смертельный его вражок и начал свои пожелания-проклятия и вечные свои песни-заклинания.
Стукнул бычок копытом и сказал оводу:
– Говори яснее, а то будешь мой след целовать!
– Племя твое всегда было терпеливым и глупым. Был ты маленький – играл сразу на четырех свирелях-сосках, а теперь вырос… бз-з-з, думаешь, для чего вырос? Покуда не сняли с тебя шкуру, не разгадаешь загадку!.. Да, большая будет тебе радость, когда сделают из твоей шкуры сапоги и будут плясать в них на свадьбе; и сделают из нее барабаны и будут принимать парад; а мясо твое пойдет на угощение после вина…
И раз все это так, почему ж тебе не веселиться, пока жив, а? И скажи спасибо, что родился быком! А то я тут подъезжал к одной корове – и спереди, и сзади, и с хвоста, и с головы – и давай ей жужжать и так и эдак… А она говорит мне: «Ах ты тварь-невидимка! Зря ты это самое… Вот если б тебя доили и в ярмо запрягали, посмотрела бы я тогда, как бы ты взбесился!»
– Не оскорбляй мою маму! – ударил всеми четырьмя копытами Белый.
– Зазнался ты, бык!.. Ну, раньше еще понятно, был ты и в песне и на гербе, а теперь – бз-з-з! Вспомни романс: «Идет-скрипит арба по дороге…» Возьми выйди на люди – что услышишь? «Эй ты, осел!» Так это о тебе говорят, знай! Ибо осталась от тебя одна метафора…
Очень разгорячился бык, согнул шею, скосил глаза, сказал с презрением и гневом оводу:
– Да ты погляди сюда, эх ты, ничтожество! Несчастная ты жужжалка-моталка! Разве не видишь, какой я белый-пребелый от хвоста до рогов? Какой я племенной-семенной?
– Жжж-зз! Одна лишь глупость под твоими рогами! Племенной-семенной… Скажи-ка, видел ты хоть когда-нибудь – т-т-з-з – телку? Ха! Какое там… Ухитрились эти сумки да шапки, всю твою радость собирают в стекляшки, – размножайся в банке, белое привидение! Мой двоюродный брат, овод испанский, прислал мне грустное письмо из Андалузии: мол, слышал ли я о великой утрате красных быков? Как они оплакивали кровавыми слезами Великого Хэма! Благородная душа, как он их любил, как их понимал, как их воспевал! Утешаются теперь, что остался еще великий Пикассо, но перед этим стоят они, как перед Новыми Воротами: то – в голубом периоде – величественные, могучие, то – в кубическом – страшные, безобразные…
– Что мне сказать… – сдался Белый. – Чего не знаю – того не знаю…
– Откуда тебе знать о фиесте, бедный глупый ты раб! Ты – белая ворона, а не белый бычок! Повезло ли тебе хоть раз, поймал тебя кто-нибудь на полотно?..
Бельмо ты белое, слепое! Тебе даже лечь нельзя, осужден всю жизнь стоять, чтоб не испачкаться. Да ведь не сможешь, ведь не выстоишь, ведь ты не памятник, так-то! Потому, пока еще в силе, отправляйся-ка ты в музей, где стоят твои прапрараспрадеды. Погляди на них, стоят каменными кретинами – уж я им жужжал, жужжал, аж голова трещит, да что сделаешь, если они глупы и тупы…