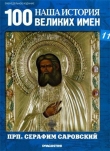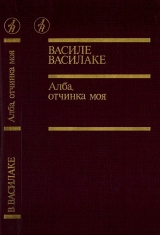
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– Чтоб дал бог и его пречистая матерь, чтоб сгорело это село, как горит пламя, а то дожило до веселеньких деньков, что им помыкает пастух, которого ты кормишь и обходишься с ним по совести, как с человеком, а он в тебя тычет… это… часы… Уж я бы эти часы, душу, раздушу их на душу того, кто их расквочил, чтоб он не сгнил во веки веков, аминь!..
Услышав все это, Ангел достал сигарету, а потом зажигалку-пистолет – опять же было чему удивляться селу: и откуда только он ее выкопал? – и сделал «щелк», и, пока горел огонь, зажигалка играла: «Пусть всегда будет солнце…»
– Ничего, доведу я вас до точки, индивидуалистов, тогда посмотрите! – И Ангел будто загнал в себя тонну дыма и теперь выпускал его из ноздрей, как из паровоза.
– Где же стадо? – серьезно спросил Серафим.
– А при чем тут оно? Дело в принципе.
– Дай и мне сигарету… – вздохнул Серафим. – Вот как можно до драки дойти, – заключил он, уверенный, что так оно и есть.
Пастух протянул ему пачку и даже дал пистолет-зажигалку – у него была привычка давать всем свои штучки и смотреть, как те, ошарашенные, не знают, что с ними делать, и сказал:
– Вспомнят они, что был у них пастух! А то и встать им лень, заботы не знают, господа, даже о себе не заботятся. Посмотришь, я им еще устрою кое-что по радио!..
– Откуда она у тебя? – спросил удивленно Серафим, думая о зажигалке.
– Что «откуда»? – И, поняв, засмеялся. – Ночью винтовка отелилась. А он у тебя откуда? – и показал на Белого.
– От коровы! – сказал мягко Серафим. – Ага. Корова его родила.
Так они стояли друг перед другом, и будто не о чем было им разговаривать.
– Правда это, бре, что село говорит? – спросил с интересом Ангел.
– А что село говорит? Я ничего не слышал, – удивился Серафим, а лицо у него было, как лицо ребенка, когда он смотрит маме своей в глаза и думает: «А что я сделал? Ничего я не сделал… То есть я сделал то, что, видел я, и другие делают, и никто им ничего не говорит». – Говорит?! – и Серафим взглянул прямо в лицо Ангелу. – Что говорит?
А тот вроде совсем устал за сегодняшний день: мало того, что эта старуха заморочила ему голову, так еще теперь Серафим строит из себя дурака.
– Скажи-ка, сколько тебе лет, а? – поинтересовался пастух.
– А что, зачем спрашиваешь?
– М-да, – вздохнул пастух. – Верзила такой, ну, как тебе сказать… человек! Женатый мужчина, как говорится, и не можешь отличить быка от коровы!
И вроде не сказал, вроде только подумал, да Серафим понял, что он хотел сказать.
– Подержи, будь добр, – поспешно передал Ангел ему мотовело, – зайду в кузню на минутку.
Остался тогда Серафим один с быком, с зажигалкой, с мотовело и стал думать: «Какое дело этому селу, купил я себе бычка или, наоборот, телку? Какой у него интерес и какое его желание, в конце концов? А может, у меня как раз интереса никакого нет? Может, и нужды нет у меня? Какое ему до этого дело и почему он так обо мне заботится, а?»
Стоял он так в раздумье, стрелял из пистолета: «Пусть всегда будет солнце». И опять стрелял: «Пусть всегда будет мама».
И снова: «Пусть всегда буду я».
И жиденький этот звук смешивался с ударами молота, с шумом источника, с жаром полуденного солнца, от которого, если долго стоять на месте, уж и кости плавились.
«Знаю я, что скажет мне Ангел. Скажет: поздно. А ведь мог бы сказать, что рано или что в самую пору. Что ж, посмотрим… Ведь в конце концов разве часы его, время его – не что иное, как его выдумка? И разве много надо ума, чтоб сказать: „Закон! Явишься в такой-то день, в такой-то час! Пробьет три часа – готово, пришло время! Начнем войну и всех сметем с лица земли!“ Как будто и радости приходят в такой-то час по такому-то закону…»
Так он думал и хотел уж было крикнуть: «Эй, Ангел, давай быстрей, а то некогда мне!»
Но тут услышал тарахтенье – ехала машина, а в ней председатель колхоза, агроном и несколько бригадиров.
– Ну, Серафим, жена тебе ничего не сказала? – крикнул бригадир Настас из машины.
– Добрый день, – растерялся Серафим и вздохнул: «Ох, Ангел, как держишь ты меня!» Хотел объяснить бригадиру, что и как, но машина не остановилась, – видно, некогда было.
Тут и Ангел вышел из кузницы.
– Привет! – и поднял руку, и машина остановилась. – Михаил Иванович, – обратился он к председателю, который был не старше его, а может, и моложе. – У меня завтра маленькая беседа с этими… моими хозяевами. Вы не сможете присутствовать?
Те, в машине, прыснули: «Не иначе как этот Ангел опять готовит какую-нибудь шутку» – и смеялись с аппетитом, потому что в этом селе все были большие весельчаки и шутники, а уж Ангела никто не мог переплюнуть.
– И что думаешь с ними делать, бре?
– Увидите! – сказал пастух.
И пока он шел к Серафиму, еще издали охватила его какая-то жалость и, когда подошел, спросил:
– Братик-зайчик, а на что он тебе сдался, бычок этот?
И пошутил примирительно, доброжелательно:
– Будь я на твоем месте, позолотил бы рот, как удод – гнездо.
– М-да… – ответил тот как обычно. – Посмотреть в корень, так это тоже дело. Каждый выбирает себе по вкусу…
– Постой, ты что, хочешь сказать, чтоб я катился к… – насупился тот, оскорбленный.
– М-да… – сказал Серафим и снова стал стрелять пистолетом-зажигалкой, которая играла: «Пусть всегда будет солнце!.. Пусть всегда буду я!»
– То есть как «м-да»? Как мне это понять?
– М-да… – сказал Серафим. – То-то и оно. Так вот говорим, – забубнил он, – друг друга слушаем, – продолжал он, – а там, глядишь, и понимаем, но, думаешь, понимаем все-все?! Ты только что меня накормил дерьмом, а я тебе ответил: «М-да» – дескать, каждый делает то, что ему по душе, ты же понял, что я тебя послал подальше, а я этого вовсе не имел в виду… Ибо раз мы шутим, то, понятное дело, драться не станем, не так ли?
– Эх, Серафим, ай ты, брат мой, ай ты, враг мой, как бы я камнем тебя поцеловал, – засмеялся тот.
Вот так примерно стояли они и разговаривали, ибо председательская машина давно уехала, а солнце было уже в зените, и Ангел возился со своим мотовело, как будто и не было никакого другого занятия у него, вернее ни у него, ни у Серафима.
До тех пор, пока Серафим не намекнул:
– Смотри, бре, как мы оба время теряем. Сколько на твоих часах?
Ангел же сказал:
– Правда твоя, да только, думаешь, я возьму твоего бычка в стадо? Должно быть, за полдень перевалило.
Тогда поежился Серафим:
– Бедняга, – и вздохнул.
Ангел поглядел ему прямо в лицо: «Кого же он теперь жалеет?»
Однако Серафим сказал:
– Сколько дней он по-человечески не пасется…
– Никак не могу, бре! – стал вдруг пастух серьезным и озабоченным. – Видишь ли, у тебя и справки нет, что он здоров. У ветеринара не был, так ведь? Что же, хочешь, чтоб он меня оштрафовал? Знаешь, какой сибирский ящур сейчас в наших краях?
– Ох, Ангел, Ангел, – горестно вздохнул хозяин, – были у нас у обоих матери, и умерли они, и мы только вдвоем с тобой остались…
– Правда, бре, бедные наши матери, – и Ангел улыбнулся, заводя свое мотовело: мол, прощай.
Снял Серафим шапку, чтоб остыть немного, сказал себе: «Люди иногда всю жизнь теряют, так что со мной случится, если я один день потеряю?»
«Хм, смешно будет селу… Что ж, пусть смеется оно! В конце концов, какой тут грех, что смеется… Дай только бог, чтоб не слишком смеялось, а то еще окривеет! Поглядят тогда на родителей дети, испугаются, заплачут: „Ой, отец, что с твоим ртом, как тебя кормить буду!“»
«А то мне не трудно: возьму да отведу бычка на базар, что тогда они, бедные, со своими ртами будут делать?..» – заключил Серафим и с этой мыслью отправился к ветеринару.
Ветеринарный пункт находился в старом помещичьем доме. Дом был большой, белокаменный, в глубине сада, где днем и ночью пели птицы. Огромное удовольствие было идти к дому по тутовой аллее, среди кустов, усыпанных черными и белыми ягодами, – такие ветки обычно на поминки дарят…
«Эх, Белый, стоит поболеть немного, чтоб пожить в этом раю! А уже какая, братец, здесь жизнь для здорового!»
Во дворе перед домом старик конюх запрягал лошадь в двуконную повозку.
– А где другая лошадь, дед?
Старик будто не расслышал и ничего не ответил, но тут из дома вышла женщина с охапкой мокрого белья и, увидев Серафима с бычком, всплеснула руками, вернее, будто бы всплеснула, потому что в руках у нее белье было.
– Ай-яй-яй, неужели болен он у вас? Бедные животные, они-то чем провинились перед богом? И докторши нет… Вот так и со второй лошадью случилось: упала вдруг, и готово.
– А мой здоров, – сказал Серафим.
– Садись, бре, подвезу, – предложил старик. – Вижу, ничем он не болен.
– Так ему бумажка нужна, что здоров, – сказал Серафим, взбираясь на двуконную повозку, у которой спереди была одна лошадь впряжена, а сзади, без привязи, один бык.
Старик торопил лошадь, видно, и сам торопился, но бычок при непривычке не поспевал и упирался, тянул к себе хозяина.
– Лучше я сойду, – попросил Серафим.
Старик покосился, нахмурился: «Пожалел человека, ноги его, а он… чего он еще хочет?»
– Боюсь, сломаю ему рога, – объяснил Серафим. – Молодые они еще у него…
Ехали как раз мимо школы, дети выходили с уроков и вот, странное дело: кажется, кто больше детей бегать любит, а тут всем захотелось влезть на телегу.
– Марш отсюда, черти! – отбивался от них палкой старик.
– Они дети же, оставь их, дед, – сказал Серафим.
– Какие дети – черти они! – кричал старик. – Уж я их имел, уж я их знаю!
– Ты куда, бадя Серафим?
– А откуда ты привел лелю Замфиру?
– А мама сказала, что она плакала. Почему?
– А почему нас на свадьбу не позвал? – спросил самый маленький.
Старик поинтересовался:
– Что, твои друзья?
– Соседи…
Тогда старик сказал:
– Оставь-ка им бычка. – И чуть было не добавил: «к чертям». Казалось, у него голова разболелась от этого гама. – Пасите его… – И улыбнулся Серафиму: – А я скажу врачихе, что он здоров, она и даст тебе справку.
13
Сельсовет помещался в старой крестьянской избе с завалинкой, но в центре села. Здесь всегда было чисто и уютно, ибо приходило много всякого народа и по разным делам.
Когда вошел Серафим, никто его не заметил.
Секретарь был маленький, тщедушный человечек, который во всех делах всегда брал твою сторону, будучи очень сознательным служащим. На этот раз он никак не мог привязать к уху очки: у них обломалась дужка, и он накручивал на ухо нитку, да никак не мог накрутить, потому что морочил ему голову старик Захария, старый-старый скрипач, который бил себя кулаком в грудь – за правду-матушку, как ему казалось.
– А я чей? Чей же я, черт меня побери!
– Нет у меня такого права… – бубнил секретарь, мучаясь с очками, потому что вышел уже из терпения и у него дрожали пальцы.
– Я что, не государственный! Пусть оно меня заберет!
– А у меня такого права нет, – повторял тот.
Тогда Захария повернулся и вдруг увидел Серафима!
– Слышишь, что он говорит? В армии я был? Был. Налоги платил? Платил. На войне воевал? Воевал. В тюрьме не был? Не был… Голову никому не разбил…
Серафим пожал плечами, хотел сказать: «А что я знаю, я еще молод…», однако ничего не сказал, потому что секретарь спросил его:
– Вам что угодно?
– Ветеринара…
– Садитесь. – И крикнул, чтоб слышно было в другой комнате, в кабинете финагента: – Лина, тебя человек дожидается!..
А тут Захария просит тихо-тихо:
– Костаке, посоветуй, пожалуйста, что мне делать… Кто меня теперь обстирает, кто бесплатно обштопает? По-человечески подумай, Костаке.
– Раньше надо было думать! Женился бы, были б у тебя дочки и внучки, – вот и решен вопрос. А теперь иди в богадельню.
– Ах, вот как! – взорвался Захария. – Ну, это уж мое личное дело!
Из комнаты финагента доносился сочный смех молодой женщины. Наконец дверь открылась, и вышла Лина – ветеринар, красивая, как актриса, а за ней финагент. Он произвел на Серафима огромное впечатление: на нем были черные очки, белая панама и в руке трость.
«Как видно, этой врачихе нравится этот мужчина, он красивый, представительный, хорошо одетый да еще на службе. М-да… А если бы его показать моей Замфире? Что сказала бы она? Понравился бы он ей? Не думаю, мне же не нравится Лина», – решил Серафим, ибо он был человек искренний и прямой.
Тут вошла женщина с грудным ребенком на руках и попросила секретаря написать метрику. Однако тот еще не поправил свои очки, к тому же Захария все не отставал от него.
– Значит, так, Костаке? – кричал музыкант. – Эти руки веселили столько свадеб, столько крестин, столько сел вокруг и теперь фьюить – в богадельню?! Хорошо, ничего не скажешь…
– Что такое, старик, чего пылишь? – спросил его финагент.
– Простите, товарищ начальник, – захныкал тот. – Вам не нужна скрипка? Продаю я скрипку…
А там, у другого стола, Серафима торопила ветеринарша:
– Имя, фамилия?
– Серафим, Серафим…
– Серафим, а дальше как?
А у этого стола секретарь мучился с женщиной, то есть с матерью ребенка, пытаясь найти имя новорожденному.
– Сколько Ионов, Спиридонов, Алионов, Матвеев – полное село! – жаловалась она. – Что-нибудь бы особенное… У вас случайно нет поминальника советских имен?
– Серафим, Серафим, – повторял Серафим.
– Лина, что мне дашь, если куплю скрипку? – приставал к ветеринарше агент.
– Да, красиво. – И опять торопила Серафима: – Имя, значит, ваше Серафим, теперь фамилия…
– Слышишь, Лина, буду тебе играть: «Понятия не имеешь, это я тебя люблю…» Эй, скрипач, знаешь этот романс?
– Мне его не знать! – сложил скрипач руки, будто молясь. – Спросите товарища секретаря, как я играл в молодости!
– Серафим, Серафим…
– Как это «Серафим Серафим»? И имя, и фамилия?.. – недоумевала ветеринарша.
– Лина, а где нам барабан взять, а? – опять вмешался агент.
Был терпелив Серафим. Был он человек с добрым сердцем, потому что долго и хорошо мог слушать всех этих людей да еще плач ребенка вдобавок, которого женщина здесь, сейчас не могла перепеленать.
Одно было плохо: уставал Серафим от слов и мог выйти из себя. Казалось, тогда обязательно что-нибудь с ним случится: или заснет, или бросит шапку оземь…
И снова повторил:
– Да, Серафим… Серафим…
Но и на этот раз его не расслышали, потому что ни с того ни с сего взорвался секретарь:
– Товарищи, здесь учреждение или базар?! А ну-ка марш все отсюда на улицу! – И вздохнул, сел на свое место и на испорченной метрике наискось написал: «Испорчено».
На мгновение стало тихо, потому что даже сосунок онемел, хоть и был непонятлив, но потом в тишину просочился скрип двери и голос конюха, того, что привез Серафима:
– Лина Ивановна, пора поить лошадь.

На улицу вышли втроем: Серафим, Захария, финагент. Этот, видно, был чем-то недоволен, потому что закурил, и Захария тут же протянул руку:
– Можно? Только одну… – И, прикуривая, спросил – Теперь скажите правду: шутите или правда хотите ее купить?
Открылось окно, и Лина высунула голову.
– Товарищ Серафим, – спросила она. – А имя какое?
– Серафим.
– Имя скотины! У вас кто: бык, телка?
И подумал вдруг Серафим: «Несчастные же мы, ей-богу… Дети и те знают, что такое бык. Бедный белый бычок… Имя! Бедная женщина! И надо было ей учиться на ветеринара с такой красотой!»
А Захария глядел на нее с восхищением и думал: «Эх, и хороша ветеринарша у нас!»
А финагент при виде ее повеселел и сказал значительно:
– Пиши: Апис, сын Озириса!
Услыхав такое, Серафим заключил про себя: «Пойду я домой и зарежу его. Зарежу я его и не съем, отдам его собакам, чтобы они меня помнили. Потом чтоб лаяли: мол, был один такой, Серафим, ненормальный один. Пошел на базар и привел бычка, белого, красивого, потому что был он ему люб, и зарезал его, но не съел, а собакам отдал, да простит его бог!»
– Кстати, справка вам для продажи. А он застрахован? – повернулся агент.
– Его бог хранит…
– Братец ты мой! Так нельзя, гражданин! – засмеялся финагент. – Бог хранит человека, потому что тот ему молится. А теперь даже вы не молитесь, так ведь?
– М-да… – привычно сказал Серафим.
– Видите! Вот потому-то, потому, что не молитесь, и надо застраховать. Мало ли несчастий на свете? Идемте со мной, – пригласил его финагент, – я вам сейчас объясню.
– А что, если мне себя застраховать? – спросил Захария.
И они снова все вошли в сельсовет, а в дверях встретили ту женщину с грудным ребенком, и финагент пошутил:
– Вы бы не хотели его застраховать?
– Будьте здоровы, – улыбнулась женщина. – До свидания.
Серафим обрадовался: наконец-то справка будет, и секретарь, наверное, остыл, потому что женщина ушла, понесла перепеленать плачущего ребенка, а то чего бы ему орать, чего ему не хватало?
Было тихо в сельсовете, понемногу успокоился и Серафим, мысли его прояснились: и правда, почему бы не застраховать скотину? Мало ли что может случиться на белом свете?..
Взял у Лины справку, а тут секретарь попросил его вежливо:
– Товарищ Серафим, минуточку… Вы переехали в село, у вас есть дом, новое место, обжились, женились… Замечательно, мне это очень приятно, я вас поздравляю!.. Будьте любезны, давайте все это возьмем на учет.
– Спасибо, – сказал обрадованный Серафим. – Значит, дом…
– Здание одно, – зашептал секретарь, ставя палочку в книге.
– Один бык, – добавила Лина с улыбкой, ибо ей начинал нравиться Серафим: был он каким-то… ну как сказать?.. короче, почему не все мужчины такие? – Оставим «Апис»… – поглядела она в глаза Серафиму.
– М-да…
– Еще что? – поднял секретарь свои очки на лоб.
– Две курицы и один красный петух, по имени Порумбака, Подоляна и Глонц.
– Клонц?[7]7
Глонц – пуля: Клонц – клюв.
[Закрыть] – переспросил секретарь.
– Пусть будет Клонц, – согласился Серафим.
– Еще что?
– Поросенок… ох, у него имени нет, я его еще не назвал.
– Ничего, – успокоил секретарь. – Мы его так запишем, пусть здоров будет.
– Спасибо, – ответил Серафим.
Пока они говорили, финагент оформил страховку на всю эту живность, оценивая примерно так, как, он знал, оценивают люди в селе, и теперь осталось только поставить цену Серафиму и Замфире, чтоб и они себя застраховали и расписались на договоре.
– Это мне все ясно, – сказал Серафим, поднимая от бумаг свои большие глаза. – У меня только одна просьба: вы не могли бы ко мне как-нибудь зайти? Я с женой посоветуюсь.
За это время он успел как следует подумать и стал объяснять присутствующим:
– Понимаете, ну, допустим, напишу я цену Замфире… М-да… она мне жена. А согласится ли она с этой ценой? И потом неизвестно, какую цену она мне проставит!
– Хорошо говорит человек, – согласился секретарь. – Давай ставь, Серафим, министерскую подпись, вот здесь, внизу!
Вышли вместе с Захарией и пошли вдвоем, чтобы не было скучно друг без друга.
Захария стал рассказывать, как был он в доме для престарелых и как сбежал оттуда, а Серафим слушал его и думал довольный: «Вот одной заботой и меньше… Эх, до чего же глуп наш крестьянин, что боится закона, и все потому, что его не знает. А столкнешься с ним и видишь, что совсем он не страшен, раз страхует жизнь тебе, и твоей скотине, и твоему добру. Ибо знает он, что к чему!»
И говорит старику:
– Вот если б вы молчали, было б и вам хорошо…
– Эх, парень, до чего ж ты молод еще, – отвечает старый музыкант.
Этот Захария всю свою жизнь не имел ничего, кроме скрипки. И не было у него никого, кроме этой скрипки, и она его утешала. И потому он не нуждался ни в ком; наоборот, другие в нем нуждались-все, все, все село… Но пришло время, и пальцы его перестали слушаться скрипки и его самого, – так старался он, и напрасно! – и тогда увидел музыкант, что нуждается он не в чем-то, а в ком-то, в какой-то душе живой, с кем можно словом перемолвиться, и попросился он в богадельню, потому что был стар и не мог играть и почувствовал себя одиноким…
– Милый человек, поверь мне, ничего я не хотел, только покоя и тишины!.. Всю жизнь голова у меня гудела от шума, песен, музыки – разве хоть одно гулянье в селе обошлось без меня? Там, в богадельне, нашел я и покой и тишину, да, знаешь, я там чуть не умер от скуки… Пойми ты меня по-человечески, бре!
– Я же вас слушаю…
– Я болен старостью, пойми ты меня! Но я хочу видеть вокруг веселых людей. Я непьющий, но всю свою жизнь был среди гуляющих и пьющих! Теперь скажи, на что мне тамошние старики и богадельня, если я сам стар и нет у меня до них никакого желания… Ну как тебе сказать: зачем мне еще одна старость?..
– Грех так говорить, – вздохнул Серафим. – Грешно, дед… У моей жены есть бабушка, вернее, прабабушка, вот она уж действительно старая!.. А вы еще молоды, ей-богу, дед Захария… Все время говорите: «Я хотел, я хочу, мне нравится…» А эта прабабушка не хочет ничего-ничего!
– Избавь меня, боже, от таких дней! – перекрестился старик. – Боже, прибери меня своевременно…
Так они шли и встречали других прохожих, и Захария их останавливал:
– Бре, услышите, что нужна кому-нибудь скрипка, ко мне присылайте… Вам не нужна? – И заключал: – Дайте сигарету, побаловаться немного…
И так все время, до самого его дома, и тогда он сказал и Серафиму:
– Мэй, Серафим! А почему бы тебе ее у меня не купить? А? Ты когда-нибудь Штрауса слышал?
– Нет, – ответил тот удивленно.
– Эх, вот был немец! Всю жизнь одни вальсы играл!.. Пойдем, посмотришь, что у меня за скрипка… Пошли! Пошли ко мне!
Стоит Серафим на дороге и думает: «Хм, только вальсы да вальсы… Вот это немец!»
И с этой мыслью идет к Захарии.
14
Долго бы и хорошо сидел он у Захарии дома, да и как иначе – разве не проймет тебя, когда так говорит-поет словами старый скрипач, который обошел полсвета и видел то, о чем в книгах не пишется, и слышал то, о чем сказать нельзя!.. А если возьмет в руки скрипку, попробуй оторвись от жалости, от тоски его!
Так чуть вечер их не захватил, и тут Захария видит, что уже сигареты кончились.
– Э-э, а я и не заметил, как день прошел! – спрыгнул Серафим с лавки… – Знаете, я ведь бычка на детей оставил!
– Вот так оно с хозяйством… Поросенок, щенок, черт, чертов отец. А ты думаешь, почему я стал музыкантом?.. Ну, как скрипка, возьмешь ее?
– Еще поговорим, – ответил Серафим и вышел, потому что спешил.
Поросенок с самого утра непоеный, некормленый. Белый с детьми, а что эти дети знают? Жена в поле, а он… И вздыхает Серафим: «Жил на этом свете немец и всю свою жизнь одни только вальсы играл… Эх, бедный немец!»
Приходит он домой, берет быстро ведро с завалинки, дать воды поросенку, глянь – а тот уже мертв. Садится он на землю и думает: «Вот так! Одной рукой тебе бог дает, другой – смерть отбирает… Что теперь скажет товарищ агент?»
Смотрит, а рядом, тут как тут, она, жена.
– Что с тобой, муженек?
– А что может быть, если хорошего ничего? Не устанешь в поле, устанешь в селе, все равно отдыха никакого.
– Ничего, пусть на завтра останется…
– А еще вот что: поросенок подох…
– Ну, не умер бы сегодня, умер бы завтра. Хорошо, что бог бычка нам оставил.
– И он подохнет…
– Типун тебе на язык! Где он?
– Да с ребятишками в лесу.
– Разве так можно?.. Почему бы тебе о нем не позаботиться, почему бы тебе его не накормить, а я пока что поесть приготовлю. Слушай, может, зарезать нам этого петуха, а то мне что-то хочется борща кислого…
– М-да… – привычно отвечает Серафим.
Вот так оно, то одно, то другое, а они, молодые, привыкают понемногу хозяйничать. Да, так: нет хорошего вначале, будет оно в конце, было бы только здоровье, остальное приложится.
Берет она, Замфира, и ловит петуха, а это ей раз плюнуть, ведь он к палке привязан. Берет она нож и говорит Серафиму:
– Давай быстрей, на, делай дело мужское, а то вода вскипела уже, – и пошла по своим делам.
Остался Серафим с ножом и петухом и говорит:
– Резать тебя, значит… А скажи-ка мне, почему? – И берет губами его гребешок и то целует, то кусает. – А кто меня разбудит завтра утром? Радио, да? Если ему я заткну рот – тебе-то как заткну? Кто мне гостей покличет, если больше никто не умеет? А на кого мне смотреть, как дерется с соседскими петухами, эй ты, петух! И кто сына моего, как меня самого, оповестит, чтоб женился? – И как держал его, так взял да и выпустил, да еще кричит: – Ой, жена, я его упустил!
– А ты давай лови снова!
– Этого еще не хватало! Не пойти ли мне лучше за винтовкой к Ангелу?
Смеется Замфира да и говорит:
– Поди-ка ты лучше за Белым. Свечереет – сама поймаю… Да возьми топор, может, дров принесешь.
Вот она, женщина: тебе же работу дает, тебе же отдыхать предлагает.
А лес прямо за домом. Ищет Серафим бычка то на одной поляне, то на другой и зааукал разок, а слышать ничего не слышит. Срубил он тогда себе деревцо и тянет-тянет к дому. А там глянь – весь двор полон детьми, а под орехом бычок его ждет.
– Добрый день.
– Добрый вечер.
– Доброй ночи…
– Доброе утро…
Видали: каждый сопляк хочет показать, что умеет здороваться.
– Напоили его, бре! Накормили его, мэй!
Смотрит Серафим на бычка: ай, как он горд! Ай, как он сыт! Ай, как напоен! Ай, как ухожен… А как его разукрасили – будто новогоднюю елку. На белом хвосте белый бантик, у копыт – ленточки, в ушах колокольчики – откуда, ребята, столько репейничков!
– А какой он добрый и ласковый, бадя Серафим, – говорит один, Джику.
– А Петрикэ учил его бодаться!..
– А Валера говорил: «Отпустить его навсегда в лес, точно станет зубром». Или это правда, бадя?
– А Серафим говорил ему афоризмы и твист перед ним танцевал!
– А Петруц плакал: «Такого и я видел у отца».
– А Влад его прозвал Символом!
– А Архип садился верхом, – говорит Ион.
– А Василе говорил: «Был бык, быком останется!»
А Серафим слушает это и чистит бычка своего и думает: «Ну и умные пошли теперь дети, господи боже… Прости меня, а то я другое хотел сказать».
А Замфира не может глаз ото всех оторвать: «Ох, ну и муженек у меня, пары ему не сыскать, гляди, как липнут к нему дети!»
– Пока сваришь мамалыгу, пойду его попасу, а то до завтра не дотянет, – смеется Серафим.
– Леля Замфира! – в один голос кричат ребята. – Дай нам тыкву поиграть-покатать!
Жена смотрит на мужа, а тот головой качает: «Ну и наделил же нас бог умом» – и говорит:
– Дай, пусть потешатся. Все равно у нас поросенка нет. – И тут же срывает тыкву, вынимает нож и давай вырезать, говоря себе: «Будь что будет, а кровь уж точно не потечет».
Разинули рты мальчишки, а там глянь – тыква уже превратилась в маску лели Замфиры.
– Ну-ка еще, еще покажи, бадя!
Берет еще одну тыкву Серафим и делает маску свиньи, потом другую – и делает маску петуха, потом еще – и вот маска бычка готова. Потом протягивает нож:
– А ну-ка сделайте маски своих отцов. Вставите ночью свечу, зажжете, и пусть они на себя смотрят.
А сам взял бычка и пошел со двора.
Приходит хозяин в лес и говорит себе: «Пока бык пасется, нарежу я лозу, срублю два ореха, вот и сделаю загон».
Думает он так, а издали-издалека рог лесника доносится:
«Ту-ту-у-у-у!»
Слушает Серафим и думает: «Резать или пусть так будет?» И говорит Апису:
– Хорошо живется тебе на этом свете, рогатый. О сифилисе не знаешь, о раке тоже… Какие у тебя заботы, скажи мне? Дай, боже, сена, а вода – она даже и в молоке есть, не так ли? А я вот должен тебе загон сделать и покрыть его! А корм, а пастух, а страховка, да и телка тебе бы не помешала, не так ли? А еще сверх этого должен ломать голову: зачем я тебя держу? Ох, прокляты эти крестьяне на этом свете, ей-богу!..
А бычок как бычок, пасется себе и ухом не ведет. Садится он, Серафим, тогда на землю и видит – по траве туда-сюда букашки-таракашки, словно в басне-сказке. «Все живое со своими грехами, – решает Серафим: – А кто без забот, тот и без жизни».
Вот они, муравьи, любимые его, бедные! То в одну сторону бегут, то в другую, то останавливаются, то на задние лапки встают и танцуют. «Ну, о чем же они теперь думают?» – думает Серафим, а там глянь – в траву гусеница с дерева упала.
Ай-яй-яй! Как набросился на нее муравей, как схватил ее!
И тот еще не оставил, как другой впивается, а потом и еще, и еще, а гусеница, как Змей Горыныч, извивается.
– А я тебе кричу, а я тебя зову! Ты что, заснул?
Вскочил испуганный Серафим, обернулся – нет, не лесник это, Замфира.
– Что делаешь? – выспрашивает жена и смеется. – Опять со своими муравьями! Что ты в них нашел? Знаешь, «Женщина Молдавии» пишет, что и у них, муравьев, есть один процент сознания. Ты как думаешь? – И садится. – Ох, грехи мои тяжкие, смотри, как почернели у меня ноги на солнце!
Ложится Серафим на землю, руки под голову и говорит:
– Бычку нашему загон нужен…
Опускаются на землю тихие сумерки ночные. Скоро выйдет луна, и тогда молочная тишина настанет. Кладет мужчина голову на колени жене и спрашивает;
– Что делала сегодня?
– Яблоки с тополей собирала, – шутит она, лузгая семечки. – И не нашел ты на этом базаре ничего получше, как договаривались?
Вздыхает Серафим:
– На потребу было много, а красивого ничего, – и Серафим сначала робко, а потом посильнее прижимается плечом к женщине.
– Оставь… Знаешь, люди смеются, говорят, бычка от телки не сумел отличить.
– А они когда хошь смеются…
Восходит луна. Луна большая, красная, перерезанная пополам, как красный помидор, вершиной холма. Лес черный, травы высокие, и на белой поляне – белый бычок…
– Погляди-ка на него, смотри. Посмотри ты на него теперь, Замфира, до чего красиво, – и Серафим обнимает ее за талию.
– Э, это еще что!
– А скажешь, некрасиво?
– Красиво, красиво, ладно уж…
Потом Серафим стал плести ей венок из трав, а Замфира куталась в шаль, и все чудились ей то шаги, то вздохи, то шорохи… Пасся и пыхтел бык в траве, раздвигались ветки, какая-то запоздавшая птица чиркала крыльями по вершинам деревьев, и тогда женщина опять говорила мужчине:
– Хватит, успокойся… Слышишь? Кто-то идет…
– Бык, – шептал он ей в ухо.
– Мэй, мэй, мэй… Слышишь? Собака лает. Я тебя прошу…
– На бычка лает. – И вдруг взял подсолнух и кинул в собаку. – Иди домой!
Взмолилась женщина:
– Домой, домой… Пошли домой!
– Ты чего боишься? – обиженно сказал Серафим. – Лес вокруг! – И его большие ясные глаза стали мутные-мутные: «Сказать ей что-нибудь… А тогда как? Ох, что было, то было, то прошло…»
Потом они пошли домой. Замфира вела бычка, а Серафим шел следом.
– Знаешь, я никогда не ходила по этой тропинке… – 1 сказала женщина. – Так ближе?
Но ей никто не ответил. Обернулась она и опять никого не увидела. Только в лунной белизне пенек покачивался.
– Что ты там делаешь, мэй?
И снова никто ей не отвечает. Только пень растет-растет и… вот это уже не пень, а Серафим.
– Сам не знаю… Плакать хочется, – бормочет Серафим. – И я разулся!
– Ну, лови меня!.. – кричит вдруг женщина и оставляет бычка.
И он ее поймал, да пришлось им вернуться за Аписом.
– Думаешь, я бы еще не бежал? До того мне щекочет пятки и ноздри… А ты меня отпустишь?
Так они подходят к воротам, и говорит Серафим:
– Дай посмотрю, узнаешь ты дом? Как откроешь ворота?
Мучается она, старается, кряхтит, а открыть не может. И вдруг:
– А если это не наш дом? Ну-ка, пусти бычка, посмотрим, куда он пойдет…