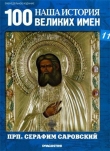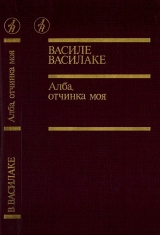
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
Идут они, значит, туда.
А дом все тот же, как говорится, ничего нового под луной, только от года к году все больше входит в землю.
И опять тьма – как ночью…
Добрый просит лампу, а Кирикэ ему отвечает:
– Как же я ее найду, бре? Или вы не знаете, какое у меня зрение? – И просит спичку.
И тут, в это же мгновение, как нарочно: трах-бах-тарарах – плеск – джж-тшш… и подкатываются к их ногам мисочки, кувшинчики, чашечки, блюдечки и все – осколочки…
– Что там, что случилось, бре? – спрашивает шустрый.
А ему в ответ сначала распинают на кресте какого-то бога, а потом удивляются:
– Кажется, я полку с посудой свалил.
А Кирикэ тут же, мягко:
– Да оставьте, ребята, это у нас все так, тофшественно, падает… – И просит еще одну спичку.
И правда: посуда вдребезги, полка на полу валяется. А драчливый тут как тут:
– Почему ж ты сразу не сказал, а? Вот сейчас как дам тебе разок тофшественно!
Шустрый интересуется:
– Неужели ты не можешь найти, Кирикэ, какой-нибудь гвоздь или колышек деревянный да забить как следует? Что теперь скажет мама Надежда?
– Мама ничего не скажет, потому что я хотел забить железяку, а она говорит: «Оставь, Кирикэ, так-то надежней». Говорит, еще ударю себя по пальцам… Ведь я, ребята, прямо в одну точку никак не могу глядеть.
– Вот теперь гляди на осколочки, – поддразнивает его добрый, забывая, что он добрый.
Находят они свечу, зажигают. И давай ходить по дому, смотреть, что наделали те двое, Ангел и Серафим, в доме мамы Надежды… Глядят-глядят, да и видят, что стены все выскоблены и глиной замазаны, словно пасха на носу. Заходят они в одну комнату, в другую… Вроде ничего особенного, один, однако, говорит:
– А ну-ка подите ближе, доглядите… Видите?
– Вроде видно, а вроде нет…
– Яйцо?
– Нет. Бык… – возражает шустрый.
– Да ведь оно разбитое, – возмущается драчливый.
– А все так в этом мире… – соглашается добрый.
Глядят они изо всех сил и видят: яйцо яйцом, а и правда, разбитое. Будто только что из него цыпленок вылупился. Ну а где же он тогда, птенчик? Глядят они повыше – ага, вот и клювик вырисовывается.
И какие только загадки не приходится разгадывать на белой стене, замазанной глиной!..
– Что здесь раньше было, Кирикэ? – спрашивает шустрый.
– Откуда мне знать? – И жалуется: – Ох, ребята, я так хочу жениться! И еще хочу побродить по свету, а не только по этому дому… А то мама моя как скоблила стену, так плевалась: «Попробуй, приведи мне еще хулиганов, кривая образина!»
– Бедный Кирикэ, – сочувствует ему добрый, а драчливый обрывает:
– Как будто не она родила его, кривого!
Шустрый же заключает:
– Вот это да, историйка! – и вдруг как закричит: – Смотрите сюда, во, во! Видите? Во, заглавными буквами: «НЕ ИЗ ОДНОГО ЯЙЦА…»
Стоят они все в раздумье: «Что же это означает?»
Первым пришел в себя драчливый.
– Мэй, а что было раньше на свете, курица или яйцо?
– Курица, – говорит добрый.
– Яйцо, – говорит шустрый.
– Петух, – отвечает Кирикэ.
Так остаются они каждый при своем мнении и давай снова разглядывать стены.
С тех пор, как мир себя помнит, у дома было четыре наружных стены. Хорошо, хорошо, ну а сколько их внутри? Спасибо, что у крестной Надежды дом был деревенский: комнатка, каса маре да сени… И все же сосчитай – не получается разве одиннадцать стен?
Поднимают они глаза и, пожалуйста, опять надпись: «ОТ БЫЧКА ДО ЯЙЦА И НАЗАД… ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТЕХНИКА! ГОТОВО! ТРИ МИНУТЫ».
– Эй, Кирикэ, – кричат все трое в один голос, – а почему твоя мама потолок не помазала?
А Кирикэ-хозяина нет… Слышат они, как он в сенях ногами стучит.
– Ой, не могу!.. Ой, братцы, идите сюда скорей! Во, во! – кричит.
Бросились в сени все трое – шустрый, драчливый и за ними добрый. И вот там, в сенях, во всю длину, по одной стороне и по другой, черным по белому:
«ИНТЕРЕС МИРА ПОЖЕЛАТЬ МИРУ ЦЕЛЫЙ МИР ЖЕЛАНИЙ…» (Дальше было выскоблено.) И затем: «НАДЕЖДУ ЦЕЛУЮ… МАМА МОЯ НАДЕЖДА, МАМА МОЯ СТАРУХА!»
Тогда поворачивается драчливый к Кирикэ, вот-вот ударит:
– Ты это сейчас написал, а?
А Кирикэ плачет…
– Да оставь ты его в покое, бре, отойди… Не видишь, он штаны намочил? – заступается за него добрый.
А шустрый не верит. Говорит:
– Чего ты плачешь, Кирикэ?
– Да-а-а… Мама опять теперь скажет… да-а-а… что скажет мама?
– Идем-ка лучше с нами и не отходи от нас, – хватает его драчливый, и они идут показать Кирикэ надписи на потолке.
Добрый утешает Кирикэ:
– Не плачь, бре, успокойся. Приходи ко мне, будешь у меня спать и есть. Только возьми другие брюки.
Повеселел Кирикэ, а тут и шустрый снова его спрашивает:
– Мэй, Кирикэ, почему вы и потолок не помазали?
А Кирикэ ни с того ни с сего подымается на цыпочки и – тьфу! тьфу! – плюет в потолок и смеется.
Все трое на него:
– Что с тобой, бре?
– А потому что мама так говорит: «Кирикуцэ, сынок, докуда рукой не достанешь – плюй!»
Добрый вздыхает:
– Выходит, это Серафим с Ангелом написали…
– Тогда почему: от быка до яйца? – спрашивает шустрый. – Поговорка ведь другая: «Кто сегодня украдет яйцо, завтра украдет быка…» Как же понять теперь? И вперед и назад, что ли?
Тут драчливый как взорвется:
– Если они поссорились, почему не подрались, а? Почему только стены вымазали, а?!
Тогда замечает добрый:
– И правда, так. Человек всегда поступает правильно, только в зависимости от интереса.
Шустрый говорит:
– А если здесь не интерес, а тоска-желание?
Драчливый не уступает:
– Сказано «интерес», и все! Еще раз услышу, в морду дам.
Говорит и добрый, вздыхая:
– Где интерес, там и желание. Давайте ж не будем спорить, братья.
Шустрый сердится:
– Какой черт понес нас сюда? – и тоже вздыхает.
Драчливый говорит:
– Фу, и воняет же, братцы… – и закуривает сигарету.
И добрый добавляет:
– Так оно и есть, бре, раз глину смешали с навозом, чего вы хотите? Идемте-ка лучше спать, братья… – И первый выходит на улицу.
………………………………………………………………
Таким образом, Серафим нашел себе жену в соседнем селе, сыграл свадьбу у невесты, потом привел ее к себе в дом и вскоре, в воскресенье, пошел на базар и вернулся с бычком…
10
Сытый, напоенный, уже почти в сумерках, очнулся Белый у Новых Ворот… Шел он медленно, лениво, и то там, то здесь утешала его трава и зеленая прохлада источника, в которую он окунулся и которая смыла сразу ощущения этого дня: пыль, зной, давка, храпенье, пыхтенье, скрипенье, тарахтенье, все, что зовется базаром, – «ну, удачи тебе!» – и шерсть наваливается на кожух, и шныряет ворье, и галдит воронье, и блеют ягнята: «Мэ-э-эй! Купите меня скорей!»
Говорят: уставился, как баран на новые ворота…
Неправда это! Во-первых, не баран, а бычок, а во-вторых, были это не Новые Ворота, а, миленькие мои, обыкновенные новые ворота, которые вряд ли простоят долго, потому что достаточно дождя, тумана и одной собаки, что под ними пройдет, – и останется от них лишь старая поговорка, что нет ничего нового под солнцем, а уж солнце это, братец ты мой, так палит, так чернит, будто для того, чтоб ничто на свете, как оно, не сверкало!..
Новый хозяин, в кушме, шел в ногу с Белым, шел лениво и утешал себя песней, такой вроде:
И он, Белый, снова весело зашевелил ушами – видите ли, с раннего утра столько у него было беспокойства, но если случилось, что чья-то нужда совпала с чьей-то нуждой и как раз так, что у него, у Белого, от этого одной нуждой меньше стало, – есть ли тогда нужда еще в какой-то другой нужде?
Воспоминания – метла по спине, подвешенные за уши бык и лошадь, глупые овцы, из которых сыпалось что-то на тротуар, – засыпали теперь в его бычачьем мозгу, убаюкиваемые стрекотанием кузнечиков, чтобы превратиться в сны и вздохи, а потом – в отрыжку от жвачки под полной луной, которая плавилась, как сало, на этих новых воротах.
– Хэй, хэй, Белый…
Как когда-то под вечный зов, идущий из глубины веков, на несчастного или счастливого прапрадеда его, маленького, беспомощного, накинули аркан, обманув веточкой, охапкой травы, только он протянул морду, – так теперь и его, Белого, под этот же зов завели в новые ворота, во двор, пустой, горьковато-соленый, где луна катилась кубарем среди белых тыкв, так что не поймешь, луна – тыква или тыква – луна, и он запыхтел и зашуршал, лизнув одну из них шершавым языком.
– И-ишь, ненасытный!.. Хоп, поди, поди, поди…
Так он оказался под орехом и вдруг почувствовал себя как дома: его окутало резким запахом смолы, и с шеи улетели несколько неуемных комаров и заспанных мух, и он опять запыхтел от удовольствия, ибо может ли быть что-нибудь милее для быка, чем лунная ночь и двор с тыквами, душистыми, словно дыни, дай нам бог здоровья!
Хозяин делал, что ему надо было, у ствола дерева. Белый это ясно почувствовал, потому что от его ноздрей ничто не ускользало, и запыхтел, и отвернулся, и справил и он свое дело, как дело, и тут вдруг загремели замки-задвижки, петли-ловушки, и появились длинные черные волосы, на коротком подоле рассыпанные, чернота на белизне, – в дыре двери, что зовется домом.
– Добрый вечер, Замфира.
– Добрый. Утром уходим вздыхая, вечером приходим распевая?
– Да вот попас немного эту скотину…
– А мне беспокойно. Спрашиваю одного, другого… Один говорит: я его видел, он пил. Другой говорит: я его видел, он шел покупать, то ли купил, то ли нет – издали видно было что-то белое, как в тумане… А я говорю: идти-то он идет, а прийти не приходит.
– А какие базары теперь!.. Люди со всего света!
Счастье ты свое держал,
Держал, держал, да потерял,
Мимо речки проходил, счастье
в воду уронил.
– Набрался, бедолага… А ну поди ложись… Привязал ее?
– Привязал, чтоб не отвязался. А ты меня поддержи, потому, что держусь я хорошо, да кто рядом со мной, не знаю. Дай-ка я тебя поцелую, Замфирушка, а то трудно расшевелить, да потом уж и не остановишься.
– Вот тебе и на! Это что, за спасибо или как?
И тогда Белый начал пережевывать удовольствия этого дня: молот-кувалда – стебель кукурузы – обглоданный кочан – прелая трава-мурава, и вдруг брызнуло в ноздри свежей ночной сывороткой, и, почесывая о жердь бедро, упираясь рогами в горизонт, увидел он черное, и не просто черное, а пестрое, в тени ореха – черно-пестрое, словно щенок. И он обнюхал и рогами тряхнул и набросился на эту псину, а та уже рванулась скуля…
– Слышишь! Слышишь! Скотину-то привязал, а суку-то не спустил… Проколет ее…
– Сиди так… Молчи так… Так – лучше всего!..
И тут Белый почувствовал себя на свободе… Почувствовал себя свободным, как в стаде-ограде, полной горьковато-соленых тыкв, и вот так, блуждая, наткнулся на черного поросенка и набычился на него, ибо бык-бычок, да и он не промах, и у него в рогах вражда.
Визжит бедный поросенок…
– Эй, ты, чего визжишь? Болит?
– А ты чего ревешь?
– Я не реву…
– И я…
– Но визжишь?
– Ну визжу…
– А что болит?
– А я знаю?.. Куда?
– Куда?
– В лес?
– Аха, в лес? А что?
– Лес??
– Лес!
– Голытьба-беднота-зелень-белизна-чернота, обсмоленная кожа!
– Лес?
– Волк!
– Зубр!
– Бык!
Белый потянулся к нему рогами, поддеть хотел, а бедный поросенок юркнул куда-то визжа, и что-то тяжелое, как гиря на веревке, пыхтело сзади, и он фыркнул с отвращением, потому что был самец и не раз обнюхивал коров, выдоенных и усталых, и они вздыхали: «Ну, этот беленький будет что надо…»
– Муженек, а муженек! Но отвязалась ли она, проклятая?
– Сейчас, сейчас…
Не слыхать ничего ни на небе, ни на земле, и завалинка длинная, и ночь не короче…
И стал он, Белый, в тоске почему-то ходить-бродить, чего-то искать и наткнулся на новые ворота в росе, на забор-гребешок и давай рога чесать, а там, глянь, два цыпленка, петушок да курочка, к палке привязанные:
– Чир-чир-чир…
– Вам чего?
– Чего?
– Ну да, чего?
– Ничего!
– Вечер же.
– Ну и что?
– Вы хозяйские?
– А иначе как?
– И давно свечерело?
– Не наше дело. Гребешок знает.
– Так он красный.
– Ну и прекрасно.
– Новостей куча.
– Тем лучше.
– А тебе что не сидится?
– Такая жизнь не приснится! На нитке…
– А ты чего хотел, милашка?
– Лес…
– Чир… и топор.
– Лес.
– А ты давай помягче.
– А что, здесь твердо?
– Помягче. Как же иначе?
– А когда нас в горшки?
– В бульон…
– А на что мне он?
– Чего тебе надо, петух?
– Гребешок. У-ух!
– А тебе, женушка?
– Напастей!
– Ну и страсти!
– Вот какая я, глупая…
– Чир-чир… кудахчет!
– А я молчу.
– Кудах-тах-тах!
– Вот оно как!..
И Белый, повеселев, направился туда, откуда слышался голос мужчины-женщины, и ударился ногами о завалинку, и нюхал долго-долго, и запыхтел по-бычачьи, оттого что рыбой запахло, и ему показалось, что это берлога чабанья, и вдруг увидел: вспрыгнуло что-то – длинные, расплетенные волосы над коротким подолом, белизна-чернота, страх:
– Ха-ха-ха. Смотри, кого я испугалась! А я-то думала, слышал кто… Глянь, ей-богу, словно в доме выросла.
– Посмотрела бы ты днем, что за красота!.. Давай ложись… Никогда не видел такого…
– Как в сказке!
– Давай еще…
– Нет, поди привяжи…
– Это ж скотина глупая.
– Ну если ты меня не любишь…
– Э-э-э, пустые слова, почему?
– Как же, так и останется?
– Привяжи ее. Потом опять…
– Как, с самого начала?..
– Ага, только так, только молча…
И Белому ударил в ноздри запах человечьего гнезда, и опять потащили его за веревку.
– Оборвалась, проклятая.
– Собаку спусти…
Ну а псина есть псина, почувствовав это, давай прыгать, давай юлить, ничего отвратительнее и быть не могло для бугаенка, такого, как он! Чуть кишки ему не вывернуло, когда запах псины цепью привязали к его рогам: или хотят особачить его тут, у ствола ореха, всем свиньям на радость?..
С горя он лег, по-старчески вздыхая, и пока хозяин – ну да, хозяин, как иначе его назовешь? – делал свои дела в стороне, он снова отрыгнул впечатления этого дня: молот-кувалда – кукурузный стебель – трава-мурава – лунная сыворотка, льющаяся в ноздри.
Так он уснул и очутился далеко-далеко: пастбище без сторожей, трава без конца, без края, словно облизанная, и зеленая-зеленая – никогда такой не видел! – и ни тебе дождя и ни тебе росы, а только солнце, да какое, братец ты мой! – без пятнышка, без сучка, без задоринки, не жизнь, а молоко-сметана, глядишь и не верится! А посредине – громадина бугай, что кузнец-февраль, ревет, рычит, копытами землю роет, аж ветер замер и ум оцепенел: «Отчего ж ревет этот громадный, красный, когда никакой коровы не видно?»
И стал Белый маленький-маленький, будто рыбешка, и тут увидел, как этот бугай-мавр идет, тарахтя, скрежеща, гремя цепями, гусеницами, идет по ухабам и буграм, по живой земле и, вырвав один бугор, оставляет деревянный кол на меже.
Спрячь меня, мама, быстрей, не то выпустят кишки мне!
Белый, бык-бычок, страшно испугался, что сейчас ему кишки выпустят. Тогда конец – как их обратно засунешь? Потому что в короткой его жизни, привязанной на ниточку, было такое воспоминание: бежит он, глупый, и за ним веревка тянется, и кажется ему, что это тянутся за ним кишки его, и он бежит – вся душа вон, лишь бы оборвалась, лишь бы оторвалась эта сумасшедшая веревка, да напрасно: рассекла веревка копыто и, как пила, прошла сквозь него…
Белый проснулся в грохоте трактора на дороге. Заря исходила потом-росой, и над новыми этими воротами долго-долго стучал движок местного радиоузла и протарахтел мотоцикл местного попа, который вместо утренней молитвы спугивал с колокольни воронье, да только оно уже привыкло и спокойно сидело себе в гнездах.
И вот из множества – десяти десятков – игрушек-коробков вылетел торопливый голос человека:
– Сегодня понедельник, товарищи. Говорит местный радиоузел. Итак, доброе утро, братья. Спите или уже встали? Ну, доброе утро. Одно сообщение, как говорится… Всех, кто едет в Поноарэ, ожидает машина на холме у распятья. Кто едет в Валя Сакэ, собирайтесь на околице возле Серафима Поноарэ, там тоже ожидают машины. Теперь одно известие для маленьких. Идите быстрее на молочный пункт и берите для маленьких молоко и сладкий кефир… Это требование детского врача нашей больницы. Слышите?
– Кхэ-кхэ… Простите, что слышно, как я кашляю, не знаю, как закрыть эту штуковину… этот микрофон. Вчера попал со стадом под дождь и, видите, простудился. Так вот, что я хотел вам сказать. Стадо у нас есть? Есть! Почему же тогда не вставать вам пораньше? Зачем вам держать скотину дома, когда она может быть в стаде, в поле с шести, с семи часов? Договорились? То-то же. Все это сказал я, Ангел Фарфурел, ваш пастух, который сегодня хоть и ваш слуга, но только добра вам желает. Значит, успеха вам, и посылайте письма, сообщения, материалы для нашего радиоузла. Вместо того чтоб разносить по соседям слухи, не лучше ли по местному радио говорить все прямо?..
Вот так и проснулся окончательно Белый.
Солнце уже взошло, и муха, ослабевшая от сна, начала жужжать как одурелая. А на завалинке в своем гнездышке нежились Остроконечная Шапка и Длинные Волосы. А под застрехой два воробья дрались из-за лысой воробьихи, и другая, еще постарше, чирикала с мухой в клюве, и им, Длинным Волосам, было удивительно, как же это так: чирикает, держа в клюве муху, и глотать не глотает и отпускать не отпускает, а все чирикает, собака…
– Ну ладно, вставать пора. Сколько ты заплатил, а то вчера ничего не сказал, уж больно разжегся…
– Ох, положи ты руку мне на голову, Замфира… Горит?
– Нет… А что?
– А ну приложи свою голову.
– Ну вот тебе… Ну чего?
– Приложи, приложи, хоть чуточку, хоть немножечко.
– Ну вот: на, на!
– Ничего не слышишь?
– А что слышать? Ты еще пьян, что ли? Что мне слышать, Серафим?
– Гудит, Замфира, слышишь: ву-ву-ву! Будто поезд по долине идет.
– Боже меня сохрани! А ну-ка вставай и веди ее в стадо! Что может быть, лихорадка только… Вставай!
11
И потом, как-то в понедельник утром, когда надо было будить мужа, стало ей его жалко, до того сладко он спал, вот точно так: «А ну ложись и ты рядом, женщина!»
«Сейчас я его разбужу, – подумала она. – Встань, слышишь? Уж светло».
Но, должно быть, так только подумала, потому что поглядела на него, долго, долго глядела, и, увидев его как женщина, встала сама, – знала, до чего хорош и красив молдованин во сне. «Уж, наверно, сон – он что-то да значит, раз все люди так за него держатся. Почему тогда и мне не отдать ему третью часть жизни?» – думает он, молдованин, да к тому же еще и перекрестится.
– Господи, отними у меня что хочешь, только сон мне оставь. И сделай так, святой отец: что осталось на завтра, отложи на вчера, чтоб и я отдохнул, как все люди, – молится человек перед тем, как лечь спать.
А если эти еще были и молоды и сильно любили друг друга, потому что сошлись по любви, то понятно, что Замфира сама встала и, раз уж была хозяйкой со своими заботами, пошла из дому.
Вот она в сенях, и вот во дворе бригадир. Наверно, тоже подумал: «Хватит им медового месяца! Пусть и о работе подумают, иначе что будут есть зимой?»
– Доброе утро, – сказал он. – Встали уже?
– Да вот только что, – сказала Замфира, вытирая лицо.
Теперь бригадир мог сказать, зачем пришел, однако спросил:
– Купили? – и показал на скотину.
– Ага.
И опять замолчали, потому что наши сельчане умеют и помолчать здорово.
– Во сколько обошлась? – спросил он, поднимая бычка. – Уж больно дороги они нынче…
– Я сейчас… сейчас разбужу Серафима…
– Ладно, пусть отдыхает… Ну и красотища, бре. И я бы взял такую. Сколько заплатил, говоришь?
– Так я его разбужу… – опять сказала Замфира, но тут Белому как раз понадобилось по легкой нужде, и он стал справлять ее на виду у всех.
– Замфира, да ведь это не телка, – расстроился бригадир, ибо все время о ней думал, а тут глянь, она – бык!
А что жене делать: сказать что или лучше промолчать?..
– Да я знаю, что он там натворил?! – удивилась она.
– Так я вот зачем пришел, – заключил бригадир, – сегодня пойдете на виноградники. И быстрее, машины ждут. – И он зашагал к воротам, а Замфира – прямо к Серафиму.
Муж еще спал, и стояла жена над ним – что ей ему сказать? Глянь, а он открывает глаза свои большие и ясные, как у ребенка, которого каждый день могут сглазить.
– Что, Замфира?
– Ты видел, что ты купил, мэй?
И были в этом вопросе и удивление, и горечь, и любовь, и огромное сострадание, потому что нет большего горя для жены, чем то, когда люди обманывают ее мужа или же он сам себя обманывает, не дай бог…
– Некрасив, не нравится тебе, да? – огорчился Серафим. – Знаешь… – И заговорил, будто исповедуясь, будто гордясь: – Знаешь, красивее этой красотищи на всем базаре не было… Веришь мне? Картинка! Вот так люди стояли вокруг него, – и Серафим поднял руки над головой и растопырил пальцы. – Ведь мы же с тобой договорились?!
Люди собирались к машинам. Машины гудели: «Давайте быстрее!», а люди, как всегда по утрам, и шли и не шли. Однако весть, принесенная бригадиром, так оживила их, что все их сонное оцепенение как рукой сняло.
– Братцы, как побежала кровь по жилам! Словно ртуть.
– Что ты говоришь, бре!
– Эй, да брось! Быть не может…
Ибо таково оно, село…
Село как пустая церковь – зашевелится святой или летучая мышь, отдастся во всех закоулках. Село живет долго и хорошо на одном месте, и работает, и гуляет, и даже может подраться с соседним селом из-за какого-нибудь пустяка, если более важного повода нет. Какая же весть больше ублажит его или рассмешит или ошарашит, чем эта: мол, один пошел за коровой и вернулся с быком…
Видите ли, крестьянина вы можете обмануть на каких-нибудь там новых деньгах, откуда ему их знать, если они новые, можете ему даже дать вместо них лотерейные билеты… Можете его и так обмануть: мол, знаешь, спустился святой на землю и из дома в дом ходит, говоря: «Услышит бог и ваш голос, ибо бог всесилен и всемогущ».
Но чтобы крестьянин не разобрался, где бык, а где корова, другой такой нелепицы, братец, не сыщешь!
– Что ты городишь?! Как он мог!..
– Да не сдвинуться мне с этого места!
– Брось ты, как же это так?
– А вот так: пошел он купить себе телку, а дома посмотрел хорошенько, глядь – а это бычок.
– Ну и ну!.. Что с ним, он что, ненормальный?
– Посмотрите-ка на него, что он меня спрашивает! Я ведь говорю, что слышал!..
– Ну и ну… И что он говорит?
– Да разве я его спрашивал? Я и сам думаю: как же так, черт? – удивляется этот и после сам же себе объясняет: – Вот так… Покупаешь и хорошо не глядишь, а когда разглядишь хорошо, видишь: вот оно что!
Значит, разговоров было много, гудели, зудели, жужжали, словно мухи: бз-з-з-з-з…
– Слышала, кума, о Серафиме Поноарэ?
– Нет… А что?
– Женился!
– Да что ты! Какой Серафим, говоришь?
– Да тот, в которого орудием стреляли.
– Каким орудием? А я слышала, винтовкой…
– Храни нас, боже… – истово крестится женщина. – Вот теперь я понимаю, почему у него, бедного, гудело в голове… Пока он ее не нашел, пока он ее не привел, вот почему!
– Что?! Он эту телку нашел?
– Какую телку? Я знаю про быка!
Покоя не было у этого села, и не потому, что кого-то обманули на базаре или в любви, – известное дело, с кем этого не случалось! Базар есть базар, и с тех пор, как существуют земля и люди, существуют и воровство и обман в торге, да и любовь тоже, если она слепа, то уж не глазаста.
Ведь не напрасно крестьянин свои деньги не только прячет в платок, но еще и завяжет на три узла и заткнет за пазуху, чтобы по дороге щекотало.
А когда речь зайдет о любви, он тоже не промах, ибо слишком хорошо знает, что красоту не едят ложкой, а икон с него хватит и тех, что были на венчанье.
А если Серафима обманули и на базаре и в любви, то это уж, как говорится, его дело. Лишь одно удивительно: почему эта красавица не нашла себе пару в своем селе? Кому не любо быть красивым с красивой? Или красота – она как полымя, в котором горишь и не сгораешь, так бедному крестьянину только этого не хватало!..
– Да бросьте вы, может, с этим бычком не так уж он и обжегся… Ведь если подумать хорошенько, с чего крестьянин начинает? Какой-нибудь несчастный цыпленок голенький, но с божьей помощью растет, поганец, а там, глядишь, уже и несется!.. А эти яйца, если вдуматься, опять же цыплята, а даст бог здоровья – вот они уже под стать и самой квочке… Продашь ее – пожалуйста тебе, пара сапог. Ну, продашь это все, не наберешь разве на поросенка? Растет поросенок – помойка всякая, мусор всякий, чего только нет в доме человека, – глядишь, поросенок этот уже и с поросятами… Теперь продай их всех, и больших, и маленьких, дай тебе бог здоровья, и покупай телку, и посмотрим тогда, как будешь купаться в деньгах!.. Телка, как пить дать, станет коровой, а что тебе еще надо – и в доме сытно, и деньги есть на расходы… Вон у бабки Анисьи корову вроде еле дышит, а посмотри, как мычит!..
– Постойте, люди добрые, это же бык-бычок! Кому теперь нужны они, быки? Времена-то нынче какие! Возьмем, к примеру, Ангела… И он сделал покупку, так у него она с молоком, братцы! Разве мы вначале не крестились: на что, мол, пастуху часы, а? А оно вон как обернулось! Техника на каждом тебе шагу, в каждом кармане винтик, споткнешься – глянь, а перед тобой уже какой-то в машинном масле – механик, кузнец, техник, комбайнер, тракторист, прицепщик… Почему ж тогда и пастуху часы не купить?.. Ведь человек на службе!..
– Как?!
– А вот так. К примеру, погода плохая, дождь, туман, собака носу не высунет, а он, пастух, на посту! Должен же он знать, когда ему поесть или еще что… Да потом, разве вы своими ушами не слышали! Сказал же человек: «Часы кушать не просят, налогов за них не платишь, а не дай бог испортятся, пожалуйста, тебе вместо них новые, они ведь с гарантией!»
– Да что же с бычком-то делать, если он не телка?..
– Точно, ей-богу. Может, он ни на что и не годен… Может, даже не красив?
– Да нет… Бычок гордый, белый, племенной, одним лишь не пригож: к коровам не вхож!
А тут и Ангел как закричит:
– Или вы думаете, меня мама, как Серафима, от святого духа родила? Не будет у меня подходящей зарплаты, посмотрим, кто вам скажет, что вашей корове бык нужен! Привет, так и останется без приплода! Еще мне будут за километраж платить, а то никто и не знает, сколько отшагает пастух за день…
– Он что, в начальстве теперь или как?
– А ты разве утром радио не слушаешь? Точно, минута в минуту…
– Я же сторожем у соломы…
– А жена тебе ничего не говорила?
– О чем?
– Ну, о Замфире…
– А кто это?
– Да жена Серафима…
– Ага… Ну и что?
– Как что? Ведь она Ангелова…
– Мэ-эй, бре, бре… Смотри, уж и солнце зашло…
– Ну и что?
– К соломе опоздал. А еще и не ужинал…
– А скирда-то большая?
– Да слов больше…
…А Белый пасся то на привязи, то на свободе, то в поле, то возле дома, и воду пил, и отгонял мух – когда хвостом, когда ушами, и ложился пожевать, и потом снова вставал…
12
Итак, в какое-то утро, то ли в среду, то ли во вторник, Серафим повел его в стадо. Солнце стояло высоко-высоко, было хорошо и красиво – великое удовольствие идти по дороге вместе со скотиной: то он, человек, идет впереди бычка, то он, бычок, идет впереди человека…
«Вот и я стал хозяином!..» И Серафим поднимал шапку, здороваясь с людьми, спешившими в поле, они опаздывали уже.
– Доброе утро, Серафим, – останавливались те, оглядывая скотину, хозяина. – Знаешь, он красив, бре!.. – восхищались они. – Дай ему бог здоровья!
– Здоровья и вашим, – говорил и Серафим мягко и прибавлял: – Дал бы только бог здоровья… А то знаете, как бывает: что вам дорого и мило, то и богу мило и дорого.
– А ты знаешь что сделай? Застрахуй его. Не дай бог, издохнет, так государство тебе за него уплатит. Только пусть тогда ветеринар даст документ, от чего сдох, а то ни за что не поверят…
– Спасибо за совет, может, сохранит его бог. – И заключил, понукая его: – Что делать? Кто с добром, тот и с радостью, тот и с бедами.
И хозяева уходили поспешно, ибо, разговорившись еще немного, запаздывали, но опять говорили, между собой теперь:
– А он с виду человек как человек, Серафим этот…
– А как же? Видишь, какая речь у него разумная.
– А как подумаешь, какие только слова о нем не говорили!
– Ну уж, людская молва – дело известное.
Стадо собиралось у Трех Колодцев – как раз в центре села. На самом деле там не было никакого колодца, но так уж говорили: Три Колодца, и все… Зато там был большущий источник, вода вырывалась с грохотом из земли, и урчала, и клокотала, словно мельничные жернова. Напротив чернела кузница, и в ней били молоты по наковальне весь день, с восхода солнца до захода, так что мало того, что вода шумела, еще и гремела эта музыка. Люди привыкли, а как тут не привыкнуть, если дети здесь прямо рождались с этим шумом в ушах и потом, подрастая, удивлялись, глядя, как кто-нибудь из чужого села морщится: «Гудит в нашем селе? Да нет никакого гула».
Наверно, потому и гудело все время в голове у Серафима. Ведь он был уже взрослым, когда перебрался в село. Видно, когда спал, гул этот западал ему в голову, и днем в поле Серафим все не мог понять, откуда он, и жаловался: «Почему это в моей голове все время „ву-ву-ву“, будто поезд идет по долине?»
И теперь били молоты по наковальням, и понятное дело, источник шумел, но еще слышен был и громкий разговор: пастух ругался с какой-то старухой, которая опоздала с козой в стадо. Он, пастух, тыкал старухе в лицо часы и кричал что-то, а что именно, попробуй разбери, если крик сразу же смешивался с шумом источника и грохотом молота по наковальне.
– Да ты посмотри, времени сколько!
– Мэй, Ангелаш, – говорила, будто ласкала его, старуха, – да что с ней делать, милый ты мой? – И старуха смотрела с жалостью то на козу, то на пастуха с часами.
– В другой раз не будешь опаздывать.
– А если у меня часов нету, откуда ж мне знать?
– А почему тебе их не купить, чтоб знала?
Старуха крестилась: может, бог уймет пастуха.
– А если я тебя прошу, Ангелаш…
– А вы меня не просите, – говорил пастух.
– А если я еще тебя попрошу?
– Напрасно, – отвечал рассеянно пастух, занятый своим мотовело, у которого спустили шины.
– Тогда что ты мне посоветуешь?
– Ничего…
Тут увидела старуха, что идет Серафим со своим бычком, и давай его в свидетели:
– Погляди, Серафим, на эту вражину… Вон какие законы выдумал, – жаловалась она шутя, а на самом деле уже к горлу подступило.
– Добрый день! – сказал Серафим.
И тут прорвало Ангела, и, вынув часы, он заорал:
– А не морочь ты мне голову, старая, сказал же тебе раз! – И к Серафиму с часами: – Погляди, бре, сколько времени, и скажи ей!
Тут и старуха не вытерпела:
– А ты матери своей покажи, цыганская твоя рожа! – И потянула козу за собой, и снова взорвалась – Будто мама его сразу с часами родила, тьфу!
Ангел же вроде и не растерялся.
– Что она сказала, бре? Ты слышал, Серафим? – удивился он и вдруг как заорет: – Капиталистка! Расистка! Думаете, так и будете эксплуатировать меня, как захочется? Я вам еще покажу!
Но старуха уже ничего этого не слышала, потому что пулей летела прочь, мотая юбками, так что пыль столбом стояла, и все сельские собаки всполошились, услышав ее проклятия, – сочиняла она их умом и сердцем всю свою жизнь, и были они в трудные минуты опорой ее перед этим миром.