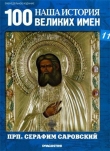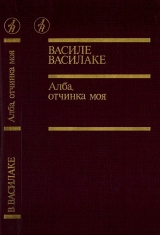
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
А здесь, у ворот кладбища, уговаривали Бану:
– Послушай, Василий… А тебя, скажи, другой конец ждет? Будь человеком, сделай доброе дело, укрой до утра на кладбище. А уж мы в долгу не останемся…
Вот с этого и надо было начинать… По длинной узкой дороге телега проехала к маленькой сторожке, в нее и перенесли солдата. Эта сторожка у нас вроде чулана, здесь мы оставляем обычно всякие черепки, когда заходим прибрать на могилках, – сломанную цапку, погнутую лопату или серпок, выщербленный топорик или еще что-нибудь… К делу они давно непригодны, разве ребятишкам сойдет для забавы. Да никто и не позарится на такое добро – вон даже с кладбищенской травой им не сладить, все заполонила. По ночам эта трава танцует под луной, как фея в своих владениях. Чем не ковыль? И она подтрунивает над жизнью, так же как ухмыляется по утрам Василий Бану, когда потягивает парное молоко из-под сытых мохнатых коз.
И вот завтра эта жирная черно-зеленая трава распахнет свои ладони для Аргира. Она оплетет его, обовьет и примется лизать своим холодным собачьим языком… И поведает в тиши, что так же рассеяна по земле, как неприкаянное цыганское племя… И как у тебя, цыган, нет у нее крыши над головой, ни бога нет, ни кладбищ, и некому отпевать на похоронах… Теперь не разлучат вас, солдат, твои осколки и пули, снаряды и даже гром небесный… А ты забудешь свой цыганский бубен, забудешь собаку – верного друга на путях-дорогах, – трава тебя и обнимет, и оближет по-собачьи, как требует наш стародавний обычай.
Опустилась ночь… Каково сейчас тем неузнанным, ненайденным, неизвестным, которых разметало невесть где по земле в этот третий день войны? Кто обнимает их – ветер, темень, дождь, луна? Или такая же трава?.. Кому оплакать их бесприютные души на Днестре, Буге, на Дону?..
Может быть, это для них когда-то безвестный пастух сложил «Миорицу»?
А на свадьбе моей упала звезда…
Солнце и луна держали над главой
Венец венчальный,
Ели и тополя были моими дружками,
И птицы – моими музыкантами…
Тем временем в кладбищенской сторожке загорелась лампадка. Правда, Василию Бану сейчас не до стихов, да и не слыхал он никогда этой баллады. Маленькими сверлящими глазками ощупывает солдата. Сторожка крошечная, тесная, строили ее, что называется, «с миру по нитке», на скупые крестьянские гроши. В стене пробито подслеповатое окошко в ладонь величиной, даже в полдень в комнатушку не проглядывает солнце, и в полутьме тихо потрескивает лампадка.
– Э-э, братцы, кажется, влипли мы! – восклицает вдруг Бану. – А ну как он из большевиков, да еще какой-нибудь политрук? Прибегут из примарии с обыском; «Что тут у тебя за покойник, а ну показывай!» Выходит, я по вашей милости укрывательством занимаюсь? Очень мне надо… За такие дела по головке не погладят…
Никому еще невдомек, что у сторожа на уме. Он увидел отличные, новехонькие сапоги на ногах Аргира.
Знаете, при таких разговорах ни к чему лишние уши. Отозвали Василия за сторожку, подальше вглубь, за деревья, чуть не силой отвели. Братья Сынджеры и мой дядя Георгий Лунгу взялись что-то доказывать – окружили, руками размахивают… Голоса-то слышны, а слов не разберешь. Зато Бану отвечает громко, как бы беря в свидетели и нас, и кресты кладбищенские.
– Вот именно потому что идет война! – не сдается он. – И я несу ответственность, потому что на службе! Не меньше каждого из генералов, ведь армии-то у нас разные? А если немецкий патруль забредет? Что я скажу – это мой племянник?!
– Господи… – перекрестилась тетя Наталица, – как быть-то, а? И куда деваться мертвым, как не в землю… Бедные наши головушки, что нас ждет?
Тут Сынджеров осенило: да ведь кладбище для Бану – это его лавка! Не будь кладбища, из чего гнал бы он свой самогон? И в один голос:
– Мы отвечаем! А ну, старик, найдется у тебя стакан самогону? Тащи-ка сюда! Наливай, чего тут канителиться… Сбегай по-быстрому, некогда нам рассиживаться!
Как чисты и красивы были мы на взгорье! Ты, ковыль, и бездонное небо над тобой, и горячее солнце, и в лучах его – бессловесные овцы рядом с «греховодницей» Анной-Марией… И с дурачком нашим Прикопом, с его гранатами и противогазами, и проклятиями тети Наталицы, с глупыми, наивными моими призывами, с горестным причитанием Мэфтулясы, о котором никто теперь и не вспомнит!..
Кто же плетет эту невидимую хитрую паутину из ханжества и слез, вздохов и исповедей?.. Путались мы в ней, путались и добрались, как видите, от мертвого тела к водке! Пришли на кладбище, смотрим – «лавка»… Постучались – как не завернешь по дороге? Где еще душу свою поуспокоишь, перестанешь воевать с миром и людьми?.. Конечно, здесь, провозгласив вечное «такова жизнь!..»
Почему именно у Бану открыта эта «лавка»? А очень просто. Думаете, деды и прадеды наши только на сено годятся для коз Василия Бану? Как бы не так… Нет, оттуда, из недр земных, они приглядывают за нами, как няньки, советы подают, остерегают от ошибок… а то и на выходку какую подтолкнут… А что вы удивляетесь – тут целая круговерть!
Над свежей могилой сажают обычно какое-нибудь фруктовое дерево, сливу или вишню, шелковицу, черешню – раздолье что птицам, что детям. А ребятишкам много ли надо – куснут мякоть раз-другой, косточку бросят… И не успеешь оглянуться – уже зеленеет молодое деревце, а еще года через два Василий собирает урожай. И что вы думаете, гонит из этого урожая по целой бочке сливянки и вишневки. Не по дням, а по часам питье набирает крепость, а все потому, что плоды наливались соком из самой кромешной глубины.
А дальше, своим чередом, через эту миротворную влагу и выкажет себя норов наших пращуров. Вот пришел ты, скажем, прибрать, присмотреть за дедовской могилой – ограду подправить, цветы полить, да мало ли чего. Ну и, покидая место, где дед почивает вечным сном, конечно, доволен собой – и обычай уважил, и предка навестил, отдал дань почтения. А то порой и над собственной участью призадумаешься… Обратно идешь, само собой, снова через двор Василия Бану. Тут невольно припомнится – а ведь у старика водилась отменная сливянка…
– Слышь, дед Василий, не нальешь чекушку? Заплачу, небось не даром! Стариков своих хочу помянуть, Земля им пухом…
Сядешь за стол благостный и растроганный, с мыслями о бренности земного… А цуйка Василия Бану забористая, аж дух захватывает, в ней терпкая сладость того дерева, чьи корни добрались до самого сердца твоего деда-прадеда. И не заметишь, как с первого же стакана пустишься не деда вспоминать, а того политикана, который в свое время ловко его надул. Ну а после второго захода – только тронь:
– Ух, черт бы побрал, одни жулики кругом, ничем их не вытравишь! В прошлую пятницу мельник обсчитал, пшеницу мерили на весах… Или вот межа… еще дед мне собственноручно застолбил. И кто, ты думаешь, ее ночью перепахал? Да Тудор, мой родной брат! Так ему, оборванцу, мало – взял и столб втихаря перенес, отхватил шмат земли!.. Чтоб ему так-переэтак, брат называется!
Тут без поддержки, будь уверен, не останешься:
– И не говори!.. эту жизнь! Пора уже топор в руки брать!..
Вот вам и наука… успокоил душу, называется! Опрокинешь стакан, а дед тут как тут, ухмыляется из тартарары: что, внучек, поладил с миром?.. Вот тебе мой букварь, учись читать, милый, – пока только по складам разбираешь…
5
Итак, подходил к концу третий день, и кладбище надевало свой ночной балахон. Вечерело, вот-вот опустятся сумерки.
На завалинке у дома Василия Бану сидели Георгий Лунгу, сам Василий, братья Сынджеры и потягивали хмельную настойку. Выходило что-то вроде поминок по усопшему, мужчины подозвали и тетю Наталицу – она стояла в сторонке, – пусть тоже поднимет стакан за упокой его души.
Где-то за перелеском, в соседнем селе Вулпешты, слышно было, как покрикивал патруль, ревел какой-то теленок, видно по корове, лаяли собаки. Только в тесной и темной каморке кладбища лежал солдат со звездой на пилотке. Тревогой веяло по округе.
То ли от тех далеких звуков, то ли от тревоги, разлитой в воздухе, но на сей раз стакан цуйки поунял буйный нрав Сынджеров. Кстати, осталось здесь от шестерых трое. Пришел черед Георгия Лунгу проникновенным родительским словом напутствовать душу солдата, и он сказал:
– Вот оно как, Аргир… Жил ты тихо, незаметно, никому глаза не мозолил. А стоило умереть – и стал ГЕРОЕМ.
– Чего это ты, Георгий? – покосился на него Бану. – Смерть – это случай, бре… орел или решка, вот что я скажу, и никого не касается, кроме тебя самого…
– Не-ет! – упрямо протянул Лунгу. – Как же так, земля не принимает нашего односельчанина! А если с кем из нас такое случится, да хоть с тобой, Василий, – тебе это понравится? Тут, братцы, ИСТОРИЯ впуталась, да! И я готов… Вот что я подумал, ребята… Надо послать королю Карлу телеграмму от нас, живых… Так, мол, и так, ваше величество, не уразумеем мы одной штуки: жил на земле человек, не без греха, конечно, как все мы, грешные… Но почему не заслужил он похорон?
Василий Бану заерзал на своей завалинке:
– Ну, Георгий, совсем спятил на старости лет? Да по тебе тюрьма давно плачет, сядешь за милую душу! Тоже мне, герой нашелся – соображать надо, война, между прочим, идет, и у меня солдат в сторожке. А через пять минут нагрянут немцы – схлопочем как пить дать! Та-ак… – Он вдруг дернул Лунгу за полу пиджака. – Что это за пиджак, Георгий, скажи мне? Смотри, одни прорехи, ветер гуляет… Это называется пиджак? Снимай быстренько!.. Слушай, поносил – дай другому! А ты, Петро Сынджер, штаны скидывай, ничего – лето, тепло, в кальсонах домой дойдешь, проветришься… Та-ак… Кто это ляпнул, что на кладбище непорядок? Ну, где этот военный, покажите мне его! Ты его видел, Георгий?.. Да, а на голову у меня шапка найдется… Раз-два, и в три счета – все мы теперь штатские, люди мирные! Поняли?
Пожалуй, не очень-то они поняли… Да много ли его надо, ума, чтоб ухватиться за соломинку? Нашелся выход, ну и слава богу. Поднялись, кряхтя, с завалинки, потоптались, побурчали и двинулись к сторожке. Великая штука эта бановская цуйка, смотрите – все распри как рукой сняло.
Да, но сам-то Василий, а? Голова!.. Его захватила собственная идея, не остановишь:
– А придет патруль, скажу: «Здравия желаем, господин патруль! Разрешите доложить – на моем участке все тихо и мирно, граждане, как им положено, спят мертвецким сном. Ах да, есть у нас пополнение, новичок – угодил тут один под шрапнель. Из наших, местный… бедняга, ни кола ни двора… ловил мотыльков в поле, попал под обстрел… Зашел поплакаться – обидно, мол, все мотыльки куда-то подевались, не повезло… Правда, не сам пришел… А что остается? Жил один-одинешенек, своих никого… куда податься, коли уже мертв? Да в компанию к тутошним! Вот и лежит-полеживает, приема дожидается к святому Петру-ключнику. А прием – это яма… а яму копать надо, а для этого нужны живые, и вот, господин патруль, вижу я, придется самому за лопату браться, потому что вы военные, и вам воевать надо!..» – И вдруг Бану запнулся, словно обмяк: – Эх, братцы вы мои, эта жизнь… чтоб ей пусто было… Чем черт не шутит, может, вовсе и не ваш Аргир!
Тетя Наталица даже споткнулась:
– Ой, что ты, дядя Василий! Не лишнего хлебнул?.. Кого ж мы хороним, как не Аргира?
– Э-э, Наталья, ты сперва поживи с мое, да посиди тут на кладбище лет пятьдесят с хвостиком, да похорони полсела… наглядишься…
Тем временем скрипнула дверь сторожки, мигнула лампадка, и Бану прищурился: так и есть, сапоги что надо – хромовые, пару раз надеванные, не больше…
– Н-да, – угрюмо буркнул он, – придется ему и обувь сменить, сам этим займусь.
Василий, как и Георгий Лунгу, прошел в пехоте первую мировую, а какой солдат не знает – русскому сапогу износу нет! А если к тому же твоя латаная-перелатаная обувка расползлась, правый вон каши просит… Разве это дело – живому пропадай, а мертвый в обновке?..
Услышав такое, тетя Наталица вздохнула и перекрестилась. Слава богу, потихоньку-полегоньку, неприметно, как бы невзначай, все становится на свои места. Теперь можно быть спокойным – Аргира похоронят, и притом по обряду, как христианина. А старик Бану доволен, и он внакладе не остался – и цуйка, и сапоги… Харон – что надо!
Что до жизни со смертью, то они тоже тихохонько разбрелись по своим углам. А люди, которые прибежали днем на поле, сейчас, должно быть, ворочаются в забытьи на подушках и видят сны…
Расходимся и мы по домам, чтобы улегся наконец этот суматошный день. Тетя Наталица взяла меня за руку:
– Давай зайдем к маме, скажу, будешь у меня спать.
Дом ее пустой, темный… Неужели тетя боится оставаться одна?
В комнате она зажгла лампу, потом лампадку под иконами и села. Прислонилась к стене, сгорбившись, а руки утонули в складках подола:
– Спи, мой маленький…
Только-только я закрыл глаза, как слышу: «Ионикэ, где же ты, сыночек… – И еще громче: – Когда ж это все кончится, господи! Дождусь ли?»
…И уже утро. Тетя так и не легла, все ходила по комнате, то прикручивала фитиль у лампы, то снова прибавляла света и что-то бормотала… Видно, ждала – не постучит ли ее Ионикэ раненый? Или, бог даст, цел и невредим придет… Война войной, а о чем думает мать? Только бы сын жив остался! А эта война… Ей только три дня, и никто не знает, чья возьмет… И все равно, – господи, пусть он вернется к маме своей, в дом, где родился… Однако вспомните, как повторяла в поле слова сына: «Хоть и мертвый, мама, от наших ни за что не отстану!..» Разве не гордилась своим Ионом?
– Кто там? – Она уже в сенях, слышно, как лязгнул засов.
– Лелика, ох… я это! Ой, не знаю, что делать, в примарию зовут, лелика!.. Узнали, видно, что плакала там… в поле…
Голос Анны-Марии дрожит. Это она прибежала, запыхавшись, ни свет ни заря. А голос ее ни с чьим не спутаешь – зовущий и настороженный, чуткий – как ушко лесной косули.
Тетя приводит ее в комнату. Молчит… Потушила подслеповатую лампу – накоптила за ночь.
– Донес на тебя кто-то, точно! – наконец выговаривает она. – Неужели это Бану отмочил?
– О, и что на меня нашло тогда, ума не приложу! Ох-ох-ох… – сетует Анна-Мария.
– Ладно, погоди ныть…
Иначе тетя не может: стоит кому попасть в передрягу, готова грудью защитить.
– Кто за тобой приходил?
– Да вчера несколько раз звали. Искали меня, а я там была… знаете, где я была…
И сейчас вижу я Анну-Марию такой, как была она в то утро: изможденное сухое тело, худое в рябинках лицо, щеку захлестнул черный платок… А тогда не укладывалось в голове: «И она тоже… тоже совсем другая стала!..»
– А примарем опять Горинчоя поставят, что в сороковом был, – лепечет Анна-Мария. – Соседка сказала: все до одного вернулись из-за Прута – и писарь, и старший жандарм… А этот Горинчой – он свояк вам, лелика… Может, сходили бы со мной, замолвили словечко…
– Вот что… – тетя сняла нагар с замигавшей лампадки. – Иди смело и ничего не бойся! А спросят, почему плакала, скажи: «Такая уж уродилась – дура!» И все, этого и держись. Сразу вместе придем – не поверят. А сама говори: «Не могу, дескать, вижу покойника – тут же слезы градом… А вчера, когда везли солдата мертвого, вспомнила мужа своего, Митруцэ… как призвали в армию на службу, так и канул, ни слуху ни духу… Где, бедный, скитается? Может, тоже где-то мертвый лежит! Что ж теперь, и поплакать нельзя?.. – у тети скривилось лицо, как от плача, будто она сама только что мужа потеряла. – Горе мне, ни детей нет, ни мужа… Два года пропадает, куда вы его дели?! О-ох, Митруцэ мой, Митруцэ!.. Верните мне его!..» – И опять, как ни в чем не бывало, наставляет: – Поняла? А в случае чего пусть меня зовут, я им выложу!.. Бестолочи вы, скажу, сцепились по-собачьи друг с другом… научились резать, а как рожать – так нам, бабам?..
И тетю Наталицу не узнать, как подменили. От страха смелости прибавилось? Или от боли душевной? Кто скажет, откуда берется женское притворство? Может, ковыль в утренней росе, тяжелой, как вдовьи слезы? Не он ли твердил: «Жизнь человеческая – былинка»? А как же истина, почему молчит? Или она тоже притворяется?..
– Ну, пойду я…
Но Анна-Мария еще постояла в нерешительности, тихо вздохнула:
– Ох, помоги мне матерь пресвятая богородица-а-а… Поможет ли пресвятая мать?.. «А где же ковыль? – думаю я уже дедом, с Иммануилом Кантом в седой башке. – На кого уповать? На ковыль, на Канта? А на кого еще надеяться, если в себе сил больше не осталось?.. На комья глины у дороги, высохшей после дождя? На эту серую землю? Или на солнце, пока светит?..»
– Иди, иди! – подгоняет Анну-Марию тетя Наталица. – Ступай и не бойся, авось бог еще есть на свете… – И переводит дух: – А то и мне пора, надо свечек прихватить, пойду на кладбище…
6
На кладбище тихо, только шоркают о землю лопаты: яма для могилы почти готова. Копали ее по очереди: два брата Сынджера, из всей оравы самые сговорчивые, Георгий Лунгу – ну, ему сам бог велел и мама на свет родила, чтоб помогал да выручал, – и Михалаки Капрару… Он, бедняга, так и не очухался после того, как увидел на акации кресло лавочницы Рухлы перед церковью. Старик до утра кружил вокруг сторожки, видно, ночных духов гонял, а на рассвете подхватился и без устали, как заведенный, принялся копать могилу.
Солнце уже поднялось, когда явился Василий Бану с несравненной цуйкой под мышкой. Не здороваясь ни с кем, как заведено на кладбище, заговорил:
– Кто его знает, может, оно и так, может, и этак… Ну, работнички, давайте за упокой его души!.. – Поставил бутылку на краю ямы и от щедрот своих воодушевился – А что сейчас было – умора! Хе-хе… Сидел вчера и думал: «Боже, боже, пути твои неисповедимы, какими чудесами нас пичкаешь!» Мария-то Магдалина евангельская, слыхали? – шлюхой уличной была… А ее в святые определили! Что ж получается? Идем мы в церковь грехи свои замаливать и первым делом ей, грешнице, ноги целуем…
У большого сиреневого куста зияет яма в рост человека… Святая была потаскухой?! Заступы и кирки прямо обмерли, слыша такие речи. Святая?..
– Помните Анну-Марию, сноху старика Гебана? Из Унцешт родом, за Митрикэ вышла…
Лица копавших серы от перелопаченной земли, измучены бессонной ночью, а тут чьи-то снохи… Бану уточняет:
– Георгий, – повернулся он к старшему, – это та, что причитала… Ты ж был вчера в поле? Митрикэ-то, говорят, в люди выбился, успел капралом заделаться… В сороковом только Гебан да Ион Платон не вернулись из-за Прута, у твоего приятеля служить остались, у короля Карла, – хмыкает Бану. – А дом их у самой долины, по соседству со Скрипкару…
– Давай покороче, дядя!
Младший Сынджер со всего маху вогнал лопату в землю, аж рукоятка задребезжала.
– Так она с наградой уже, эта Анна-Мария! – дернул плечом Бану, будто вот-вот пиджак сползет. – Иду я к звонарю узнать, вернулся ли батюшка Думитру, а он навстречу, прямо из примарии. Ну, дела! Фэлиштяну, бывшего председателя, засадили под замок – мол, кто его просил раздавать землю голытьбе. Ну и вот, заходит звонарь в сени, а из кабинета примаря женщину выносят, еле дышит… Что такое? В обморок, говорят, упала, прямо в кабинете… Больная, что ли? Нет, говорят, награду получила. Надо же – ее поздравляют, а она – хлоп! – и на пол. Звонарь говорит: награда, видать, тяжела, если ноги не несут. А примарь: «Нет, отвечает, просто дура, мозги куриные, не понимает, что такое медаль… Вызвал я ее и вежливо так говорю: „Примите наши соболезнования, так и так… На ваше имя поступила телеграмма от генерала-маршала его превосходительства господина Антонеску. Ваш супруг Гебан Думитру сын Иона при взятии городишка Скуляны удостоился славы тех, что пали за родину и воссоединение румынской нации!“» – И Бану ощерился: – Хе-е… Отхватила себе баба, а? Вместо мужика…
Михалаки Капрару как стоял в яме, так и закатил глаза к небу и размашисто перекрестился. А братья Сынджеры ошалело уставились друг на друга, словно подумали, что роют могилу для самих себя.
А Бану не унимается:
– Ну, теперь как пить дать пенсию получит, звонарь шепнул по секрету. Молодая, детей нет… Дура, чего бы я в обморок падал? Бабьи финти-минти… Да, слаб человек, давно говорю, то ли дело коза: хвост по ветру и доится… Ну, чего глаза вылупили, пейте, или зря принес?..
…Много-много лет прошло, и снова вижу ковыль на взгорье… Белые клоки треплются по ветру, как седые космы кладбищенского сторожа Василия Бану, и так же освистывают все, что подвернется. А я никак в толк не возьму – чего он хочет? Видно, так мы с ним и не сговоримся – вон солнце, на что уж могучее светило, и то не знает, как подступиться – заискивает, ластится, а ковыль знай себе подсмеивается и мурлычет:
Послушай, смерть-жизнь, ты куда идешь?
Если кости мои побелели,
Солнце меня гложет, рвет зубами.
Если коса забыла меня срезать,
Холода меня скосят.
Скажи, человек, – зачем ты меня рвешь?
Хочешь сплести себе венец?
На, держи, вот тебе венец,
Вот ты уже и безумец —
Мало тебе, еще чего-то захотел?
Вот я пеплом стал,
Вот я ветром стал!
Иди сюда, усни на моей груди…
Эй, жизнь-смерть, ну куда ты, куда?
Вот и весь ковыльный сказ… Что ж, пусть себе тешится, пусть распевает во всю глотку! У людей ведь все по-другому – полюбит, поплачет, приласкает… А когда не любишь да не плачешь – живешь ли?
А прожитые годы… Что вам сказать… Это же трава!
А Аргир, оказывается, жив-здоров, чего и нам желает, и шлет привет землякам. И не просто привет, а даже просьбу (через одного здешнего передал) – если можно, пусть пришлет ему кто-нибудь пару теплых носков.
В наших краях такие носки вяжут крючком из толстой, грубой шерсти, и выходит что-то вроде чуней. В холодную сырую погоду им цены нет, а если еще подошву из валенка подшить – совсем благодать, вроде босиком ходишь, а ноги как в печке. Старуха Замфира Букэтару, так та носит их не снимая круглый год, даже летом, в самые жаркие дни, и хвалится: дескать, самый зверский ревматизм – как рукой…
– Вот те и раз! – удивляются братья Сынджеры. – Мы тут плачем-убиваемся. Нас в жандармерию, с допросами пристают: «Чего это вам в голову взбрело? Сделали из цыгана мученика румынской нации!» А он, гляди, – ревматизм подхватил. Иначе зачем ему носки?
Был июнь или июль сорок пятого года, когда мы прослышали, что бадя Аргир жив… Да, был самый разгар лета, и крестьяне, особенно женщины, да и я, к тому времени уже подросток – в пятый класс перешел, – все диву давались. «Послушайте, кого же мы похоронили?»
То лето сорок пятого, словно голубь белый, слетело на землю, вернулся к людям покой. И мы подумали: видно, приспело время такое – хоть и разметало людей по миру, а они, как птахи перелетные, тянутся к родным гнездам. Вон и весточки посылают: дескать, не забыли про нас?
Наделало шуму другое письмо – из Моравии!.. (Да, чуть не забыл, Аргир передавал просьбу свою из Кенигсберга.) Этому из Моравии тоже вздумалось потормошить своих – вот он я! А ведь как ушел на первую мировую, так с тех пор о себе ни звука. Село не знало, что и думать!.. Ну и ну, отмалчиваешься тридцать лет подряд – и на тебе: «Привет из Моравии! Как вы там, родичи, живы еще? А я, знаете ли, заскучал…»
Послание пришло прямо на сельсовет, уважаемому товарищу председателю, лично:
«Я, Тудор Бузеску, – родня всех, кто носит фамилию Бузеску, сын Георгия, который был братом Онисима, Гаврилы и Цезаря… Когда Царь Никулай взял меня на фронт в девятьсот четырнадцатом (этот гражданин из Моравии писал „Царь“, как в былые времена, с большой буквы, а имя – по-домашнему, Никулай), отец мой был еще жив, и было у меня четыре сестры: Аника, Тудосия, Иляна и Варвара. В этот час мира, когда народы с радостью протягивают руку дружбы, ходатайствую перед вами, товарищ Совет, и прошу мне ответить: кто из рода Бузеску остался в живых и где они пребывают? Потому что имею я великое желание свидеться с ними, услышать, обнять… или хотя бы послать им слово привета. Узнал я, каково оно, житье на чужбине… не сладко, дорогие мои! Точит и точит тоска по местам, где увидел в первый раз травку зеленую…»
Пожалуйста вам, уже до «травки зеленой» дошло… А раньше-то где был? Опомнился… И дальше в том же духе, на шести листах. Читали это письмо, перечитывали, а четыре сестры Бузеску заливались слезами. Молодые возмущались: «Ну, бабули, развели сырость. И с чего весь сыр-бор? Напишите своему заблудшему барану – пусть приезжает, и привет!»
А сестры вытирали покрасневшие глаза и шикали на непутевых, вздыхали… Шутка ли сказать – ни много ни мало тридцать лет, почитай целая жизнь… Они уж и могилку ему определили, и крест поставили, как подобает христианину, и все годы исправно ходили на кладбище, приглядывали, убирали… И не было воскресенья, чтобы во время службы поп четырежды не возгласил имя Тудора Бузеску, потому что каждая сестра вносила его в свой поминальник. Иначе и быть не могло – брат, родная кровь, единственная опора была в семье… И что же? Столько лет вздыхали, взывали, а он словно в рот воды набрал, не откликнулся. И на небесах пустое место, и на земле, а сердца сестер разбиты…
Что же стряслось с человеком, а? Выбился в миллионеры и стал родни гнушаться? Или в беду попал, может, на каторге? Или… да мало ли что, ну, некогда, занят был человек… Послушайте, а если кто чужой выдает себя за Тудора?
– Да он это, он! – опять всхлипывали сестры Бузеску. – Вот, читай, вот здесь пишет про яблоню-цыганку, перед домом росла, а еще была в саду, в глубине, шелковица, так он мальчишкой привесил там качели из веревок и летал «до самого неба»!..
Ну, если откалывают такие штучки, как этот моравский Бузеску, то почему бы Аргиру по старой памяти не попросить у односельчан теплых носков? В самом деле, померещилось плаксивой бабе черт знает что тогда, на взгорье, ну и закудахтали – Аргир, Аргир!.. А он тут, может, и ни при чем, – помните, в тот самый день погиб муж ее, Митруцэ Гебан? А у нее сердце-то и екнуло, как увидела убитого…
Еще и не такое бывает! Вон у Тололоя, не то что кто-то из родни почуял – коровы и волы среди ночи вдруг взбесились, с диким ревом проломили ворота и навсегда исчезли неведомо куда, – и именно в тот час, когда их хозяин погиб страшной смертью в каких-то катакомбах при взятии Варшавы. Рассказал об этом его товарищ – сапер, сам, бедный, вернулся без обеих ног… А у Анны-Марии с Аргиром… Да бросьте вы, ей-богу! – суматоха, грохот, танки – тут и бывалый голову потеряет… И теперь Аргир будто усмехается издали – ну, поплакали, детки, и будет! Вот он я! И прошу прислать мне носки из овечьей шерсти!..
– К чему бы это? – гадали сельчане, особенно женщины, – вязанье, как известно, их рук дело.
– Ну как? Погода там препаршивая, вот что! Должно быть, холод собачий, раз ему сейчас, летом, носки понадобились.
– В этом, как его, Кенигсберге?
– Ну да, Каранфил так и сказал, а ему – племянник из Вулпешт, на днях демобилизовался.
– Твоя правда, кум… они ж там в земле по шейку, в этих траншеях-окопах, посиди-ка четыре года – как пить дать ревматизь подцепишь. Что у нас сейчас? – июль. А летом она знаешь какая кусачая, ревматизь, все печенки выворачивает…
– Не пойму, – пожимала плечами какая-нибудь женщина, – что тут наболтали, что нет. Помнишь, говорили про эту Анну-Марию, героиня, видите ли, как же! Ну, жена Митрикэ погибшего… говорили, мол, убивалась, плакала… А по кому убивалась?
– Так, милая, это же ее хлеб – она плакальщица. На прошлой неделе хоронила я свекровь, и ее позвали, жену Гебана. Ох, милая, как она умеет причитать… аж мороз по коже…
Но скоро опять все пустились в догадки – не одно, так другое… Тот «маленький», которого звала в ковыле Мэфтуляса, младший ее сын, тоже оказался жив! И что надумал этот парень, а? Заявил, не вернется, мол, пусть его домой и не ждут! Бедная Мэфтуляса, она-то решила, что сын погиб, дни и ночи напролет плакала, места себе не находила… Как же так? Виданное ли дело – мать вся извелась от тоски по сыну, а сын отмахивается: а ну вас, знать ничего не желаю, ноги моей там не будет. Даже строчки не черкнул, на словах передал, и все через того же племянника дяди Каранфила из соседнего села Вулпешты.
Этот племянник тоже хорош гусь. Встречали его в Унгенах с грузовиком – уйму тюков с собой понавез. Говорят, как стали переезжать разрушенный мост в ложбине, застряли и еле выбрались – столько в кузов навалили. И что за трофеи? Смешно сказать – ни шелков, ни ковров, ни кровати с финтифлюшками – одни книги! Вся машина битком забита – книги, книги, тьма-тьмущая книг. Уж на что в церкви скопилось всякого по части мудрости и веры, и то не наберется столько. И какие книги! Толстенные, а каждая буковка с майского жука величиной.
Каранфил хвастался:
– Мой племянник захочет – хоть в секлетари выбьется! Был у него позавчера, так он такую жалобу мне состряпал!.. Грамотей… А на войне сапером был… то есть, это, снайпером, стрелял по еропланам. И вот раз взял на мушку какой-то «мистершмит», как вдруг осколочек… Маленький такой, дрянной, как козявка, залетел невесть откуда и прямо в него… Вот сюда, видишь? На палец от брови, у виска… С тех пор ходит только в черных очках! А все видит, и знаете, все на свете может прочитать, пальцы так и снуют, так и шныряют по печатному… Секлетарь мне и говорит: «Твой племянник, говорит, товарищ Каранфил, если б захотел, освободил бы тебя от всех поставок: значит, чтоб ни молока, ни шерсти не сдавать, ни подсолнуха, – потому что инвалид первой группы…» А? Что скажете? Башковитый… Ну, я и пошел к нему в Вулпешты потолковать…
Славные, мирные дни – приходит вечер, и тянутся допоздна разговоры, неспешные, немудреные… Вспоминали младшего сына Мэфтулясы: видно, пропал парень, от войны душа в нем перевернулась, обозлился насмерть. Ведь напоследок он сказал слепому из Вулпешт:
– Едешь, да? Решил вернуться? Ну, тебе видней, а я здесь останусь. Не говори там обо мне, ну их всех! Нет меня, скажи, нет – и все! А то пойдут розыски, ахи-охи… терпеть не могу… Чтобы ты знал – я жив, но не вернусь.
Женщины, правда, по-своему рассуждали:
– Послушайте, а чего ему возвращаться? Кто его ждет? Мэфтуляса вон плакала-плакала – да со слезами и жизнь свою выплакала. Кто еще остался? Жены братьев снова замуж повыходили… Родни-то раз-два и обчелся, к кому ехать? Вот, к примеру, сын Бузеску из Моравии – другое дело, четыре сестры за спиной, теперь послали прошение в Прагу, зовут обратно, домой… А родичи слепого из Вулпешт? Да они бога благодарят: слава тебе, говорят, что он жив, что мы его видим, слава тебе, что все мы вместе! Ну и каково сыну Мэфтулясы? Взял и вырвал себя с корнем! Что он хочет этим сказать: «Меня нет»? Дескать, я есть, да не про вашу честь? Ну и кому от этого лучше?..
И они уже негодовали – как, ими пренебрегли?! И их добрым отношением, и их законами?
– Выходит, он, этот парень, вроде и не живет вовсе – никто ему не нужен, ни за кого душа не болит… Что есть человек, что нету – все одно…