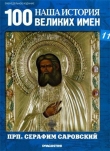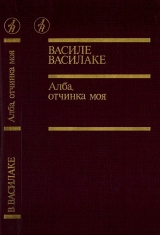
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Ох, сказки эти!..
Не обращай на них внимания, иди мимо них прямо к Апису, сыну Озириса, ибо он – истинный твои бог! Ибо его выводили жрецы на лужайку и ждали его навоза, как пророка, чтоб по нему гадать о судьбе страны…
Навострил тогда Белый уши:
– А как мне молиться, скажи?
– Как! Вот тебе и на… Конечно, как тебе молиться, если идол твой – твое собственное брюхо… Ты сам себя предал, роешь себе могилу собственными копытами. Одно тебе осталось – занять очередь на бойне, эх ты, производитель навоза!
Да здравствует техника! Morituri te salutant![8]8
Обреченные на смерть тебя приветствуют! – обращение римских гладиаторов к императору перед боем (лат.).
[Закрыть]
…Но этого уже не слышал Белый, потому что белым вихрем сорвался с места, словно кучка гусиных перьев, брошенных на ветер.
И били его ветки в чаще, и душила его кукуруза, и лаяли собаки, и кудахтали куры, и освистывали его дворы:
– Это чей же?
– Держи его!
– Гоните его!
– Бейте его!
Напуганный до смерти, он в руки не дался, а вышел далеко-далеко, на сельскую дорогу, и, совсем измученный, сбавил шаг.
Так шел он, тихонько смакуя свою усталость, топот своих копыт, как вдруг:
– Добрый день!
Бык-бычок, откуда ему знать, что этот прохожий был слеп и принял его за соседа? Более того, слепец этот, бредущий ощупью, страшно удивился: как это так, словно в сказке, – идет слепой по дороге и встречает немого, сказать есть что, да некому, видели вы чудеса такие?
И тут как раз наступил он на веревку и понял, что это не человек, и закричал кому-то, воображаемому:
– Есть кто-нибудь с этой скотиной? Эй, чья это беспризорная скотина, люди добрые?
Но заметьте, каково оно все на этом свете! «Чья это беспризорная скотина?» Да какая же беспризорная, когда за ней длинная-предлинная веревка тянется! Мало того, сам же ее схватил и сам же спрашивает: чья это беспризорная скотина…
Но раз никто не ответил, слепой потащил бычка за собой. Шел он шел, пока не передал зрячему, а тот повел его к правлению и к телеграфному столбу привязал, а чтоб не сорвался, как оно уже раз было, так проволока это тебе не веревка, держит крепко, – иди-ка сюда, скотина!..
Вот так его, Белого, и привязали. То ли привязали, то ли закляли. В столбе гудит, в голове отдается. Мелодия странная, приятная, непонятная, вроде уходит, вроде приходит – как затихающий звон электронно-космических струн.
– Проходи к председателю!
– Вызови бухгалтера!
– Счет такой-то, книга такая-то.
– Здесь арифмометр…
– А где же копейка? Только что сошлась, теперь исчезла…
– Кто линейку у меня стянул?
– Удостоверение 11749/13.
– Алло, алло, правление слушает… фу-фу. Говорит «Прямой путь»…
– Чей же это бычок, бре?
Дом белый, чернила красные, сигареты дымят, люди потеют. Приходят машины, уходят машины.
Дым от табака, дым от бензина, дым от пыли, дым из дымохода. Стук костяшек, скрипение перьев, двери нараспашку, голоса, голоса:
– Да, да, довожу до сведения: пятьдесят семь тракторов.
– …
– Да, да, план готов. Фу-фу, не слышу! Пахота? Ага, пятьдесят семь помножить на сто… Фу-фу, опять не слышно. А ну замолчите вы там!..
– …
– Простите, это я не вам… Здесь над бычком смеются. До свиданья, ха-ха…
А Белый стоит, куда ему деться? Провод короток, рога нежные, и не приляжешь, и не отвяжешься, хоть в лепешку разбейся… А наверху-сверху столько проводов, да кто их достанет, если они наверху?
– Это чей же, бре?
– Как раз и я об этом думал.
– Из стада?
– Частно-индивидуальный.
– Тогда, значит, мамин…
– А вдруг с фермы?
– Нет, с природы…
– Нет, от бога…
– Божий бык у человечьей коровы?
– Да ладно, развяжет, кто привязал!
– А если тот уехал…
– А штраф заплатил?
– А почему ты меня спрашиваешь?
– Ага, значит, это собственность!..
– Ваша правда…
– Личная? Государственная?
– Индивидуально-частная?
– А ты что надо мной смеешься, братец? Ты что, меня поймал?
– Тогда звоните в радиоузел, пусть сообщат народу.
– Точно. Так и мы узнаем…
Стоит Белый привязанный, и весь мир – словно кольцо, и мелодия сквозь мелодию. Кажется, столб со столбом, проводами соединенные, играют-исполняют арпеджио на верхних нотах, на нижних, в миноре, в мажоре, и вдруг замечаешь: идет одна мелодия, только-только начатая, а за ней уже другая, тоже начатая едва, и понимаешь тогда, что у каждой мелодии есть еще одна, над ней, внутри, и в каждую мелодию можно продеть еще одну ибо такова она, вечная полифония.
– Алло, алло, радиоузел?
– …
– Фу-фу, ты меня слышишь, бре? Говори громче, черт побери, или ты не ел сегодня?
– …
– Ха-ха! Иди сюда, дам тебе быка одного! Ну да. Теперь серьезно: объяви, что нашелся белый бычок.
– …
– Что? Да, да, самый что ни на есть белый.
– …
– Ты с ума сошел, какой еще там символ, бре? Несчастный, думаешь, написал одну эпиграмму в стенную газету, так уже и поэт? Или за всю жизнь скотины не видел?
– …
– Давай, давай не притворяйся. Давай, а то я не нанимался его стеречь. Уже пять часов, день кончается, понял?
– …
– Опять!! Какой символ, ты что, японец? Мы же крестьяне, говорим конкретно: лошадь в яблоках, курица рябая, бык рыжий…
– …
– Посмотрите-ка на него! Да нет здесь ни лошади, ни курицы, ничего! Бык есть, белый-пребелый, без ничего!.. Постой, постой, я с кем говорю? Фамилия? Частная собственность… Что ты мелешь, бре?
– …
– Фарфурел? Хэ-хэ-хэ, Ангелаш! Так чего же ты притворяешься? Алло! Алло! Тьфу, сволочь, положил трубку…
Но если одно кончилось, началось другое, потому что наверху треснуло что-то, и в ушах у Белого тоже, а провода как провода-давай свое собственное нутро кипятить, и пошло от них на все четыре стороны: ву-ву-ву…
– Говорит местное радио!.. Слушайте объявление. Говорит… я говорю, Ангел Фарфурел, ваш местный диктор… Значит, Серафим Поноарэ, как только женился, пошел на базар и купил бычка. Думаю я, что начал он это дело после того, как его жена – а мы и ее знаем – напомнила ему или, я даже бы сказал, сагитировала его сообразовываться с одной старой и почти забытой крестьянской притчей. Мол, сначала одно яйцо. Затем – цыпленок. Квочка! Поросенок! Телка! И так до пары быков. Короче, от яйца до быка… Заблуждение…
Но это, в конце концов, его дело, скажете вы. Согласен. И все же теперь скажите мне, пожалуйста, почему он не купил своей жене телку, а то ведь у них будут дети, а телка становится коровой, а та производит телят, а чем они, телята, не игрушки для детей?
Удивительно?.. Вот и мы удивились очень, потому что предварительно, предусмотрительно – другими словами, ранее – у нас уже состоялась дискуссия по этому вопросу; правда, беседа была интимной, но скажите мне, когда человек бывает более интимным, чем тогда, когда он интимен? И сказал я ему тогда: «Брат ты мой, если уж ты так любишь всякую живность, почему не купишь себе медведя?»
А он мне вздыхает: «А где, бре?!»
Так я его только теперь понял, ха-ха!
И усмотрел тут во всем намек, более того, издевку, злую шутку, которую они хотели со мной сыграть… Та-ак. Выходит, я останусь с носом, да?!
Стало быть, если я пастырь, значит, я должен быть и терпеливым, и мягким, и слугой им… Ого-го-го… Они думают, если Ангел был цыганом, он цыганом и остался! А если я вообще не цыган? Ибо Серафим не знает своего отца, а я не знаю даже свою маму, не то что отца своего!..
Вот посмотрите: не далее как позавчера я взял и покатался для пробы на быках с фермы, а потом проехался немного в «Победе» нашего председателя… Представьте себе, товарищи, – на быках время стоит на месте! А думаете, оно, время, терпит? Тогда что такое динамизм? Нетерпение, беспокойство, энтузиазм…
– Алло, алло! Радиоузел! Давайте-ка сюда мне этого Ангела!
– Эй ты, ветряная мельница, что я тебя просил, что я тебе велел?..
– Все сделано! Простите, но я хотел… Я хотел… черт, прервали мысль. У меня с Серафимом счеты…
– Чтоб ноги там твоей больше не было, Ангел!
– Хорошо, хорошо, но смотрите, попадем вместе в «Сказку про красного петуха».
– Какой петух, бре? Здесь бык!
– Так это одно и то же. По-молдавски – петух, по-русски – бык. Хорошо… Извините, товарищи, была… срочность… критическая. Бык Серафима Поноарэ, который был потерян, теперь нашелся и привязан перед правлением, и пусть хозяин придет и заберет его. Ах, черт, смотри, как он меня снял с провода!
…И Белый ждал хозяина. И музыка столбов в паутине проводов водила его по пшеничным полям, по садам и виноградникам, по степям и холмам.
Вы никогда не слушали, лежа в траве, музыку телеграфных столбов? Под эту полифонию танцует Земля, звенит Лазурь, дрожит Солнце. Но так как был он животным, у него гудело в голове, и он стоял и ждал, а хозяин все не приходил.
Дети… Дети как дети – окружили его платочки-косыночки, бантики-кантики, кепочки-шапочки. Да еще и чирикать начали.
Но…
– Дети, дети! Не подходите, на нем могут быть микробы. Только поглядите и скажите, что это такое.
– А что вы видите?
– Действительно, что это?
– Живое существо?
– Животное!
– Скотина!
– Скот…
– Тварь…
– Видали ли что-нибудь подобное?
– Я видел!.. Я был с папой в зверинце.
– Некрасиво говорить: «я, я». Надо говорить «мы», сколько раз вам повторять! Итак, кто может описать его?
– Мы.
– Теперь немножко послушайте меня… Значит, сто лет тому назад он служил нам вместо трактора…
– Елена Ивановна, а откуда у него выходил дым?
– Беретик, беретик, ты мне сначала скажи, откуда берется огонь?
– Из печки…
– Из костра…
– Ведь мы говорим о тракторе! Со дна Каспийского моря. Да, да, дети, оттуда мы добываем нефть, то есть бензин, а что такое бензин, если не жир? Ну-ка, скажите, какой бывает жир?
– Животный! – хором ответили беретики.
– Больше всего рыбий. Теперь скажите, чем питается это животное?
– Жиром!
– Травой… А что такое трава?
– Жи-и-ир…
– Тити, куда ты лезешь, Тити! Отойди, маленький, а то он бодается и лягается… Итак, это животное является…
– Елена Ивановна, а почему он не как трактор?
– Опять ты, Тити!.. Значит, деды и прадеды его влачили ярмо. Но то было давно, при царе Горохе. Теперь же машины производят машины. Это дело рентабельное, чистое…
– Елена Ивановна, а какая машина его родила?
– Корова. Не прерывай меня, Тити. Итак, его произвела корова, но это дело нерентабельное, потому что продолжается долго и дорого обходится. В то время как машина производит машину, то есть трактор, в три минуты. В то же время трактор сильнее, чем тринадцать быков. Таким образом, если с одной стороны поставить трактор, а с другой тринадцать быков, то…
– А кто может перетянуть трактор?
– Ракета!..
– Тити, сколько раз надо тебе говорить? Что за разговоры! Лучше отгадайте загадку: «Кто после смерти танцует?»
– Свирель!
– Собака!
– Турок!
– Бык, дети мои. Поняли загадку? Теперь давайте потанцуем…
Какой шум поднялся, какое представление!
Потому что к правлению сходились шляпы, козырьки, платки, лысины, бороды, голоса низкие, хриплые, прокуренные, пропитые, торопливые.
– Почему прыгают, почему танцуют, когда радости никакой?..
– Но что-то должно же быть!
– Откуда, если я не вижу?
– Не то белое, не то черное…
– То покажется, то исчезнет…
– Вроде животное живое, а почему стоит столбом?!.
– Не нашенский…
– Точно, прятали его…
– А знаешь, он семенной, как у нас!
– Чепуха… Говоришь так, потому что давно не видал…
– Что значит «чей»? Сельсовет знает, там пишут, а если это частный сектор…
– А мне-то что? Позвоните и узнайте!
– Алло, алло, сельсовет? Хорошо, браток, только почему вы нас собираете вокруг какой-то скотины? Приходите-ка сами, а то вон уже вечереет.
– Алло, алло… Тьфу! Что? Не придете или не слышите? Тьфу! Ну и техника… А ну сбегайте кто-нибудь за хозкнигами в сельсовет!
– Нашел дурака! Бычка пошлите…
– А кто его поведет, если хозяина нет?
И тогда… Тогда прибыли хозкниги к Белому. Стали искать хозяина, и первым был:
– Иеремия Василе!
– Здесь.
– Где твоя корова?
– Окоровилась…
– А конкретнее?
– Думаете, я помню?
– А теленок?
– Два года как не телилась.
– У Гуреу Иона был бычок…
– Помер на прошлой неделе.
– Бычок?
– Да нет, Ион Гуреу.
– Как? Почему?
– А кто у него спрашивал, если он уже умер?
– Помер хорошей смертью.
– Неправда! От грыжи… У него у ворот стояло распятие, а атеизма он не захотел принять и, когда увидел, что не может без распятия, поволок его в дом и надорвался…
– Так, да не совсем! Он ночью, дома, испугался: пьяный был и натолкнулся на распятие.
– Да простит его бог…
– Пуцентелу Тоадер!
– Так ведь этот в колхоз не вступал!
– Тьфу, это что за книги?
– Тысяча девятьсот сорок девятого – тысяча девятьсот пятидесятого.
– Другие поспели!
– А других нету. Частный сектор ликвидирован, осталось трое, братцы, и кто они, посмотрим: инвалид со старой коровой, бабка Сафта с козой, чтоб шерсть была, вязать, и Серафим Поноарэ…
– Тогда зачем мы страдаем?
– Ну-у, если хозяина нету…
– А почему я должен за него отвечать? Где муженек твой, Замфирушка?
– Так он в лесу его ищет…
– Ну и ну, люди добрые, что за народ пошел! Ведь ты женщина, постой, милая, как пойдешь через село с бычком теперь, ночью?
Голоса к голосам, то ближе, то дальше, и Белый, бык-бычок, новый-новенький, белый, как ласка, жирный, как травка, как почуял хозяина, так будто кто за пазухой его согрел…
– Эй, Серафим, не в обиду тебе будь сказано, зачем ты его купил?
– Пошел я, думал купить телку…
– Уж так она тебе была нужна, телка?
– Ну, тогда давайте с самого начала. Когда меня женили, благословили меня: «Будьте вы здоровы и живите мирно, как голуби! Будьте вы хозяевами так и сяк, год и еще много лет…» А еще и деньгами забросали за свадебным столом. И думал я умом своим: пожелание как пожелание, а почему еще и деньги дарят? Чтоб тратить, думаю… Хорошо, думаю, пойду на базар, а то здесь, на месте, на что их потратишь?
– На женщину…
– На вино…
– На одежду…
Кричат все, словно околдованные, словно обворованные…
– Люди добрые, видите сами, женщина у меня есть! И голыми перед вами не стоим… А если тратить деньги на вино, где же, братцы, потом другие найти на здоровье? А тут мне жена говорит: «Хочу, муженек, всегда быть для тебя красивой!» – «А что же мне делать?» – «Читала я, говорит, у Иона Крянгэ, что если девять лет подряд каждый день пить молоко молодой коровы, сколько проживешь – не постареешь…» Слыхали такие чудеса?
– Ну и ну! А что, в колхозном молоке такой пользы нету?
– В каком смысле?! А-а, вы меня не поняли! Речь о том, что молоко должно быть от одной и той же коровы, то есть чтоб только одной моей жене нравилось, а в колхозе мешают все вместе, вот что!
– И тогда ты купил ей бычка, чтобы еще больше обрадовать?
– Ну, если вы с такими присказками, я кончаю сказку…
– Ладно, брось, скажи, что дальше было, ведь темно уже…
– Значит, иду я на базар, а если у меня счастья нет… Думаю себе: «Возьму-ка я себе телку, как цветочек!» А как пришел, говорю вам без шуток – нету того, что мне любо! Ладно. «Ну, говорю, Серафим, что теперь будешь делать с деньгами? – спрашиваю себя громко. – Ведь ты не капиталист… Вынуть из-под мышки да положить под крышу, как старуха Адэмая, – так придет вихрь да унесет их ветер!»
– Да простит ее бог, кто ее вспоминает?
– Думаю я: дай куплю что-нибудь механизированное, трактор какой-нибудь. Только подумал, а он тут как тут. Хорошо-о… Подхожу я к нему и давай с ним разговаривать. А он ровесник мне да еще сирота, стоит молчит. Хорошо-о… Гляжу я на него и говорю снова: «Вот если бы ты, брат, захромал, что б мне тогда сказал?» Молчит. Тогда про себя говорю: молчишь ты – помолчу и я… Плюнул и пошел. У меня-то ничего не болит!
– Ну и ну! Неужели на самом деле?
– Чтоб мне на свете не жить, чтоб свою жену не побить, а то Замфира меня с каких пор знает… А теперь посмотрите на это животное! Посмотрите, какая картинка, белая-пребелая!.. А если он захромает? Ой-ей-ей! Как болит у него, так болит и у меня, ей-богу! И вы думаете, за такую вещь не дашь все, что у тебя есть, лишь бы ее иметь? Я даже рубашку снял, чтоб магарыч поставить, – так разгорячился!
– Слушай, Серафим, а ты не сказки рассказываешь?
– Кому?
– Нам.
– А если солнце светит, как я могу сказать, что дождь идет?!
– А если роса?
– А вы поклянитесь, что это дождь!
Люди как люди, чешут себе затылок. «Серафим, пусть он Серафимом и будет. Что правда, то не кривда, а если криво, может выправиться, для чего ж тогда голова со спиной и ногами? Дай только бог ему здоровья».
А людей уж нет. Люди поболтали да и ушли. И опять Белого отвязали, потому что уже и впрямь стемнело…
Проходят они по переулку. Навострил бык уши: топ-топ-топ кто-то за ним.
– Слушай, Серафим, уж прости ты меня перед сном: оба грешные… Согрешил и я… и у меня есть телочка! Хорошо, что еще маленькая…
– Чего ж ты молчал в правлении?
– Так ведь она у меня большая корова…
– Где ж ты ее держишь?
– В погребе.
– И не ослепла?
– Так я ей электрический свет провел…
– А чем ты ее кормишь?
– Так она старая, жует больше, чем ест…
– Да, но все же кормишь?
– А как же? Сухарики, плачинты, сыр со сметаной.
– И совсем без сена?
– Зубов же нет у нее, бедной…
– А молока хоть капельку дает?
– Давать-то не очень дает, а доиться – доится, собака.
– И ты молчал до сих пор… Неужто жена так тебя научила?
– По правде сказать, нет… А я только сейчас подумал: здорово было бы купить и мне корову. Собрали бы мы тайком стадо… У тебя бычок, у меня корова, завтра как пить дать будет телкой… И тайком бы наняли пастуха. Вот дела были бы! Пасли бы их по ночам, при луне.
Остановился Белый испуганно: над забором вскочила вдруг шапка:
– Бре, а меня с козой примете?
– Дороже будет. Они, черти, уж очень прыткие. И потом у вас козла для нее нету.
– Одна, может, окотится. Так или не так, а вместе с вами буду.
– Ну, стадо есть, а кто б бесплатно попас?
– Братцы, я пас, не хочу больше.
– Ну, детей пошлем по очереди.
– Братцы, нету их у меня, сначала родить надо.
– Тогда пошлем женщин… Оно и лучше, ведь так встарь было: хозяйка держит дом, хозяин стучит кулаком… Их дело: детей плодить, стряпать, шить, да и стадо стеречь…
– Ну хорошо, только пусть не знает никто! А то все навалятся – кто ж в дураках останется?..
– А молоко куда денем? Из колхоза идет да еще и наше…
– Ну, посмотрим…
– Будем пить вместо воды да вина…
– И свинью накормим, а то чего мучается?
– Видишь, сколько идей! Только охота была бы…
Стоит Белый среди крестьян и, как говорится, ни в гору, ни под гору, какая уж тут дорога!
– Люди добрые, что же тогда от наших женщин останется, а? А то если я со своей не посоветуюсь, с Замфирой, снова она меня бросит, а мне только этого не хватало!
И думает про себя Серафим:
«Вот так… Меняешь шило на мыло, а еще возьмешь и гуся, а потом все к черту продашь и купишь козу. Посмотришь хорошенько, вот у тебя и чесотка, а вдобавок и сдача: как раз на слугу с козырьком, чтобы было кому чесать…»
Так проходит вечер, второй, девятый, двадцатый; проходит и ночь, и день, и утро. Живут-поживают Серафим с Замфирой, а вместе с ними бычок Белый.
И как-то, то ли в пятницу, то ли в четверг утром, говорит жена мужу:
– Что же мы делаем, муженек? Все люди как люди, а мы что, не люди? Бычка этого держим, а ведь доить-то не доим.
– Вижу… – чешет Серафим затылок.
Только одно это словечко и сказал Серафим, а жена уже взбеленилась: мол, насмехаются над ней.
– Хорошо еще, что видишь… – вздыхает она, а сама так и кипит. – А я вот другого не вижу: почему, для чего, на что мы его держим?
– Так ведь держим! – говорит Серафим убежденно, потому что со временем стал он таким и думал человек так: говори, как другой говорит, и делай хоть что-нибудь, как он, и посмотри, убьет он тебя за это? А может, даже и похвалит?
И заключает, опять убежденно:
– Все люди у себя во дворе что-нибудь да держат, а нам что, совсем ничего не держать? Вон Варварин купил клетку с двумя канарейками…
– Да не морочь мне голову еще и канарейками! – не выдержала наконец жена. – Я тебя спрашиваю: какая мне польза от того, что ты его держишь?
Молчит он, бедный. Вот так всегда: накинется на него жена, а ему и ответить нечего. То есть он мог бы сказать: «Иди-ка ты туды-растуды! Кто здесь хозяин?», однако он верил в разум женщины и в то, что с ней можно договориться по-доброму, если считаешь равной с собой… Более того, последнее время, оказавшись среди мужиков, которые болтали о бабах невесть что, он, Серафим, защищал их. Говорил огорченно: «Эх, а без женщин были бы мы разве на этом свете?»
А Ангел, случалось, в открытую над ним насмехался:
– Серафим, а что, если я вот что сделаю. Возьму немного семени от себя и чуть-чуть от твоей Замфиры и поставлю в теплом месте на печке, в каком-нибудь горшке, и накрою его хорошо-хорошо, знаешь, как старушки квас накрывают? Разрази меня бог, если один такой же Серафим не получится.
Вздыхал Серафим:
– Какие печки, бре, какие горшки, если и огня развести будет некому?.. – И возвращался домой в глубоком раздумье, и ложился лицом кверху на завалинку, и молчал долго-долго, пока жена не окликнет:
– Что с тобой? Тебе плохо?
– Нет, Замфира. Я думаю.
Ну, муж опять молчит. Молчит, а жене невтерпеж.
– Ну, говори что-нибудь или онемел?
– М-да, – вздыхает Серафим.
– Так давай продадим его к черту! – решает Замфира.
Говорит и Серафим:
– Давай… м-да. – И опять вздыхает. – А если зарежут его, бре…
– Тьфу, болела бы у меня голова только от этого! – И, сказав, ни с того ни с сего – раз! – как хлопнет Серафима по лбу ладонью. – Глянь, он тебя сосал, а ты и не чувствовал.
И показывает ему комара. А потом говорит:
– Пойдешь на базар, там поймешь, что к чему, на то он и базар! Ну давай, а то уже поздно, – торопит она.
Так и получилось, что Серафим опять отправился на базар.
17
Теперь, что это был за комар? [9]9
Выписка из дневника «академика»: «Летний день, второе тысячелетие, эпоха пластических масс».
«…Сегодня опять читал „Сказку“ с бычком. Дошел опять до смерти комара и опять себя спрашиваю: смыслов много, но сколько их? Зачем нужен был здесь еще и комар! С этой мыслью выключаю свет и ложусь. Лежу на спине и напряженно думаю о Замфире.
И вдруг чувствую: „Жжи-ввой“. Ни пули, ни осколки, ни стрелы – кто же это, братцы мои, так громко завывает?
Ничего, думаю про себя, это у меня в голове звенит… от большого напряжения! Считаю: раз-два-три… Нет, не в голове, что-то другое… И, значит, опять начинаю все сначала: текст – это одно, а каков он, подтекст? Замфира – красавица, но если она убила комара, стоит ли ее любить? И, разомлевший в постели, стал я снова раскручивать нить сказки: валентность, внешние признаки, сущность, грани. И, черт возьми, шлепаю себя по лбу: ну да, ведь бык есть, а как же с этим… точно, как раз комара-то и не хватало!
Итак, хочу заснуть, да все он звенит, проклятый. Милый ты мой, говорю себе, совсем ты ослаб: чуть-чуть напрягся и смотри-ка… Писк, словно пила вдалеке, то приближается, то удаляется. Словно режет тьму надо мной на ломти! Ладно, но почему же автор сунул сюда комара, а не божью коровку? Нет, так я никогда не засну… Подожди, ведь пищало же только что?
Конечно, автор взял комара, потому что во всей этой „Сказке“ нет ни одного драматического поворота… ага, вот опять звенит… Щекочет лоб… Неужели у меня в комнате комар? Наверно, какая-нибудь правнучка, отец, брат, сын, сестра, шурин, тетя, теща или даже жена того комара из этой „Сказки“…
Включил свет. И речи о сне не может быть, потому что жжет лоб. Готов уже был, как бы сказать, уничтожить этого, который пищал, и вдруг меня осенило: а за что же? И сказал я себе: я ведь тоже человек, и в конце концов ведь только добро – и ни в коем случае не зло! – носит мое имя: человеческое. Иначе откуда ему взяться? И тогда понял я комара и его, как он выразился, горе. Очутился он в неживой природе: земля, звезды, вода, но там добро кто может, добро кто сделает? И решил я тут же: дай-ка посмотрю, что еще есть в этой „Сказке“, и снова начал читать с самого начала.
– Вначале был бычок.
Вот почему все эти подчеркивания, от начала до конца, принадлежат мне – и, думаю, с текстом под ними».
[Закрыть]
Сказать, что он был ни рыба ни мясо, попробуй тогда найти ему пару! Скорее, это был комар – почти жеребец, комар – стреляный воробей, ведь и муха может быть слоном! Случалось ему видеть невиданное, не говоря о воображаемом, заклинаемом, сочиняемом.
Но сказать, что он был черт знает откуда, нельзя, потому что родился он на берегу пруда, как и все комары, и, понятное дело, в бытность свою приходилось ему сидеть верхом и на волке, и на ягненке, пососал он кровушку и у егеря, и лошадиный помет пробовал. Чего только не случается у каждого в жизни!
Так-то вот. И, значит, живет он на берегу пруда, кто его знает, сколько живет, а живет. И хорошо, неплохо живет! Солнце – раз, воздух – два, вода – три, камыш – четыре. А захочешь ила, захочешь крови человеческой – пожалуйста, любая тебе на выбор, ибо кто только не приходит на берег пруда: и скотина, и поэт, и байстрюк, и турок, и молдаванин… Короче, подводи воду, братец, к каждому порогу, ибо когда она только до порога, потопа не случится, будь спокоен.
И жить бы ему, как живется, да дернуло его как-то в один прекрасный день шепнуть на ухо не зная кому:
– Почему «кыш-мыш», дядя камыш?
– Какой там «кыш-мыш», когда «пшш», – ибо был вечер, и ветер дул, и камыш слегка шелестел…
– М-да… да я так просто, – говорит комар, – хотел я как-нибудь по-особенному выразиться, а спрашиваю вот что: почему вздыхаете?
– Хм, – отзывается камыш, – умница ты у меня… А где плотина, скажи?
А он, как его там, комар, и не заметил, есть плотина, нет плотины, ибо какое ему лично до этого дело?
– Ну и что?.. Из-за какой-то там плотины так шуметь?
– Вот посмотришь ты у меня, – говорит камыш, – настанет время, будешь мед делать…
– Умру, но не буду!.. – клянется комар.
– Давай, давай, – качает головой камыш, – увидим, как на следующий год вместо меня здесь лук вырастет, – что тогда будешь делать без воды?
– Еще чего не хватало! – говорит комар камышу, пытаясь натолкнуть его на какую-нибудь идею. Посмотрели бы вы, как у него, у бедного, голова кругом пошла от этих «почему», «как», «для чего», вот и звенит он под ухом у камыша: мол, почему бог дает мне одно, а делать заставляет другое?! И в конце концов, что такое бог без слова – могила, аминь!
И берет он и начинает исследовать дело – видели вы когда-нибудь спокойного комара? А чего тут исследовать, если плотина рукой подать – вот она, прорванная. Пруд засыхает, вода убывает, а вокруг такой шум – шурум-бурум, мало нам других забот!
– Да, плохо, – говорит он камышу.
– Чего уж, хуже бы не было… – вздыхает тот.
И тут вдруг встречает комар муху.
– А я в Кишинев уезжаю… – говорит ему муха, потирая лапки. – Угомонись и ты, милый, поехали вместе.
– А что мне там делать без дяди камыша?
– Так-то оно так… а здесь что ты без него будешь делать? – И вздыхает муха: – Не делать мне меда, как моя бабушка не девица, а уйти – уйду. Ибо хочу я собственными глазами увидеть умника, который написал: «Уничтожайте мух», носителей черт-те чего. Что он от меня хочет, что я ему сделала? Ты только на меня глянь. – И то крылышко ему, комару, покажет, то лапку. – Чистые, правда ведь? Ишь придумал: ношу, переношу, приношу, черт бы его побрал! Посмотрела бы я, как бы он жил без меня? Увидел бы он, умник: если б на этом свете ничто не разрушалось и не сгнивало, что бы от него осталось, господи, – мумия, сфинкс!
И, сказав это, муха своей дорогой пошла, а он, комар-дурень, не пойти ли и ему за ней?
– Ну, что теперь скажешь, дядя? – спрашивает он.
– Ух и уф! Совсем расскрипелась ось моя… Разве не видишь, в меня уже и стадо загнали?
– И что же делать?
– Хм, были бы у меня твои крылышки… Дьявол родил меня раньше тебя! – И давай жаловаться: – Водички, воды – засыхаю!
Видно, так с каждым больным – из воды вышел и воды хочет. А если ее ни тут, ни там нет, значит, надо пойти за ней еще дальше.
И полетел комар. Не найдется речка, так пусть притечет сюда хоть несчастный какой-нибудь источник!
С этой мыслью летит он туда, летит сюда, летит выше, летит ниже, и наконец повезло – натолкнулся не то на источник, не то на ручей, а скорее просто на струйку, которая течь-то течет, да не в ту сторону.
– Нижайше тебя прошу, – говорит комар, – заверни немного, сделай мне одолжение!
Мол так и так, погибает камыш!
Но вы поглядите, до чего лицемерен этот мир…
Ручеек, вместо того чтобы сказать правду, ибо нам с малолетства известно из географии, что-де камышу угодишь, сам погоришь, болотом станешь, говорит другое:
– Да я бы всей душой, но веление снизу, с долины: меня море ждет! Спешу…
Видит это комар, а до моря почти ничего не осталось – и махнул он туда.
– Вот дело какое… – начал он, как пришел, – сделайте одолжение, оставьте-ка на час-другой ручеек в покое, а то он не речка и даже не ручей, а строит из себя персону большую!
Море есть море, такое уж оно, говорят, равнодушное, – и говорит:
– Что до меня, я не убываю, не прибываю, – мне-то что?
То есть с ручейком или без него, а спросить с кого? И дает понять, что если ручеек и течет вниз, то это не от его воли зависит, потому что другие его гонят-направляют.
– Но кто же?
– Гора! Эти возвышенности да впадины в меня все помои сгоняют… – жалуется оно.
Ну что ж, давай тогда, комар, к горе.
Подлетает к ней и начинает: мол, так и так…
– Мне плохо, может, и вам не лучше, а уж камышу каково? Во!
Тогда говорит и гора:
– А ты мне скажи, кто на свете всему-всему, и тому и этому, рад? К примеру, я родилась голой, а теперь еще и оплешивела… И льет и льет сверху… пошла бы она к чертовой бабушке, эта вода! А вы, будьте добры, поднимитесь повыше и спросите там: почему?
Короче говоря, гора считает, что облака во всем виноваты и за все в ответе.
«Вот так, – думает комар, – уходишь на часок, а там смотришь, уже два прошло, да еще ко всему дождь идет… И устроен же этот мир, грехи мои тяжкие: если не знаешь, где спросить, вон сколько ходишь! И давай все выше и выше, а то внизу не только промокнешь, да еще и вспотеешь».
Поднимается и видит – мгла густая, словно валенок, и, обрадовавшись, говорит тогда комар:
– Ах, братец-облако, привет тебе и всех тебе благ! Будь добреньким, подойди поближе.
А оно хоть бы спасибо сказало.
«Смотри-ка на него, – заключает комар, – ишь как раздулось, а что с ним сделаешь – высоко оно, облачко. Только-только вылезло из дыма, а уже нос задирает, хе!» И прямо ему в лицо:
– Слушай ты, облако, не будь бычком, шевели языком!
– Ах, вы, значит, с земли? А разве не видите, что у нас все на ветер пущено?
– Ой-ей-ей! – И как повнимательней пригляделся комар, видит: чертов ветер гонит всех, носит, мотает-болтает.
– Эй, – говорит тогда ветру комар, – если ты на всех так навалился, кто же тебя остановит?!
И просит его:
– Будь добр, если можешь, сделай разок «пфф!» – подуй слегка на дядю камыша!
А этот, как его там, ветер, спешит-мчится да и говорит:
– Берегись! – И показывает на заходящее солнце. – Или ты думал, что у меня крылышки, как у тебя, и я сам по себе? Пусть будет мне столько зла, сколько я всем делаю добра… – И опять на солнце показывает: – Оно себе жарит, парит, а ты, как дурак, бегай туда-сюда, охлаждай!..
Остановился комар, скривился: «Ничего себе, порядочки у вас, точь-в-точь как у нас: кто с доходом, кто с расходом… Помоги мне бог, поймаю это солнце в дождливой луже и схвачу за одну штуку, чтоб больно было! А то что же это получается? Сидит у черта на куличках, а ты тут хочешь сделать хоть капельку добра, да попробуй-ка сделай. „Нет! Приходите все ко мне и тут на месте посмотрим, кто да с кем, а я-то надо всем!“ Ну и братия, ничего не скажешь! Море, Гора, Облако, Земля, а вдобавок ко всему этому еще и Слово!..»
И так как ветер подхватил его и отбросил подальше, взмолился комар:
– Эй, ты, осторожней и, если можно, дай дорогу, а то я, комарик-романтик, хочу делать добро на этом свете, кому ж еще его делать?
Бросил его тогда ветер на божью милость:
– В твоей башке ума – радуга!
«Спасибо на добром слове», – ничего не понимает комар и смотрит удивленно вокруг: где правда, а где чудо? «Вечер и солнце, на земле ветер, а еще выше – дождь по крыше, а радуга-то где, в чьей голове?» – спрашивает он себя уныло. Потом заключает: «Вот так – никому ничего не должен, а ходишь напрасно. Да и как тут усидишь на месте, когда зубы стучат». И поворачивается лицом к закату:
– Святое солнце, у меня вопрос к тебе: развязывает ли тот, кто связывает? И до каких это, скажи, пор все будет шаляй-валяй?
А в ответ молчание, как в воскресенье… А солнце далеко-далеко за горой, словно на коне верховой, – ох, комар-комаришка, разве это дело: двое на кляче, да и та не скачет?
«Дойду, – заскрежетал он тогда, – дойду, если не помру, доберусь, если с пути не собьюсь!» И снова заскрежетал и давай вверх, вверх по лунной дорожке – лучше быть не может. И в голове у него ясно-муторно, и бормочет он что-то такое: несколько крестов, несколько Христов и между ними несколько святых затесалось…
И так летит он, не летит, а больше идет… Идет в час по чайной ложке, идет ночь, сколько может, а как до сути дошел, что, вы думаете, нашел?
– Вечер добрый, матушка луна!
– Ну и что!