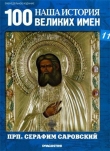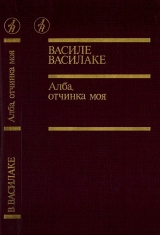
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
2
Теперь можно себе представить, что творилось в клубе. Молчит Кирпидин или выступает, встанет или садится – «ха-ха-ха», «хо-хо-хо-хо»!.. А тут еще это «вещественное доказательство», пехотный ремень королевской армии, взовьется в воздухе, сверкая начищенной пряжкой, словно желтый змей, и снова: «Ох-хо-хо!», «Хи-хи!..», «Ой, не могу-у-у!..»
Судья с прокурором и два представителя из районной милиции недоуменно переглядывались: «Что тут смешного, товарищи? Мы творим правосудие, воцаряем справедливость, к чему этот гогот?..»
Давно известно: крестьянин шарахается в сторонку, чуть пахнет судом или законом, пятится, как теленок от лужицы крови. А этот, смотри-ка, целое представление закатил: то на жену оскалится, то свидетеля перебьет, то самого обвинителя обвиняет… Или у Патику не все дома?
Этак, глядишь, сорвет мероприятие, ведь не зря заседание проводят здесь, на месте происшествия. Ясное дело, с воспитательными целями, чтобы усвоили: новая власть установилась прочно и основательно. Местные крестьяне-единоличники – люди не совсем, как бы это выразиться, просвещенные в сменах социального строя… Живут в лесах, советская власть года три-четыре как пришла, и о всяких преобразованиях только краем уха они слыхали. Им кажется, как в прошлом, что «государство» со своими законами до них вовек не доберется. По старинке живут: дескать, «до бога высоко, а до царя далеко». У нас тут, мол, все свое. И пока оттуда, сверху, из этих столиц и городов, уездов и волостей, доберутся до нашей лесной непролазной глуши, до этих чертовых куличек, тупиков и тропинок, хе-хе, пока сюда доползут всякие законы – мы уже, бог даст, в ящик сыграем.
Конечно, можно их понять. Ведь что за дороги тогда были? Подумать страшно – рытвины да ухабы. А сколько нарывались на каких-нибудь хитрецов, мастеров пустить пыль в глаза самой Фемиде? Да тот же Гаврила Тэнэсоае, агент по хлебопоставкам… Хе-хе, сколько этих агентов, которые вертят законами, как оладьями на сковородке! Всякая метла по-своему метет…
Ну, раз так, то и крестьяне в свою очередь… «Давайте-ка, братцы, держаться того, что дедами-прадедами нашими на зубок испробовано и проверено. Зудит у бабы спина или что пониже – к чему тут законы-конституции! – возьми ремешок и помоги страдалице. Да хоть бы тот же скридоновский ремень с пряжкой – самое верное дело… Ах, мало тебе, милая? Тогда давай голову промеж ног – кто перед тобой, мужчина, черт возьми, или овсяная каша?! Сейчас постелю тебе на гладенькую спинку синий-пресиний матрасик, походи так немного, слива моя палая, авось наберешься ума с божьей помощью…»
Ах, уже родичи на помощь подоспели – сестры, братья, целый выводок? Тогда кричи во всю глотку: «А вам чего надо? Чего вмешиваетесь? Или я встреваю в ваши дела? А-а, хотите домой забрать!.. Вот она вам, со всеми потрохами, держите ее сами в хомуте и на привязи, у меня брыкается! В придачу еще и веночек на голову напялю, пусть катится на все четыре стороны, черт меня дернул лезть в эту петлю!..»
И уже в родном доме, под крылышком отца-матери, которые выдавали дочку замуж с музыкой и танцами, со слезами и свадебными обрядами, – вот она, бедная жертва, плачет и клянется: пусть у нее ноги отсохнут, да лучше она повесится, чем вернется в дом мужа-изверга!
Смотришь, деньков через пять-шесть, ну от силы десять, стоишь ты сам, изверг и тиран всех деспотов, – стоишь, как теленок, у ворот своей суженой. Стоишь, стянув шапку, перед родителями, словно явился вторым заходом свататься. (Конечно, если сами они не пришли к тебе, усовестить и помирить.) И начинаешь: «Я прошу у вас прощения, отец и мама. Но только это она, Тудосия, виновата. Встала, видно, утром не с той ноги и давай честить: „Ах ты неряха, говорит, неумытая твоя рожа! Слюнявый ты каплун! Жизнь свою я загубила, мать пречистая. Накормлю его отравой, сил моих, говорит, больше нет!..“ Нет, вы видали? Как можно такое слушать? Конечно, вышел из себя: „А ну-ка, давай я тебя поучу, как надо жене мужа своего величать-почитать… Отрава, да?“ Не стерпел я, родители мои дорогие, да кто бы стерпел на моем месте? Просто вопрос ей задал: „А с кем ты этих троих родила, милая, а? Со слюнявым, с неряхой? А что село скажет, когда узнает, кто я у тебя, слюнявый-общипанный? И как теперь выйти на люди, днем, когда соседи пялятся во все глаза у ворот, – каплун я или петух?“ Конечно, тут я ее разок немножко стукнул. Ну, не выдержал! Пусть она клянется, что не так было, если язык повернется! Она свидетель!.. А вы побейте меня…»
И вот Закон, великий и всемогущий, лично прибыл в лесную глушь засвидетельствовать почтение уважаемым кодрянам. Фемида возмущенно хмурила брови: «Ай-я-яй, как некрасиво… И несправедливо, скажу я вам… И совсем нехорошо, дорогие мои. Да, нехорошо любящим так называть друг друга! Ну-ну-ну!.. (И пальчиком грозит раз, другой… а это значит: посидишь годик-два, поглядишь на небо в клеточку, призадумаешься.) И пусть только посмеет хулиган опять так разговаривать или рукам волю давать…»
Бадя Кирпидин аккурат ткнулся носом в ее грозящий палец: ты что ж распоясался, милок? Жена тебе не батрачонок-дармоед, над которым можно измываться. Что за педагогические эксперименты? Жена тебе товарищ и друг! Она, можно сказать, твое альтер эго! того-этого-эго-ого… Понял?
«Н-да, славно чешет прокурор! Ой, совсем не так, как поп по писанию… И вроде так оно и есть. А мы разве против?» – переговаривались крестьяне, слушая прокурорское выступление, которому конца видно не было, ибо прокурор, как блюститель закона, старался, чтобы закон проник в глубь масс, из кожи вон лез, чтоб вдолбить им в башку разумные, а не варварские начала бытия.
Слушали они прокурора, слушали… Соглашались: «Да, умный человек, много знает… Хорошо говорит товарищ прокурор…
Что уж мы, совсем темные? Женщина, она, конечно, тоже человек…
Давно поняли! У нас самих есть дочери… Ну, а как быть, если у тебя трое детей, а ты видишь – не складывается семья. Не будет жизни с этой ненаглядной, хоть топись. А что делать с тремя сопляками? Они же твои, чума их забери! Сидишь так, проклинаешь, и вдруг подкатит ком к горлу, глядь – даже слеза подкатила, потому что они твои, дьяволята, твои, а не подзаборные… И как все это рассудит товарищ прокурор? Сдать их в приют, что ли, пусть государство растит?!»
«Вот придешь домой, – думает мужик, – а моя заведется с порога, наслушается тут судью да заседателей… Нет, ты полюбуйся только на этих женщин – будто не прокурор перед ними речь держит, а Марья-искусница невиданный ковер плетет. Вон, аж все глаза проглядели – только бы запомнить все цветочки да завитушки и намалевать такие же дома, на своей печке… Да-а, придешь теперь домой, а она с ходу возьмет в оборот – пойду-ка и я, милый, на собрание. Ивгеня Петреску велела: „Пусть немножко и мужья ваши с детьми посидят… Вы, уважаемые женщины, приходите сюда, в клуб, почаще, здесь будем учиться, ума набираться, как вести себя с законом, с властью и с собственными мужиками. Здесь, на женсовете! А кто из мужей вас не пустит, мы его вызовем и дадим нахлобучку. Сколько таких – заявится домой на ночь глядя, лыка не вяжет, скандалит или еще что похуже… А мы и пугнем: имей в виду, задуришь – не с нами будешь, с прикурором разговаривать! Вон как Патику-Клещу досталось!..“»
Сама Евгения, председатель женсовета, была вдовушкой с пятью детьми. Двое старших не вернулись с войны, а эти пятеро – мал мала меньше… Как выбрали ее депутатом в сельсовет, домой приходить стала только переночевать, а с утра пораньше уже и след простыл – горит на работе, особенно в женсовете. И вечно сует нос в чужие дела, и советует, и наставляет, будто для того на свет появилась, чтобы не дать тебе сбиться с пути истинного… Неужели новый поп на мужицкую голову – в юбке?
Мало кто обращал на нее внимание – жизнь брала свое: шли по своим делам, а между тем, когда случалось мужику чокнуться стаканом со своим шурином, сдвигал шапку набекрень и чесал затылок:
– Ну и как тебе, Филипп?
– Ты о чем?
– Да все о том же… Как Евгения-депутатша говорила?
– А что, хорошо выступила, складно. Только я своей дуре говорю: погляди на ее детей, неумытые, оборванные, слоняются по дороге целыми днями, как неприкаянные… Лучше бы в детдом сдала, а потом уже агитировала.
– Вот и я говорю – несчастное то село, где бабы стали командовать. Божье наказание.
– Да ну их, пусть теперь сами ломают голову. Кому хуже? Видал я эти заботы знаешь где? – И посмеивался в усы: «В мою шапку кукушка еще не снеслась!..»
И вот теперь, на судебном заседании, вызвали свидетелем эту депутатшу Евгению. Она начала с того, что два ее сынка погибли на фронте, и на руках осталось еще пятеро, и если товарищ судья хочет знать ее мнение, то подсудимый Патику – неразумный человек. Почему? Она обратилась к Кирпидину, выговаривая ему, как теща:
– Уважаемый Скридон! Все мы здесь взрослые люди… Вы уже пятнадцать лет связаны семейными узами. Эти узы священны. И как же у вас рука поднялась? Жену, самое близкое и преданное существо, – бить пряжкой! Да еще железной, ай-яй-яй!.. Да еще перечите нашим справедливым законам, кричите… Мне стыдно за вас перед товарищами судьями и прокурором.
Патику, слушая ее, кивал вверх-вниз, головой, как лошадь в знойный летний день, и помаргивал: «Согласен, согласен… согласен… Лишь теперь сам понял: неразумный я, неразумный! Видишь, где очутился? Как дитя за отдельной партой, которую здесь во всеуслышание назвали „скамьей подсудимого“…»
И вдруг произнес громко и насмешливо:
– Умница ты наша большая, Ивгения!.. И какая же ты великая моя благодетельница. Учишь меня и всех присутствующих уму-разуму – и все бесплатно! Бедное-разнесчастное наше село и бедная моя головушка, – хлопнул он себя по лбу, – если мы уже стали жить по женсовету Ивге-ге-ге-геньюшки!
Эта его дерзкая выходка возмутила до глубины души членов суда.
Первым решительно поднялся прокурор:
– Я настоятельно требую, чтобы высказанное было занесено в протокол, со всеми надлежащими подробностями! Подсудимый Патику позволил себе оскорбить свидетельницу Петреску. И какую свидетельницу? Председателя женсовета села Леурда! Она делает большое и важное дело, можно считать, находится при исполнении своих обязанностей по воспитанию… А подсудимый Патику… Словом, он высказал свое полное неподчинение существующим нормам поведения при разборе его уголовного дела о подделке не одной, а трех квитанций по сдаче хлеба «Заготзерну» и жестокой мести супруге, его разоблачившей! Я попрошу товарища председателя сельского Совета дать устную характеристику подсудимому, который, да будет мне позволено заявить суду, ведет себя вызывающе не только по отношению к своим согражданам, но и к нашему справедливому судопроизводству. Словом, провокационно!
Но председатель, человек тихий и незлобивый, да к тому же и ровесник Скридона, начал не очень вразумительно:
– Ну, что сказать… Человек как человек… Имею в виду Патику Скридона… Когда послушный, когда не очень… Ну, как все наши.
Следует добавить, что дело было в июне сорок девятого, а если учесть, что пять лет тянулась война, а в селе Леурда еще не было колхоза и к советской власти только стали привыкать, станет ясной некоторая неопределенность председательских высказываний.
– А то, что он говорит… По правде сказать, я не очень-то хорошо его знаю… Патику родом из другого села и перешел к нам, когда женился. А времена знаете какие – то война, то голод, то засуха, то… Ну, по правде говоря, ни с кем не подрался, не судился, не воровал и не спекулировал. Что еще сказать… Человек как человек… как все…
Конечно, будь председатель не перед глазами целого села, а в зашторенном кабинете с двумя-тремя ответственными лицами, он говорил бы куда более определенно. Но был, следует напомнить, незабываемый сорок девятый, предстояло проводить коллективизацию – нужно было быть не только политиком, но и стратегом и тактиком. Ведь в зале собрались будущие колхозники, с ними придется бок о бок строить новую жизнь. Скридонаша Патику не объявишь «классовым врагом» или кулаком, хотя со своей супругой обращается вполне по-кулацки… Постой, а вдруг за ним какие-то «недоимки» числятся? Тогда пусть выскажется присутствующий здесь товарищ хлебозаготовитель!
– Какой такой заготовитель!.. Который скачет через забор, как жеребец?! – заорал Кирпидин.
Стоило ему открыть рот, как по залу опять катился хохот. Что за люди, ей-богу! Им толкуют: так нельзя себя вести, а они заливаются, как малые дети, чуть утихнет в зале – и опять прыснет кто-то.
Судья жестом прервал прокурора и произнес:
– Подсудимый Патику, встаньте!
Тот снова выбрался из своей старой, обшарпанной двухместной парты, которую специально притащили сюда из школы напротив, и вытянулся, грудь колесом, перед столом суда.
– Если вы, подсудимый, еще будете без разрешения выкрикивать… эти свои реплики… и так возиться и ерзать, и не проявите уважения к присутствующим, я вас фактически буду вынужден вывести из зала! И вы на всю жизнь запомните, как положено вести себя в общественном месте!..
Патику раскрыл было рот, но судья резко осадил его:
– Я не давал вам слова!
Маленькие зеленоватые глазки Скридона, злые, как у хорька, зыркнули на судью и уставились на битком набитый зал: «Слушайте, да перестаньте, ведите себя по-взрослому! Мне же за вас отвечать!..»
Он недоуменно повертел головой и повернулся к судье:
– Что я такого сделал? Ни сесть, ни встать, и слова не даете, все до конца рассказать… Они гогочут, а я виноват! Так нельзя!..
И вдруг поднял по-ученически руку и пролепетал, наивно, как второклассник на уроке:
– Разрешите… Я хочу по-маленькому…
Потолок чуть не рухнул от хохота. Для его односельчан был особый смак в том, что коротышка Кирпидин ляпнул такое в самой что ни на есть торжественной обстановке, словно нет ни совести, ни закона, ни власти, а есть всего-навсего его «маленькое дело». Дескать, вот вам – возьму и суну дулю под нос всем собравшимся и самой Фемиде!
Конечно, судья… Ну, любой на его месте взорвался бы, хотя… Нет, он сдался.
– Проводите его, – обратился судья к милиционеру.
Людям, сведущим в делах судебных, стало ясно, что с этой минуты подсудимый Патику Спиридон Николаевич взят под стражу. А остальные поняли только то, что расслышали:
– Объявляется перерыв на двадцать минут! – Судья постучал ручкой по графину, пытаясь перекричать шум и гомон в зале. Кивнул головой, подзывая капитана из районной милиции, которого вызвали сюда, в отдаленное село, на выездное заседание суда как охранителя общественного порядка – колхоз здесь еще не был организован, и шепнул на ухо: – Не спускайте с него глаз!.. Ну и вообще…
Это «ВООБЩЕ» по тем временам означало: «Враг есть враг, и заруби на носу – не дремлет. А мы – тем более. Будем бдительны!» И надо сказать, были к тому основания: по лесам еще шастали всякие банды, – вон, только месяцев восемь назад перебили часть банды Емилиана Бобу, который держал в страхе три или даже четыре лесных района. Они сжигали здания сельсоветов, грабили кооперативные магазины, стреляли в активистов и местных руководителей. Бывали ночи, когда Бобу посылал некоторым «предупреждения» заранее – ждите, дескать, прибуду. Приходилось этим «предупрежденным» ночевать вооруженными по соседям или родственникам, у которых тоже, впрочем, не без опаски оставались. Тем временем жены с детьми отсиживались у родного очага в темноте, боялись лампу зажечь в комнате.
Потому, как вы понимаете, словечко «вообще» не сходило тогда с уст, как сигнал тревоги, – не спи на посту, товарищ, держи ухо востро!
Во время перерыва судья, человек из других краев, поинтересовался у заседателей, которых выбрали из местных активистов:
– Послушайте, чего они все время смеются? Будто здесь балаган на ярмарке и подсудимый Скридон Патику устраивает представление для односельчан!..
Ответ был неожиданный:
– Да знаете, товарищ судья, никто его всерьез не принимает. И родни здесь нет, для всех вроде как чудной чужак. Сам-то он из соседнего села, батрачил у одного кулака, а женился на нашей… Вот и привыкли над ним потешаться, а тому по вкусу пришлось – решил, видно, этим авторитет себе заработать. А вы со всей строгостью – вот и неувязка, стали над нами и над судом хихикать.
Тут второй заседатель, как раз из этого соседнего села, добавил кое-что, чего здесь, в Леурде, еще не знали о Кирпидине.
– Скажу вам истинную правду, товарищ судья… Он чертовски смешной и хитрый, между прочим. У нас его знаете как прозвали? Авизуха – чертово копыто! Бывало, пацанами затеем борьбу на выгоне – скотина пасется, а нам что делать? Давай бороться, кто сильнее. И знаете, его никто ни разу не смог уложить на лопатки. И в голову не придет, почему! – торжествующе перевел дух сверстник и земляк Кирпидина. – Берешь его в охапку… вы же убедились, каков он с виду!.. Берешь его в охапку, говорю, и думаешь: «Ну, как плюхну сейчас оземь – мокрого места не останется!» А он, Патику Скридон, плывя по воздуху, знаете, как чахлый мотор… как начнет, извините, пукать… Тут же всякий злой умысел пропадает, просто руки опускаются. Более того, плеваться, простите, начинаешь и уходишь подальше… А он катается по траве, чертово копыто, гогочет: «Ха-ха!.. Борец! Ну что, одолел, силач?» Так никто его и не поборол ни разу, представляете?
А прозвище дали ему на танцульках, не помню уже кто, какая-то девушка. Парни пляшут вовсю, пыль столбом, ну и мы, мальчишки, туда же, – пора учиться дрыгать ногами. Гляжу, и Скридон с нами – подходит к одной, приглашает, а та в сторону отвернулась и смотреть не хочет. Покрутился, покрутился – к другой, и та от ворот поворот. Тогда он к третьей, самой плохонькой и неказистой, – эта, мол, не откажет, мы с ней два сапога пара. А та стоит, разнаряженная, подбоченилась – и вдруг на тебе: «А ну брысь отсюда, Авизуха!.. Куда суешься? В зеркало на себя полюбуйся!»
С того дня только и звали – Авизуха да Авизуха, и никто всерьез не принимал. А знаете, товарищ судья, как у нас? Приняли тебя за умного – до смерти будешь умным слыть, окрестили драчуном – так и пойдет слава, пока правнуки не народятся, а уж раз оплошал, стал посмешищем – пиши пропало, вовек не отмоешься. Вот и думаю, должно, и здесь, в этом селе, Леурде, он что-нибудь отмочил. А то чего бы им ржать ни с того ни с сего?
Судья переглянулся с милиционером. Откуда знать им, что подсудимый Скридон Патику прослыл здесь великим знахарем, который лечит, орудуя топором, а малышня носится за ним по улицам и дразнится: «Эй, щипец-зубодер! Коротышка-пуп-глистун!..»
3
Теперь мош[1]1
Мош – дядя, дед.
[Закрыть] Скридонаш топал по свежему насту в родильный дом. Точнее, шел он в больницу, где вчера ночью родила жена. Вторая, конечно, которую звали Рарицей. Прожили они вместе лет двенадцать, и были эти годы ровными, спокойными, мирными, как последние дни бабьего лета. Шел он и думал, но вовсе не о пережитых тяготах, хотя ему порядком доставалось за дерзкий норов.
Тогда, в сорок девятом, упекли на четыре года. Не вышло никаких послаблений, потому что во время процесса ждал его еще сюрприз: вызванный свидетелем агент по хлебопоставкам представил суду новые доказательства – еще три подделанных квитанции за 1948 год. В одной была подчищена цифра года, в остальных двух сданные 334 килограмма подсолнуха выросли до 884, а 43 килограмма фасоли превратились в 93.
– Полюбуйтесь, граждане, что это за фрукт – не только дерзит, но и на руку нечист. Выходит, советские законы для него – трын-трава?!
Судья задал единственный вопрос:
– Кто это сделал, подсудимый? Вы подделали отчетность или кто-то другой?
– Судите… – махнул рукой Патику. – Раз уж взялись за меня агенты по хлебу и по жене – судите!..
Сейчас, в раннее зимнее утро, старик Кирпидин все же чувствовал какое-то неясное торжество. Прежняя его супруга, Тасия, которую он по-настоящему любил, мыкалась теперь, на старости лет, одинокая и неприкаянная. Тогда она продала дом и восемь овечек, все, что осталось от покойных родителей, – и пошла за своим агентом, тем самым, который по-козлячьи прыгал через забор Патику в соседний огород. Того куда-то перевели, а она потянулась за ним, зачеркнув перед всем селом прежнюю жизнь, в которой не видела никакой радости. Наверно, Тасия полюбила его и хотела на новом месте слепить новое гнездышко, к тому же он как-никак был «государственный служащий», на твердой зарплате… И что из этого получилось?
Осенью того же сорок девятого пришла коллективизация, и вместе с ней исчезли все эти невзрачные маленькие чиновники, вроде агента по поставкам, которому стоило показаться в калитке, как у крестьянина начинали дрожать коленки: «Куда, черт возьми, запропастились эти квитанции? Сдал же все, как полагается, пшеницу, ячмень, кукурузу, шерсть, молоко, брынзу, яйца, фрукты…»
«Вот она, судьба наша, – думал Кирпидин, по-утиному, вразвалочку, шагая по дороге. – Носит тебя, Скридон, как сухой лист по речке, – то к берегу, то в глубинку… Бедная Тасия… – Но тут поднялось в нем что-то, к самому сердцу прихлынуло: – Да какая она бедная! Сама виновата, все ей мало, вот и драй теперь чужую посуду, убирай объедки. Может, поумнеешь…»
Кирпидин прибавил шагу и вдруг расплылся в улыбке – вспомнил одного старика из Будишоары, тот был старше Скридонаша, семьдесят уже стукнуло. Звали его Леон Китаног, а жена была еще моложе Рарицы, – несчастненькая, бездомная, занесло ее в эти края в голодный год. Люди говорили, уж очень она молода. Такая молодая, что и тридцати еще нет. И вот сошлись, и стали жить, а со стороны посмотреть – будто дед со своей внучкой.
И вот через год с лишним эта внучка взяла да отвалила деду парня. И вот Леон Китаног, говорили, как увидел сына – выскочил в коридор с простыней на голове, будто умом тронулся. В коридоре он стащил с головы простыню, и все увидели, что она окровавленная. «Откуда он ее снял?..» А тот кружил простыню над головой и носился с воплями по коридору: «Это мой! Это мой!.. Это мой!..» Потом, говорили, бросился во двор, выбежал на дорогу и помчался куда-то, размахивая перепачканной простыней и крича во всю мочь: «Это мой! Это мой!..»
Так он орал и несся по тракту, разделявшему село надвое, а люди, кто был у колодца, оглядывались, другие подходили к воротам, ошалело смотрели вслед. Дед вертел над головой простыню, как спортсмен-победитель свою майку, и бежал, задыхаясь: «Это мой! Это мой!», пока не запрудила дорогу мычащая скотина – пастух гнал в поле стадо.
Так вот, первый, с кем по-человечески заговорил этот беззубый папаша, был пастух. Тот тоже гаркнул как следует:
– Постой, дед! Постой, говорю, не дразни быка – набросится! Теленка потерял? Слыхал, по радио говорили. Приблудился к стаду какой-то…
– Тьфу ты, растудыть твою… Сам ты теленок, балда! У меня жена сына родила!!
Тут старик вдруг совсем ослабел, словно воздух из него – пшик! – и вышел.
– Ох, помоги, парень, сердце сейчас лопнет… Знаешь, это мой, клянусь, своими глазами видел! У него шпоры на пятках… Все, кто у меня был, все рожались со шпорами!
Конечно, к вечеру у пастуха была готова новая байка – про старика Китанога. Причем под собственной редакцией. А что? Времени у него в поле хоть отбавляй.
– Ну, Митрофан, денек сегодня – прямо кино! – рассказывал за ужином пастух хозяину, у которого столовался. – Иду я со своими коровами, а наперерез – привидение! Не поверишь: среди бела дня – белое привидение. А я тебе клянусь: неслось по воздуху, летело… Думаешь, летающая тарелка? Куда там! А коровы мычат!.. Батюшки, думаю, Христос – второе пришествие! Бац! – ему в ноги: с Христом, думаю, шутки плохи. Коровы в стороны отпрянули… Ух, перепугался я. А ты ставь, Митрофан, кувшин вина, сейчас обмочишься со смеху.
Появилось на столе вино, и пастух продолжает:
– И что, ты думаешь, за привидение оказалось? Бросился я наземь, поклоны отбиваю, смотрю – и простыня плюх рядом лепешкой!.. А из-под нее голос человеческий: «Пастух, кричит, я сына со шпорами родил!..» И кто, думаешь, это был?
Хозяин, понятное дело, пожимает плечами.
А пастух себе заливает:
– Главное, твоя корова умницей оказалась, Митрофан! Наклонилась над нами, обнюхала, а простыня-то в крови! Как заревела твоя Марцоля!.. Уже бросилась на нее рогами, подцепить, как голубец вилкой, – а из-под простыни еле-еле слышно сипит доходяга: «Это мой! Это мой! Потому что он со шпорами…» Так чей же голос, а?
Митрофан улыбался, а пастух:
– Давай еще кувшинчик, так просто не скажу…
…И вот Кирпидин шел, посмеиваясь: мол, я не из тех, кто с ума сходит от радости. Кто хочет, пусть посмотрит на меня – ну, что увидели? Разве я покажу этим дуракам, что на душе!..
Брел он, заглядывая в глаза прохожих, и все ждал – как поздороваются, что скажут? До сих пор с ним при встрече говорили, как с простым сторожем. Да он и был сторожем колхозных складов, и здоровались с ним из интереса к колхозному складу: «Подсолнечное масло не привезли еще?», «Не скажете, когда сахар будут давать?», «Баде Скридон, как там овощной ларек, не открыли?».
Теперь, конечно, что-то должно измениться, и Кирпидин сиял как новый пятак, гордо пыжился, представляя, как ответит, если поинтересуются, невзначай, мимоходом: «Да, иду вот взглянуть… Ты подумай, до чего мы с Рарицей дожили – постарели, поглупели и под старость, пожалуйста, – родили!..»
Однако никто что-то не спешил его поздравить. Прошли, болтая, две соседки, даже головы не повернули, а в спину он услышал насмешливый бабий хохоток. Выругался: «Чтоб вам провалиться, дуры стоеросовые!» – плюнул и тут же забыл о них.
Теперь он был занят другим: «Как же его назвать? Надо что-нибудь покрасивее… Назову Николаем. Так и отца звали покойного, земля ему пухом… Отдал меня за мешок муки Василию Туфану из Буды… Тяжелая была зима. И все-таки умерли бедные мои родители, не спасла их эта мука, так им на роду было написано. А теперь пусть мой сын носит его имя, и не оборвется ниточка, потянется к моим внукам. Николай… Ну да, и день святого Николая Угодника – это же был праздник нашей семьи. На венчании поп спросил у отца: „Какого святого выбираешь себе, христианин, чтоб опекал и охранял твой очаг?“ И отец с матерью взяли в покровители святого Николу. А теперь у тебя, Спиридон Николаевич, будет еще один Николай Спиридонович…»
– Драсьте, Николай Спиридонович! – сказал он вслух, словно сын его уже стал каким-нибудь чиновником из райцентра. – Драсьте, Николай Спиридонович… – повторил он и прислушался, как звучит. «Нет, черт подери, здорово звучит!»
…И вот он отряхивает снег на пороге роддома. Собственно, роддом – это маленький, в несколько комнат флигель во дворе больницы. Раньше здесь жил местный священник, батюшка Думитру. Стоит Кирпидин, а дальше ни шагу.
– Нельзя, – говорят. – Нет, даже в коридор нельзя.
– Что за порядки, девушка?
– Извините, по району ходит грипп, новый штамм, «азиатский», свирепствует. Что, не слыхали? Даже школа на карантине после каникул.
Э, попробуй поверни оглобли Скридону этими словечками – «грипп, карантин»… Медсестре – молоденькой девчонке, полгода как из училища, – стал надоедать старикан.
– Чего топтаться, не поняли, что ли? – Но, вспомнив, как учили на лекциях, повторяет сдержанно и вежливо – Дедуля, поймите… Или детей сроду не видели? Или вам двадцать лет? Я же сказала – ваша сноха ночью родила, еще не хватало вам занести ей грипп, азиатский…
– Ишь ты! – потешно всплеснул руками мош Скридон. – Азиатский я, говоришь, грипп, да? А вдруг я «чертово копыто», а? Доченька, несчастная ты моя, да хоть помнишь ты, на каком свете живешь? И какое сегодня число? Старый Новый год, милая. Поздравляю, век бы тебе жить да молодеть, цвести как маков цвет! Доложу, что здесь, в этом доме, попадья принимала меня как самого дорогого гостя. Я ей зубы золотые вставлял, чтоб могла укусить попа… – прошептал Скридонаш и подмигнул – Я же не к тебе в гости иду, к попадье… – и толкнул дверь плечом.
– Куда? Куда, дедусь! Сказано вам – грипп, карантин! – схватила его за руку сестричка. – Я сейчас главврача позову, стойте!..
Заворчала недовольно – невозможно работать с этим темным народом, никак не усвоят, сколько осложнений может дать один грипп, тем более азиатский.
– Предупреждаю, я пожалуюсь главврачу, и вас отсюда выставят! – упрямо держала осаду медсестра.
– Тише, деточка, на сосунков своих кричи, понятно? А дохтору передай, что бывший зэк из тюрьмы пришел. По делу пришел, жену навестить.
Дверь отворилась, и на улицу вышла женщина. Больничный халат еле сходился на ее огромном животе. Мош Скридон кинулся в раскрытую дверь.
Его Рарица минут пять как задремала, но, услышав возню на крыльце, испуганно вздрогнула: «Что там такое, Скридон? Какие еще тюрьмы и сосунки? Что случилось?»
Она потянула одеяло, прикрыть голое плечо, а старик Кирпидин запыхтел, как бодливый бычок, – ишь ты, эта соплячка приняла его за какого-то свекра или заботливого деда! Своими кругленькими глазками быстро обшарил комнату: «Где он? Где мой парень? Его зовут Николай!.. И я научу его хорошенько ругаться, а не только пеленки пачкать!..»
– Что за порядки тут у вас, а?! – Кирпидин, набычившись, оглядел палату.
Ну что, в самом деле, за порядок, если на пороге тебя хватают за руку и пугают главврачом, а здесь, смотри, – мать лежит, а ребенка нет. Зашла в палату та пузатая баба, что выходила на крыльцо, завозилась со своей постелью, рядом еще третья раскрытая постель – а там никого. Что это за роддом, если детей не видно?
Патику затопал к кровати Рарицы, опять беспокойно спросил:
– Где ребенок, фа, я тебя спрашиваю?! – и резко сдвинул шапку на затылок.
Рарица испуганно натянула одеяло – ругаться начнет? Или просто петушится, хорохорится? Скридонаш тоже недоумевает: что это с ней? Видно, из сил выбилась за ночь, тяжело пришлось…
– Там он, в той комнате… – сказала Рарица еле слышно.
Рукой показала на стенку и снова закуталась в одеяло, словно от озноба. Вдруг на соседней постели закопошилась огромная груда простыней вперемешку с халатами и тут же замерла – словно в глухой заводи оцепенела на гнезде дикая утка.
– Да ты садись, – измученно сказала Рарица. То ли объяснить хотела, то ли успокоить.
Видно, заведено у таких, как дед Скридонаш, – кого природа обделила: когда приходит нужда показать характер, глядишь, распушат шерсть и хвост, как кошка, нахохлятся по-петушиному. Попробуй подступись, тебе тут же в глотку вцепятся!
Рарица знала, если что придется не по нраву Скридону, начнет он ерепениться и пыхтеть, как звереныш в норе.
– Только покормить их дают, а потом опять уносят… Они там сами их пеленают, пока…
Мош Кирпидин цокнул языком.