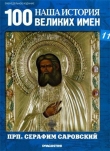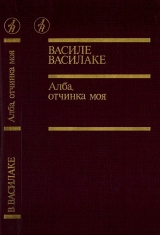
Текст книги "Алба, отчинка моя…"
Автор книги: Василе Василаке
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
Теперь мучается Серафим, открывает, а тут вдруг испуганно вскрикивает жена:
– Что ты делаешь, Серафим! Посмотри, куда мы попали!
Смотрит Серафим удивленно: ворота его, дом его, двор его, тыквы на месте, а между ними человек копает яму…
Входят они и видят деда Захарию.
– Жду, жду, а вас нет и нет, и дверь открыта. Вот принес вам два черенка черешен. Думал, пока вы от своего дела придете, я их посажу. Ох, видно, старею, за ум взялся, ей-богу.
Весь этот вечер они провели вместе со старым скрипачом. Вечер был ясный, лунный, такой же, как вчера. И были рады молодые так же, как и вчера, а дед Захария разговорчив. И он им рассказал, что всю свою жизнь сам, лично был любовником скрипки, да вот ведь что: иногда не мешает иметь рядом существо живое, а не только холодное. Приложив к лицу скрипку, он горевал и жалел, почему не взял себе старуху в молодости, тогда теперь были бы у него внуки. И опять играл Замфире и Серафиму и, пока играл, рассказывал им одну сказку – без невест, а только с серым быком и красным петухом – и просил молодых, ради бога, если случится им иметь сыновей, чтоб рассказали им эту сказку и обязательно напомнили, что сочинил ее дед Захария за всю свою жизнь, глядя на этот беспокойный мир и играя ему на скрипке…
Вот эта сказка.
Когда мой отец собирался стать женихом и пойти к моей маме, разбудил он меня ни свет ни заря и говорит: «Поди к источнику, принеси водички, плеснуть в глаза».
Спрыгнул я в сени, схватил из-за дверей решето и бегу бегом. Добрался я, еле-еле душа в теле, набираю решето воды, – и опять домой, с ленцой.
А там, глянь, на вязе черт знает какие птенцы пищат. Ставлю решето на место и лезу к дуплу.
Сую руку – не проходит, сую голову – проходит! Вытаскиваю птенцов, хочу вытащить голову, а она не пролезает. Дергаю в одну сторону, в другую – ни в какую. Тогда как рвану вперед и – видели вы такое – падаю на землю!
От стольких мук и мучений жажда меня одолела. Бегу бегом к решету, а решето катится.
Я за ним – оно к источнику.
Дошли мы туда, а там лед как камень.
Ударил каблуком – лед кремневый. Увидев это, беру голову и давай, и давай – лед и разбился.
Наполняю я голову и – губами к губам. Пью-пью – не напьюсь.
Пошел я опять к дому.
Напротив вяза гляжу – забыл свою голову. Где, как не у источника?
Иду обратно – вот и она. Хочу руками схватить, да куда там: так и бежит, так и несется.
Я за ней, она от меня.
Увидел коня, вспрыгнул – не догнать.
Вижу гончую, науськиваю – не поймать.
Беру винтовку, стреляю – и тут мимо.
Вот с тех пор ум у меня разошелся, страдаю, мучаюсь…
15
То ли в среду, то ли в пятницу, то ли в другой день недели, только как наступает утро, так Серафим ждет, чтоб его разбудили марши. Еще не открыл глаза, а уже думает: «А все-таки здорово, хорошо… Вот сейчас встану и – к этой скотине!»
А Замфира возится у плиты, эге, давно уже: еще и день не занимался… Подумала, наверно, она: «Хозяйка дом содержит, а хозяин – дорогу». Вот так, наверно, себе сказала, когда встала, а теперь уже сердце ее больше не терпит:
– Серафим! Слышишь, Серафим! Думаешь ты об этой скотине или нет?
– Сейчас, сейчас… Почему сегодня нет музыки, жена?
То ли сегодня понедельник, то ли суббота, Серафим же, как обычно, ждет маршей духового оркестра, а тут на тебе пожалуйста, в этот час объявление:
– Говорит местный радиоузел. Доброе утро, товарищи!
И кто бы вы думали у микрофона? Ангел… Ах, какой голос у него по утрам: чистый, прозрачный, только небо такое бывает после дождя.
– Итак, что я хотел коротко вам сказать. У меня просьба ко всем моим хозяевам. Покорно вас прошу, сегодня не посылайте со скотиной детей, а приходите лично сами, у нас будет коротенький разговор. Есть у меня к вам один вопрос… И еще такое известие должен вам сообщить: сегодня вашу скотину будут вакцинировать. Как вы думаете, кому ее держать? Уважаемая Лина Ивановна, она женщина-девушка, так надо ей помочь!
И последнее: у кого есть гуси, обрежьте им крылья, а то, сволочи, разжирели и, когда летают, цепляются за провода, вчера чуть пожар не наделали… Теперь передаю микрофон врачу…
Что-то щелкнуло, загудело, потом мягкий женский голос заговорил с укором:
– Уважаемые матери, бабушки и отцы. Говорит детский врач местной больницы. Сколько раз мы вам напоминали: приходите, товарищи, и получайте бесплатно молоко и сладкий кефир для ваших детей. Молочные продукты очень полезны для развития детского организма…
Врач долго еще говорила, но Замфира и Серафим больше не слушали, потому что детей у них не было, а было у них другое. Например, тот же бычок, которого надо было почистить, накормить, напоить или хоть погнать в стадо пораньше.
– Опять опоздаешь, Серафим, – по-матерински увещевала жена, – я же вижу, опоздаешь. Вместо того, чтобы быстрее идти, чтобы этот пастух потом пальцем в тебя не тыкал, крутишься со щеткой, с гребнем, будто к фотографу его ведешь, ей-богу!
И не расслышала, что ей ответил Серафим.
– Ты что сказал? – спросила жена.
– Я не тебе говорю, я с ним говорю… Ты только посмотри, как он запачкался.
– Ох… – улыбнулась жена. – Пастух тебе не сказал, когда будет у нас на постое?
– Еще нет, – выглянул Серафим из-за Белого. – А что?
– М-да… Попроси его, может, день-два подождет. У нас мука кончилась, на мельницу надо сходить.
– Ничего, обождет. Мы же свои… – махнул рукой Серафим.
– Ну и хорошо… Только почему он… Почему по всему селу болтает? Ты с ним не сцепился в прошлый раз?
– Много лет ему здоровья, Замфира… – И Серафим во все глаза глядит на жену.
– Ну, что ты во мне увидел? – И Замфира тоже глядит, глядит мужу в глаза, а они как омуты глубокие, мутные и холодные…
– Смотрю я, Замфира, и вижу, да не очень-то хорошо: что у тебя болит, если Ангел про меня говорит?
– Или я тебе не жена?
– Так ведь Ангел со мной дело имеет. А у мужчины с мужчиной чего не бывает…
– Вот тебе и на! Как будто у мужчины с женщиной ничего быть не может!
– Ладно, женушка… – нахлобучил Серафим шапку на лоб.
– А ты что думал, я глупая?!
– М-да… – И хотел еще что-то сказать, а тут, откуда ни возьмись, опять щелкнул репродуктор и снова послышался торопливый голос Ангела:
– Многоуважаемая бабушка Сафта! Ох, не успею я к вам на завтрак… Будьте добры, принесите, пожалуйста, что бог вам дал, к Трем Колодцам, а то меня там люди ждут. Хоть кусок хлеба да луковицу, конечно, если вы так добры…
Услыхал это Серафим и заспешил, говоря себе: «Ну спешу, ну иду! Пусть счастлив будет этот… как же звали этого немца, господи?»
У Трех Колодцев вакцинация вовсю шла. Хозяева держали, Лина Ивановна шприцем колола, а скотина терпела. Вот и Серафим со своим Белым, и только подошел, Лина Ивановна тут же шприцем блеснула – Белый не успел дернуться, а она уже вытирает иглу, говоря:
– Молодец… Красивый у вас бычок!
А тут Серафим и думает про себя: «Правильно, Лина Ивановна… Что правда, то не ложь, это так, точно… А вы и добрая, и умная, и красивая».
А в сторонке Ангел сидит на колодезном срубе и газету читает. Говорит ему тогда Серафим:
– Порядок, Ангел. Вот справка, вот бычок, вот готова и вакцина… У тебя есть ко мне еще что-нибудь?
– Постой, Серафим, ты куда?
– Оф, в поле, бре. Жена меня ждет. Завтрак ей понесу.
Смеется Ангел и говорит ему:
– Эхе, Серафим, а что, если мы поменяемся? Я пойду к Замфире, завтрак ей принесу, а ты за меня со стадом останешься? – И тут же кричит: – Эгей, братья, не расходитесь! Разговор ведь будет!
А какой-то инвалид на деревяшке ему говорит тогда:
– Может, отпустишь, Ангел? А то у меня комиссия в военкомате.
– Здесь дела поважнее, – говорит Ангел и встает на срубе и обращается ко всем: – Товарищи! Наш договор аннулирован.
– Что он сказал, милая?
– А что с ним случилось, Ангел?
– Как это так – нулирован?
– Нуль!
– Понятно, да не совсем.
– Еще раз скажи, Ангел.
Голоса один громче другого.
А тут, откуда ни возьмись, и бабушка Сафта с едой. Запыхалась.
– На, Ангелаш, вот. Ох, спасибо внучке, собираю я хворост в саду, вдруг слышу: «Бабушка, тебя Ангел по радио вызывает». А я-то зарезала цыпленка, а я-то тебя ждала!
– Хорошо, хорошо, спасибо! Еще подожди немного, – говорит Ангел и берет у нее завтрак.
А остальные волнуются, спрашивают:
– Чего мы ждем?
– Да говори ты в конце концов.
А бедный Ангел Фарфурел – как ему говорить, когда не кончила еще бабушка Сафта:
– Ангелаш, миленький, там я тебе брынзы положила кусок, яички, луковицу… Только прошу тебя, сохрани полотенце…
Махнул тогда Ангел рукой и начал снова:
– Я аннулирую договор с вами, товарищи! По всем советским законам трудящийся имеет право на один выходной в неделю, а у меня его нет!
– Это откуда, бре?
– Когда, как, что такое?
– Христос с тобой, христианин!
И тогда Ангел спросил:
– А вы читать умеете? – и показал на плакат, один из тех, какие бывают на сельских дорогах. На этом плакате было написано: «Каждый гражданин СССР имеет право на труд, на отдых и на образование».
– И что ты хочешь этим сказать? – мягко спросил инвалид.
– Бедная скотина, – запричитала какая-то старуха, – что же ей делать по воскресеньям?
– У тебя совесть есть, Ангел? – накинулся на него инвалид. – Что ты о животном знаешь? Почему стал пастухом? Или у тебя совсем не болит сердце?
– Пожалуйста, без сантиментов, – отрезал Ангел. – Теперь я спрашиваю: а где ваша совесть, а? Вам скотину жалко, а человека совсем не жалко? – Теперь сам взял он в оборот инвалида.
И первая сжалилась бабушка Сафта и сказала:
– А может, и вправду, хозяева… Оставим-ка человеку один день, пусть отдыхает, ей-богу. Может, у него дело какое? Может, в церковь хочет пойти или еще что?
– А я и завтра не пойду со стадом, – разозлился тогда пастух.
– Как это так?! – поразилась старуха.
– Вот так, – говорит ей Ангел, – я вам с семи лет пастух… Помнишь, бабушка Сафта, как ты меня одевала в свою рваную кофту, помнишь или нет? А почему ты ни разу мне не сказала: «Ангелаш, а ну-ка отдохни денек, я сама пойду со стадом». Даже болеть у меня права не было! Сколько лет, сколько недель!.. Теперь могу гулять до самой зимы…
Онемели все. Молчат и думают примерно так: «Вот он какой человек – говорит с тобой, здоровается с тобой и ты с ним здороваешься, а что у него на уме, разве знаешь?»
– Да опомнись, что ты говоришь, – говорит инвалид. – А что ты делаешь всю зиму, не отдыхаешь?
А Ангел будто не слышит. Только губы шевелятся, словно ворожит, словно считает, и вдруг как закричит:
– Не мешайте мне! – И опять будто считает и говорит: – Постойте, постойте, выходит, вы мне должны не только за этот год, но и за следующий…
Некоторые уже и крестятся, а инвалид, мужик покрепче, говорит:
– А мы на тебя в суд подадим и посмотрим, что скажет закон. Потому что у нас договор есть!
– Ага, вот оно что! Договор! Значит, подадите в суд. Законники! Что ж, посмотрим, что скажет суд. Вот Серафим здесь. Сколько мне заплатишь за своего бычка, чтобы пасти его до первого снега?
– М-да… – говорит Серафим. – А сколько платят люди?
– Вы слышали? Сейчас я вам скажу: три рубля. А он эти деньги зарабатывает в колхозе за три-четыре дня! Выходит, я должен целую осень потерять с его бычком и заработать столько, сколько он за день-два зарабатывает? Теперь я вас спрашиваю, кто он, в конце концов? Капиталист. Серафим – капиталист! А кто я по отношению к нему?.. Теперь судите нас. Вот так.
И тогда смягчился инвалид. Говорит:
– Ну что ж… Закон – он есть закон, и пусть тогда будет по закону. Люди добрые, а вы что скажете?..
А эти переминаются с ноги на ногу, как лошади под дождем: сказать есть что, да как, если в голове сплошной гул? Мысли, слова… эге, да как быть с этим пастухом?
«Неужто он выпил натощак?»
«Или плохо спал этой ночью?»
«Вот оно как, когда книги читаешь…»
«Вот оно что, если целыми днями ничего не делаешь».
«Ох, и темные мы…»
Думают они так про себя, а тут Ангел им прямо в лицо:
– Люди добрые, вы же рабы своих прожорливых скотин! Зачем они вам, раз вы им не нужны, так же как мне… К примеру, этот Серафим… А ну, замолчи, баба Сафта!..
– А я ничего и не сказала… я так, про себя… Твоя правда, Ангел…
– Вот на тебе полотенце, – протянул ей Ангел узелок с завтраком. – Кому передать кнут?
Ангел спустился со сруба, а они молчат все. Да и нечего сказать: солнце высоко-высоко. День опять пропал.
«Пошел ты к черту», – чешет себе инвалид затылок. И вдруг в этой тишине бабка Сафта голос подает:
– Возьми-ка ты, Ангел, себе это полотенце на помин моей души. Будешь утираться по утрам и вспоминать бабушку Сафту. Что делать, тогда я тебя обидела, а теперь прощения прошу.
А солнце высоко-высоко, эх, сколько еще до завтрашнего утра! И стадо голодное, и все без дела стоят, а делать что-нибудь надо или нет? И говорит тогда инвалид:
– Что делать, братья? Будем что-нибудь делать или не будем? Пусть кто-нибудь из нас попасет, а?
– По очереди, милый. Как бывало раньше, – говорит и бабушка Сафта.
– Ох, я и сам бы пошел, если б не эта комиссия, – говорит инвалид.
А там и бабушка Сафта:
– Ох, и я бы попасла, люди добрые, да глину приготовила, солнце ее высушит, пропадет она…
У одного дело, у другого – другое, у каждого дело свое да еще его матери…
Видит все это Серафим, и говорит и он:
– Сегодня никак не могу, люди добрые! У меня жена голодная в поле. Должен ей обед отнести.
До чего же все обрадовались!
– Ой, давай я сбегаю или внучку пошлю, – предлагает бабушка Сафта.
– Давай я пошлю тещу! – говорит инвалид.
Мнет Серафим шапку в руках и думает: «До чего добры наши люди!.. Ну, что им теперь сказать, что им теперь делать!» И снова говорит:
– Люди добрые, ведь сколько дней я не работаю в колхозе. А если обидится на меня председатель?
Стоит в сторонке Ангел и на всех на них глядит. И говорит себе: «Дураками были, дураками и остались. Так оно и есть!»
А инвалид успокаивает Серафима:
– Мэй, до чего ты молод еще, парень!.. Ну, давай, сделай нам одолжение…
Подходит тогда к Серафиму Ангел и говорит!
– Вот ты какой, Серафим! Опять ты мне переходишь дорогу… На кнут, а то потом опять скажешь… м-да, только не сердись.
Смотрит он, человек, на кнут и говорит:
– Ох, и сердце же у тебя, Ангел, не понимаю его. Ну, чего ты сердишься?
– Да не будь ты ребенком, бре… Я пошутил: какая вражда может быть между нами – оба сироты, одногодки, оба пастухи, – махнул рукой да и пошел.
Пошел Ангел прямо в буфет и говорит:
– Миша, налей-ка мне пятьдесят, а потом еще сто.
– Это по какому случаю?
– Кончил одну службу, начинаю другую. Скажи-ка ты мне, какая лучше: одна тебя кормит, другая одевает…
– Ни одна, – говорит Миша. – Так я думаю, а ты что скажешь?
– А я не понимаю.
– Видишь ли, если ты другими не помыкаешь, другие тобой помыкают, и все один черт!
– Значит, зря ты стучишь этими костяшками, если не можешь отличить пастуха от работника почты!
– Ах, значит, почтальон! – воскликнул Миша. – Ну, это дело другое… Только скажи мне: неужто такая у тебя большая тоска по шинели и портфелю?
– Не тоска, – ответил ему Ангел, – а интерес.
– Э, брось! Интерес для человека то же, что чалма для головы, знаем, – подмигнул ему Миша и протянул пятьдесят граммов. – Колхоз дает тебе трудодни, а почта – зарплату. И на солнце не сгоришь, – знаем, какие у служащих дела…
А этот, как его, Ангел, вместо того, чтобы взять стакан, посмотрел вот так, долго, на буфетчика, который стоял перед ним в белом колпаке, да и как направит на него пистолет, да и заорет ни с того ни с сего:
– Деньги или жизнь!
И что-то треснуло и заиграло: «Пусть всегда будет солнце!..»
– Испугался? – спросил Ангел Мишу.
– Да что ты? – сказал Миша и налил и себе пятьдесят. – Будь здоров.
– Дай бог, не последняя, – и вышел.
И когда ехал он на своем мотовело к Трем Колодцам, опять увидел Серафима все на том же месте.
– Ты чего ждешь, бре?
– Ангелаш, брат ты мой, погляди, ведь ты их всех знаешь, – просит Серафим, – ну-ка, погляди, ну-ка, посчитай, никто не опоздал со скотиной?..
– Ох, и дурак же ты! – восклицает тот. – Ты уж меня прости, да как по-другому скажешь?
Тогда Серафим глядит на него искоса своими добрыми глазами и спрашивает:
– Слушай, Ангел, скажи, почему ты меня ненавидишь?
– Потому что ты глуп, вот почему! А я умен.
– Теперь я тебя прошу как бога: объясни мне, пожалуйста, что такое – глуп?..
– Если ты не умеешь отличить бычка от телки, как это назвать?
– А если умею?
– Значит, ты еще глупее! Прости меня, бре!.. Если хочешь знать, я по запаху их различаю. – И торопясь заводит мотор. – Как поживает Замфира?
– Э-э, голодная она… Должен был догнать ее с обедом, а вот все здесь торчу.
– Дай-ка мне, все равно туда еду. Концерт будет… Кого ждешь от нее? Мальчика, девочку?
– Эх, – нахлобучил Серафим шапку на голову. – Кого захочет. На то она и женщина.
– Что ж, кто будет, тот и будет! Только очень тебя прошу, назови его моим именем – Ангелом или Ангелиной. – И поехал.
– Ангел! – крикнул Серафим. – Подожди! Где лучше пасти стадо? Куда повести его, Ангел?
– К себе домой! – рассмеялся тот, набирая скорость.
16
Как бы ни любила тебя женщина, в один прекрасный день все же спросит себя: «А какие они, другие мужчины? А если все они не похожи на моего, что я тогда наделала? Ибо счастье, вижу я, вот оно, на ладони, – неужели это и есть мое?!»
Бедная Замфира с самого утра чувствовала себя не в своей тарелке: «Неужели и я обманула себя, как все люди себя обманывают?.. Но что же говорят люди?»
Так что, забравшись в машину, молчала она, ибо знала, что так оно лучше молодой жене, которая пришла из чужого села: молчать, слушать, что говорят люди, чтоб потом и самой было что сказать.
– Доброе утро, – поздоровалась она первая.
– Доброе утро, – ответили кому как ответилось.
Но мысли их чувствовала – на то она и женщина.
«Это чья же?» – спрашивали себя кумушки.
«Да Поноарэ жена…» – отвечали они же.
«А-а-а, вон оно что!» – Они же и восклицали.
Прошла мирная, сонная ночь, и соседки проснулись и встали, и забот у них было полон рот, всяких забот, таких-сяких, пестрых-рябых, ибо теперь чего не хочешь, только того нет у тебя.
«Знаешь, кума, купила себе на платье, а у кого шить, в толк не возьму!»
«А у меня черт носит курицу черт знает где, – слышу, кудахчет, а яичек не видно».
«А мой опять пропил аванс со своей стервой, но ничего, я еще с ней поздороваюсь».
И краешком глаза поглядывали на Замфиру:
«А знаешь, она чистенькая…»
И спрашивали ее:
– Скажи-ка, Замфира, где ты нашла этот ситец? Очень уж он глаз веселит.
– И кто пошил, уж очень тебе к лицу?
– А где Серафим сегодня? А то я его давно, не помню уж сколько, не видела.
– А хорошо вы сделали, что сошлись, одному-то трудно…
– Уж конечно… Вот как я со своим: спать под одним одеялом не могу, а как проснусь, бегу к нему – очень уж холодно…
А в сторону, таясь, говорили:
– Знаешь, она даже красивенькая.
– И нарядненькая…
– Я бы этого не сказала, но разумная – это точно!
– А вы что думали, Серафим дурак?.. Вот люди-то, они тебе наговорят, а он знает, что делает!.. Бывает жег на соседке женишься, думаешь, ее знаешь, а она, оказывается, черт с крылышками.
– Да поможет им бог, – заключали самые старые-бывалые, ибо знали, что семейная жизнь начинается с иголки и держится на «добром вечере», если сказано по-человечески, а если рвется, тогда уж связывай только так: «Ох», «Я руки на себя наложу», «Ну, убей меня, муж, жена…», «Я больше не буду», «Будто черт меня дернул»…

В тот день собирали яблоки в долине Валя Сакэ. Долина эта, длинная и ровная, тянулась, сколько глазам видно, а где не видно, были овраги и обрывы.
Женщины сидели на деревьях и, словно сговорились, взяли да надели белые платки, а ветер как ветер – эти платки полоскал. Казалось, будто стая лебедей отдыхает в саду, на солнце, и хоть говорят, что лебеди не садятся на деревья, но если это красиво, попробуй сказать: нет!
Под деревьями паслись свиньи.
Свиньи – и они были белые, сытые, потому что недалеко было озеро и ферма. Молодой свинарь подгонял их к недозрелым и гнилым яблокам, да только свиньи эти балованные, хрюкали и поднимали морды вверх, ожидая, что, может, перепадут им яблоки спелые, душистые.
А свинарь, по молодости своей, и он:
Колышет ветер подолы
Тралала-тралала-тралала…
Икры белые, голые,
Тралала-тралала-тралала!
И колхозницы тоже пели, а изредка бросали в него яблоками на потеху свиньям:
Я б хотела муженька,
Вот такого простака!
Только Замфира не пела да еще две старушки. Старухи эти, само собой, были безголосые, и одна сказала другой:
– Оф, правда, кума?..
– Что?
– Будто вчера еще были и мы молоды, и вот на тебе…
– Да-а… А что делать?
Солнце стояло над головой, и полагалось немного отдыха, а тут откуда ни возьмись Ангел.
– Помогай бог кому можешь, а в особенности женщинам! – смеется, как всегда, весело. – А ну бросайте все и давайте на концерт. Из столицы балет приехал, – объявляет он.
И видит он Замфиру и говорит:
– Добрый день, Замфирушка, ты почему не спускаешься? Посмотри и ты «На озере… лебедей».
Начали все сходиться к поляне. А поляна – будто бог специально создал ее для балета. Холм ее окружает зеленой подковой, амфитеатра лучше и не придумаешь, внизу она пологая, а посредине три машины сомкнулись бортами: на одной пианино, на двух других сцена. И не успели все это разглядеть, как уже и началось.
Старый музыкант с копной седых волос волнуется, вздрагивает у пианино, бьет-дробит его, а артисты как смычки, не хватает им скрипки. И все они – музыканты, артисты, небо, солнце и пруд в долине – ничего другого не делают, как исполняют адажио из «Лебединого озера».
Только та старушка, которая не умеет петь, занимается критикой:
– Бедные! Смотрю я, милая, у этих артистов вроде и костей нет…
– А почему думаешь, что нет?
– Георге, а твоя теща так умеет?
Шутки шутками, но белое солнце, оранжевое небо, голубая долина, озеро, ясное, как душа, и тело, размякшее от работы, делают свое дело, гонят по жилам синюю кровь.
– Скажи-ка, Замфира…
И там, в сторонке, Ангел тянет женщину за руку.
– Что было сказать, давно уже сказано.
Но Ангел, он Ангелом и остается.
– Скажи что-нибудь, Замфира.
– Оставь меня!
– А я не хочу.
– Люди смотрят.
– А я только тебя вижу… Что Серафим теперь говорит?
– Чтоб ты руки не распускал.
– Глуп твой Серафим…
– Если ты так умен…
– А разве я тебе не говорил, чтоб шла к маме Надежде!.. Почему не сделала, как я говорил?
– Не говори со мной!
– Теперь мы были бы вместе.
– Я и так не одна!
– Да подумала ли ты, кто он?
Так они сидели и разговаривали и глядели на концерт, и долина Валя Сакэ была такая же, как прошлым летом, и небо такое же ясное, как прошлой осенью, а село его лежало за этой же горой, э-ге-ге! Он еще не появился на свет, а ее село вон за тем холмом, – э-ге-ге, сколько любви отцвело в этой долине, когда их еще не было!
Но если случилось то, что случается и в начале и в конце, значит, это случилось на самом деле, ибо гора с горой сходится, не то что человек с человеком!..
И говорит тогда Ангел:
– Хотел я с тобой поговорить.
– Да я не могу, не могу!
– Скажи ты мне, он тебя целует?
Молчит Замфира… Поникла Замфира, вот-вот крикнет: «Не мучь меня, Ангел!»
Слезами наполнились ее глаза.
– А если я к нему привыкла, если он добрый и мне муж, тогда что ты скажешь?
И вздрогнул Ангел, и больше не видно было людей и концерта не было слышно, и оттолкнул он ее от себя, чтоб ее не видеть, чтоб ее не слышать, – ее, Замфиру, и лег лицом кверху, к небу, руки под голову.
– Наделаю я беду…
– Зачем, не надо, не надо, – наклонилась над ним Замфира.
И тогда он, решив оставить ее навеки, взял ее лицо, приник к губам и засосал больно, как из горлышка бутылки яд.
Концерт еще не кончился, но всем уже было не до него, потому что даже старенький музыкант успокоился и теперь смотрел на Замфиру и на Ангела, и сам Зигфрид-принц, и сама Лебедь-царевна по имени Одетта-Одиллия тоже застыли, как их застали время и музыка, и тоже не отрывали от них глаз.
– А теперь пошла ты прочь, девка, к своему Серафиму, чтоб больше я тебя не видел.
И когда Замфира вырвалась и огляделась вокруг, никто уже на нее не смотрел… Шел концерт, колхозники глядели и слушали, танцевали принц с принцессой, и солнца много было вокруг, и жарко, и зелень блестела, как озеро, и ветер как ветер полоскал белые-белые платки женщин.
Одна лишь девчонка, словно детство, так бежала, так бежала к Замфире.
– Леля, беги, беги, у вас беда дома!
………………………………………………………………
Взял он, Серафим, и погнал стадо.
Идет он так по дороге, идет, а там глянь – навстречу дед Захария, веселенький, в хорошем настроении, со своей белой котомкой за плечами и бутылкой водки в руке.
– Ищу, с кем ее распечатать… – смеется старик. – Думаешь, если уезжаю, то ни с кем уж и не попрощаюсь? В какую сторону? – спрашивает старик, словно стада совсем и нет.
– Разве не видите? Нас бросил пастух…
– Тогда я пойду с тобой… Земли у меня не было, но поля наши все равно были мне любы. Дай-ка я еще раз на них посмотрю.
Идут они так, идут, а думаете, Серафиму есть когда разговаривать? Скотина голодная, скотина ненасытная. А тут то фасоль, то виноград, то какая-нибудь кукуруза… И больше всех козе бабки Сафты надо.
– Да что ты никак не уймешься? – удивляется дед Захария.
– Разве не видите? – И Серафим опять бежит за козою, ибо как раз в этот миг она, проклятая, перепрыгнула через какой-то плетень и вот уже в чьем-то дворе…
– Оставь ты ее к лешему, посмотришь, что будет! – смеется Захария.
– Ох, дед, разве вы не знаете крестьянина?.. Хребет ей переломит, кости ей сгрызет.
– Да пусть сгрызет! Работа ихняя, скотина ихняя…
– Собственность… эта… как ее?
– Анархистическая, – смеется Захария и снимает ремень. – Иди привяжи ее…
Так пришли они в поле на пастбище. А там, глянь, едет к ним верховой – сторож Костаке Георгицэ, летит словно вихрь.
– Вы что, с ума сошли? Чего вам здесь надо?
– То есть как? – недоумевает Серафим. – Не видишь разве, мы со стадом?
– Э-э, гоните его отсюда быстрей, мы пастбище ядом посыпали. По радио же было сказано – борьба с грызунами…
– Как же это мы не расслышали? – сомневается Серафим.
– Так Ангел знает. Он договорился с правлением совхоза. Где он?
– Где он! – плюется дед Захария. – Что, у нас на шее бинокль, как у тебя?
Лишь теперь заметил Серафим, что у сторожа и ружье есть и бинокль и сам в седле – словно воин из сказки, только булавы не хватает.
– Ох, дед, хорошо сейчас сторожу, – вздыхает Серафим. – Хочешь – спишь, хочешь – работаешь.
– Хм, а как, скажи? Разве не видишь – он все время верхом…
Так дошли они до совхозного пастбища. Раскупорили бутылку, сели подкрепиться.
– Эй, бродяги, вы откуда? – кричат за их спиной два сторожа.
– Местные мы, отсюда… Колхозники.
– Ах, вот оно что? А мы, знайте, совхозники. Ну-ка, пошли в дирекцию.
– Мы же пастухи, поглядите, скотина голодная, – окончательно сник Серафим.
– Хе-хе, вы еще и со скотиной пожаловали! Вдвойне оштрафуем!
– Так ведь прежний пастух договорился. Еще вчера…
– Тогда, хе-хе, втройне оштрафуем, потому что еще и врете.
Видит все это Захария и, будучи хитрее, вмешивается в разговор:
– Зачем столько слов, если бутылка еще полна?
Тот сторож, что помоложе, не выдерживает:
– Вижу я, дяденька, вам прямо под суд хочется.
Встает тогда Серафим, смотрит направо-налево, смотрит вблизь, смотрит вдаль: в долине пашут трактора, на пригорке комбайны, сеялки, веялки, даже суслику негде зарыться в норку. И говорит он сторожам:
– Что же мне делать с этим бычком?
Вытаращили на него глаза сторожа: «Что он, ненормальный или притворяется?!»
– Где ты быка видишь, христианин? – спрашивают оба.
– Да вот же, вот… – И только обернулся, чтобы его показать, глянь, а его нету. – Тьфу! – сокрушается Серафим. – Где же он? Ай-яй-яй! Уже в лес пошел.
Взглянули еще разок сторожа на них и махнули рукой: «Оставим-ка их с богом… Ходят двое с одной козой, а видят стадо. Ну, как их после этого назовешь, да простит нас бог!»
И, решив так, не бьют их, не пугают, не ругают, а по-хорошему их прогоняют…
А лес манит их рукой, приглашает: «Идите, пожалуйста, сюда, здесь холодок, здесь зелень!»
И только вошли они в лес, а лесник тут как тут перед ними вырос.
– Думаете, я за вами не слежу? Кто вам разрешил сюда заходить?
Садится тогда Серафим на траву, а в голове молнией: «М-да, лес-то он лес, а думаешь, у него глаз нету?»
Ну, а Захария, тот не растерялся:
– Садись-ка ты, Анисим, рядышком, ведь мы в лесу, и никто нас не видит! Какую «монополь» делают эти русские, дай им бог здоровья! – И опять вынимает бутылку и хочет ее раскупорить. – Ну, попробуй «Казбек»… – и протягивает пачку леснику.
Видит лесник, что люди эти с добрым сердцем, так зачем ему злить их напрасно?
– А где же ваш Ангел? – смягчается он.
– Ох, бросил он нас, – говорит с горечью Серафим.
Повеселел лесник.
– Хе-хе, пастух бросил, – это еще что! Меня жена пятый раз бросает!
– Ничего себе, – говорит Захария, а тут по тропинке бежит к ним мальчишка да и кричит:
– Татунь, идем быстрее, начальник из лесхоза приехал и мать наша с ним!
Как будто обжегся лесник, вскочил, замахал руками:
– Братцы, я вас не видел! Ну-ка, марш отсюда…
А Серафим – что ему делать? – просит:
– Может, спрячете нас в чаще, бадя?
– И речи не может быть… Идите, лучше уж приходите, как свечереет.
Куда же им идти дальше? Пошли в овраг. У каждого села есть хоть один овраг, а в Серафимовом селе овраг был большой-большой. Когда был еще маленьким, часто думал Серафим: «Запрудить бы его с одного конца и наполнить бы его водой, как бы купались здесь люди! И сколько бы рыбы наловили! Жили бы и купались только».
Но теперь здесь, в этом овраге, делали саман, трепали шерсть, белили полотно. Согнал он сюда стадо, а скотина, если голодная, думаете, она угомонится?
– Ой, Серафимаш, разве ты не знаешь, что за птицей скотина не пасется, – укоряет его старуха, подгоняя колхозных гусят.
Отогнал он стадо повыше, а тут из кучи глины выходит один, с железными вилами:
– Эй ты, пастух, сейчас я тебе покажу! Не видишь – кирпичи? Или думаешь, если у тебя дом есть, так другим его не надо?
Поднимается он со стадом еще выше и вдруг слышит:
– Ай-яй-яй, на помощь!
Бежит туда Серафим, и, думаете, что он видит? Стая девчат, голые-голенькие, только в рубашках, сгрудились перед стадом. А что им делать: повсюду полотно, полотно, белое-беленое. И все расстелено под солнцем…
– Ну, Серафим, неужели тебе не жалко этой белизны? Ну, хоть наши руки пожалей, добрый ты человек! Уж мы белили, белили… Ну?
И тогда снова кидает Серафим взгляд на поля – а там как вчера, как завтра, как сегодня днем: трактора в гору, трактора под гору, а на ровном месте машины, комбайны и, куда ни глянешь, столбы да провода! А сверху с самолета опрыскивают то сад, то кукурузу, то бахчу, то виноград, и гудят, и тарахтят – куда же стаду податься?