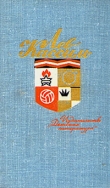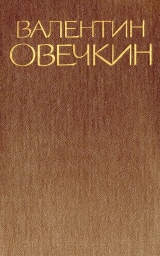
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Валентин Овечкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
– Вам, гражданин, я вижу, хуже будет жить, когда кончится война.
– Почему? – поднял голову пассажир.
– Отпадет ваша поговорка. Потеряете почву под ногами.
Упершись в края полок, Спивак спрыгнул вниз. Сесть было негде. Женщины подвинулись, уступая ему место. Капитан присел на край старухиного фанерного чемодана, поставленного на попа в проходе у столика.
– Что это у вас, молодой человек, за выражение: «Война, все равно война!» – приступил Спивак к пассажиру. – Только и слышно. Я засек: за час три раза сказали. Если посчитать, что вы восемь часов спите, а шестнадцать на ногах, – сорок восемь раз в день повторяете эту глупость. В месяц – тысячу четыреста сорок раз.
Парень в шляпе заметно растерялся перед внезапно спрыгнувшим сверху, будто с неба свалившимся капитаном с двумя орденами, с сединой в коротко остриженных волосах и с сердитыми сверлящими глазами на худощавом желтоватом лице. В проходе показались головы пассажиров из соседних купе, услышавших завязку интересного разговора.
– Что оно означает, это выражение? – продолжал Спивак, упершись взглядом в переносицу парня, – «Война – все равно». Почему все равно? Кому все равно? Как это понимать – конец, что ли?.. Мой братишка мог сказать – все равно погибать, когда не осталось ни одной ленты и пехота не подошла, а немцы уже вот они, ползут обратно в свои окопы, за пулемет хватают. «Погибать, так с музыкой!» – и кинул гранату в ящик с минами. А к чему ваше выражение относится? Война! Вы эту войну пережили, выстрадали? В мутной воде рыбку ловите? Тоже, видно, по недостатку мужчин, взяли на себя обслуживание – Харьков – Ворошиловград – Днепропетровск – Полтава?..
В вагоне послышался смех. Парень в шляпе, стремительно атакованный капитаном, попытался возражать.
– Нет, ошибаетесь, товарищ капитан. Я был на фронте.
– Были? Где? Что-то непохоже… Война, молодой человек, большое слово, и лепить его ко всякой пакости мы никому не позволим. Были? Не по-фронтовому что-то рассуждаете. Плюй, пачкай, безобразничай – все равно война. Это – мародерское рассуждение.
Разговоры в вагоне утихли. В соседнем купе заплакал ребенок. На него зашикали со всех сторон.
«Война – все дозволено», – продолжал Спивак. – Даже в самые тяжелые дни, когда отступали мы, когда к Волге нас прижимали, и то за такой лозунг следовало бы… – капитан замялся.
– …морду бить, – подсказал кто-то из-за перегородки, где расположилась команда бойцов, едущих из госпиталя в часть.
– Вот еще! Тоже выразился – куль-тур-но! Помолчи! – одернул его другой.
– А чего ж ему, кобелю жирному! Ну, ухи драть.
– …следовало бы судить военным судом, как за фашистскую пропаганду, – договорил Спивак. – Даже тогда. Если бы не мы немцев, а они нас зажали там и оставалось бы нам месяц, неделю, день существовать, и то бы мы их прожили по-человечески, а не по-скотски.
Спивак встал, взял с полки фуражку, надел.
– Жаль, что вышли эти инвалиды и старик, что здесь сидели. Они бы вам разъяснили, что такое война и можно ли это слово трепать кому не лень, в похабных побасенках, на каждом шагу.
Отовсюду послышались одобрительные восклицания. Видимо, не одного Спивака раздражала болтовня пассажира в шляпе.
– Правильно, капитан!
Пассажир в шляпе сидел красный, смущенный, растерянно хлопал глазами.
– Я, товарищ капитан… Может быть, не так сказал… Ошибся немного, – забормотал он.
– Да, да, совсем немного, – сказал, усмехнувшись, Спивак, – как тот дьякон на венчанье, что вместо «Исаия, ликуй» запел: «Який черт мене наддав в другой раз жениться».
Неожиданная шутка и улыбка капитана вызвали громкий смех вокруг. До сих пор он говорил так сердито, что люди, слушавшие его с интересом и явным сочувствием, поглядывали на него, однако, с опаской.
– Может быть, ошибся… Поговорка пошла такая. Все говорят сейчас… Конечно, если вдуматься, это выражение неправильное. Признаю свою ошибку. Но и вы напрасно горячитесь, товарищ капитан. Вы меня первый раз видите. Нельзя так. – Парень встал, полез левой рукой в карман брюк, вытащил бумажник. – Вы думаете, я войны не видал? Вот, пожалуйста, – он протянул Спиваку пачку бумажек.
– Да, – сказал Спивак, развернув и читая документы. – Воевали. В сорок втором на Юго-Западном? И на Карельском были? Воевали, так. А за что воевали?.. И на Западном были? На трех фронтах?.. Ну, что же, – сказал он, помолчав с минуту и возвращая пассажиру документы. – Что вам ответить?.. Про сундук адмирала Лазарева слыхали? Адмирал Лазарев сказал как-то одному своему офицеру: «Вы похожи на этот мой сундук. Три кругосветных плавания сделал со мною, но как был сундук, так и остался сундуком»…
Поезд замедлил ход, подъезжая к станции. Спивак поправил ремень, одернул гимнастерку, стал пробиваться к выходу.
В тамбуре он столкнулся с шедшим навстречу главным кондуктором.
– А, главный! Очень приятно, – сказал Спивак тем же раздраженным тоном, каким только что отчитывал пассажира. – Пора бы уже, товарищ главный, таблички прибить: «Для курящих», «Для некурящих», а? Как вы думаете? Посоветуйте вашему начальству. Зачем откладывать? Пустили первый поезд по линии – сразу и таблички на место. А почему мы, товарищ главный, без воды едем? Три часа простояли на станции под водокачкой и не набрали воды в баки. Все равно – война, да? Можно не умываться? Вы сами-то умываетесь или тоже отложили это дело до капитуляции Германии?
Главный, ошарашенный рассерженным видом капитана, выпучил глаза и развел руками. Спивак, не дождавшись от него ответа, выпрыгнул на перрон.
Долго смеялись в вагоне:
– Горячий капитан!
– От еще там на начальника станции налетит!
А Спивак ходил по перрону взад и вперед вдоль состава, бормотал: «Дурак! Для таких разве земля отвоевывается? Три фронта… Сундук!..» – и, вдыхая с наслаждением смолистый запах молодой хвои, доносимый ветром из сосновой рощи, понемногу успокаивался.
Вечерело. Солнце заходило в тучку. Паровоз отдыхал на малых парах. На станции было тихо. Щелкали соловьи в роще. Дежурный, проходя куда-то по путям, сказал, что дальше бывают частые бомбежки и, если следующая узловая станция не примет их, придется, возможно, здесь и заночевать.
– Ночевать так ночевать, – ответил Спивак. – Если б можно было надеяться, что разбудите, так вон там в кустиках и заночевать.
Дежурный засмеялся:
– Гудок дадим.
– Черта его услышишь, ваш гудок. Бывало, пушка рядом бьет и то не просыпаешься.
– А вы, если хотите, товарищ капитан, – сказал, остановившись, дежурный, – идите ко мне на квартиру. Вон хатка. Там уж не проспите. Буду отправлять поезд – разбужу.
– Ладно, – махнул рукой Спивак, – у меня в вагоне есть место. Переночую. Спасибо…
Спивак ходил, думал и удивлялся сам себе: с чего это он стал такой вспыльчивый? Домой ездил, в свой район, где работал последнее время перед войной в райкоме партии, и там не развлекся, не отдохнул. Нервы, что ли? Или, может быть, не надо было ездить домой, не отрываться уж до конца войны от солдатчины? Да нет, оно-то не вредно посмотреть тыловую жизнь. По крайней мере, будешь знать обстановку на случай, если жив останешься и вернешься домой… Его ведь, пожалуй, демобилизуют после войны. Офицер он не кадровый, из запаса, возраст – под сорок. Хватит и молодежи по штатам мирного времени. А может быть, скажут – послужи? Ну, что ж, кем не был он! Был трактористом, парторгом колхоза, инструктором райкома, а в армии, если оставят, может быть, дослужится и до генерала… Спивак усмехнулся. Вряд ли. До генерала еще далеко. По мирному времени не скоро дослужишься. Это нужно, чтоб опять такая война повторилась, еще года на три. Ну их, эти войны, не надо и генеральского чина, пусть лучше отпустят в колхоз!..
Из села пришли женщины с молоком, теплым, парным, вечернего удоя. Возле вагонов открылся базар. Спивак съел большой пирог с фасолью и выпил бутылку молока. Захотелось ряженки, не нашел ни у кого.
– Что у вас, девчата, нет моды ряженку делать? – спросил он женщин. – Не умеете? Вот буду ехать из Берлина домой, заеду к вам на день – научу. Так научу, как моя жинка делает, – вилкой, как творог, можно есть!
– Приезжай, приезжай, товарищ капитан! – защебетали женщины. – Хоть и не на день, насовсем приезжай – примем.
– Нам такие капитаны нужны!
– О-о, нам капитанов давай побольше!
– Да куда он нам, бабы, – он сивый уже!
– Сивый, да с орденами.
Сивый – сказала! А твой какой был? А твой лысый был. На сивого все ж таки приятнее поглядеть, чем на лысого.
– Приезжай, товарищ капитан, не слухай ее, насмешницу!
Разговорившись с женщинами, Спивак совсем повеселел.
Паровоз задышал чаще и громче, заглушая шум ветра в высоких тополях у перрона и щелканье соловьев в роще. Из станции вышел дежурный с жезлом, торопливым шагом прошел вперед вдоль состава.
– Принимают. Отправляю.
Кто-то скомандовал:
– По ваго-на-ам!
Женщины замахали вслед поезду белыми платками, в которых приносили на станцию пирожки.
Поезд медленно двигался по свежей, недавно отремонтированной насыпи. Спивак долго сидел на ступеньках вагона, курил, глядел на темнеющие тучи на западе и степь, пока небо и земля не слились во тьме и не видно стало даже телеграфных столбов, проносившихся в стороне за посадкой.
2
Капитан Спивак был ранен четвертый раз за войну, лечился в своем областном городе Полтаве, а после госпиталя ему дали отпуск на десять дней. Так пришлось ему, на третьем году войны, побывать дома, чему очень завидовали его товарищи, когда он вернулся в свою часть. С этой частью он прошел от Волги до Днепра в должности агитатора полка.
За то время, пока лежал он в госпитале и заезжал домой, армия продвинулась далеко вперед, не оставив, конечно, адреса, где ее искать – в Румынии или Чехословакии. Доехав поездом до последней станции, которой оканчивалась восстановленная линия, Спивак несколько дней еще мотался на попутных машинах по окрестностям, разыскивая политотдел армии, свою дивизию и полк. В полку у Спивака был земляк, односельчанин, человек, с которым он вышел из одного колхоза, комбат Николай Петренко. Спивака взяли из колхоза на районную работу в райком партии, а Петренко, из того же колхоза «Большевик», – в райземотдел, районным агрономом. В армию они уходили вместе, по первой мобилизации.
Пока Спивак сам обдумывал еще все виденное и слышанное дома, он на вопросы товарищей, как там идет жизнь в тылу, отделывался шутками.
– Не горюйте о тыловой жизни, – говорил он. – С непривычки кой-кому плохо покажется. Нас тут избаловали аттестатами: вещевым довольствием удовлетворен полностью, мыльным довольствием по такое-то число, табачным по такое-то. Вынь да положь наркомовскую норму. Никаких забот о хлебе насущном. А там тебе жинка опять даст такого удовольствия, и вещевого, и мыльного, и всякого прочего, что не раз заплачешь о наших интендантах, которых ругаем сейчас на чем свет стоит, если не выдадут в срок коробку спичек. Скажет – туфель нет, не в чем в люди выйти, мука кончилась, дров достань. У меня чистого отпуска, без дороги, оставалось шесть дней. Ехал, думал: схожу на охоту на уток – три года в руках двустволку не держал, – да и не пришлось. Два дня огород копал с жинкой, заставила, не посмотрела на капитанские погоны: «Ничего, говорит, ты офицер наш доморослый, колхозный, тебе не зазорно», – два дня хворост из лесу возил на топливо, два дня по родичам ходил, – так и отпуск кончился. Не горюйте. Гуляйте, козакуйте, как запорожские сечевики, пока держит нас нарком на своем иждивении.
– Как жизнь идет? – отвечал другим. – Да вот так. Ты здесь командир роты. Бойцы у тебя всякие, есть и молодые и пожилые, но все-таки народ строевой, может выполнить любую задачу. А там дадут тебе бригаду – деда Панька, из которого еще до войны песок сыпался, бабу Явдоху, молодицу семидесяти лет, солдаток таких лихих, что ты ей – слово, а она – двадцать, как запустит длинной очередью, и не переждешь, да детишек тех, что, когда мы уходили на войну, еще без штанов бегали. Вот и воюй. Это тебе и плугатари, и косари, и посевщики. Или назначат тебя директором МТС. Тракторы твои, скажут, вон лежат в бурьянах. Собирай по всей степи по колесу, по шестеренке. От одного найдешь блок без поршней, от другого поршни без шатунов. И чтоб через месяц выполнил план ремонта. Скажешь: да лучше я еще пять раз Днепр с боем форсирую, чем будут меня тут на бюро райкома каждый день без бою контузить до полусмерти!
О железных дорогах говорил:
– Движение, конечно, уже налаживается. Но если нервы слабые, то лучше пока не ездить, подождать. Во-первых, если беспокойно спишь и ходишь во сне в атаку, то убьешься с багажником. Во-вторых… Ну, а во-вторых, что ж? Раз убьешься, значит – все. Похоронят где-нибудь на глухом полустанке, и домой не доедешь.
Долговязый, немного сутуловатый, нервный, вечно хмурый, как будто сердитый, капитан Спивак над чужой шуткой посмеяться любил, сам же, если чудил, никогда не смеялся, поэтому подчас трудно было разобрать, чему он в своих словах придает значение, а что у него просто балагурство. Он был резок в спорах, Грубоват с товарищами, друзей в полку у него было немного. Его запальчивость при неизменно нахмуренном выражении лица – и в минуты веселья и в минуты злости – делала Спивака похожим, как говорили, на бомбу замедленного действия – не угадаешь, когда и от чего может вдруг взорваться. Но ничего не прощают человеку на фронте так снисходительно, как резкость и несдержанность, лишь бы он делал свое дело. На фронте не любят лентяев. Как агитатора Спивака в полку ценили. Его лекции и беседы с офицерами и солдатами пользовались успехом. Большой ученостью и красноречием он не блистал, но умел выразить мысли сильно и доходчиво и заинтересовать слушателей. Боевая репутация его была безупречна. Три четверти своего времени он проводил в стрелковых ротах, являясь в штаб лишь по вызову заместителя командира полка по политчасти для составления пятидневных политдонесений. В бою Спивак был желанным гостем каждого батальона. Комбаты приглашали его к себе перед какой-нибудь большой операцией наперебой.
Все заметили, что Спивак вернулся из дому еще более хмурым и раздражительным, чем был. Одни относили это на счет возможных семейных неурядиц капитана, другие говорили: «Что это за отпуск десять дней – разбередили только душу человеку». Лишь комбат-2, старший лейтенант Петренко, знавший хорошо своего приятеля, мог разгадать его состояние: Спивак, вероятно, задумался над чем-то увиденным дома. Несколько дней, проведенных на родине, действительно растревожили его, но не в таком смысле, как полагали некоторые: заскучал, мол, человек. Просто с кем-то о чем-то не доспорил там.
Полк свой Спивак догнал на ходу. На этом участке фронта еще велись наступательные действия. Дивизия шла в первом эшелоне. С Петренко ему не удалось сразу поговорить подробно обо всех домашних делах. Он встретился с ним на коротком привале на совещании у командира полка, передал письма из дому, обещал в тот же день побывать в его батальоне, но не побывал, пошел сначала в первый, где накануне погиб в бою комбат, знакомился там с новым пополнением и командирами, пришедшими в полк без него, назначил новых агитаторов. Потом провел день с автоматчиками, день – с артиллеристами. Во второй батальон он пришел уже после небольшого боя за один хутор, когда полк получил новую задачу: окружить и уничтожить противника в селе Липицы, важном пункте немецкой обороны на этом участке.
Ночь была непроглядно темная. Вечером, когда бойцы обедали и отдыхали в хуторе, названия которого никто не запомнил – не то Янчин, не то Яничкин, – над степью разразился ливень с холодным ветром и грозой. Вода шумела в балке за хутором, как река. Разведчики доносили, что возле села Липицы вода выжила немцев из наскоро сооруженных ими окопов: видно было при вспышках молнии, как они, вылезая на брустверы, выкачивали воду из блиндажей пожарным насосом. Ливень бушевал недолго. Ко времени выступления батальона погода утихла и потоки сбежали. Ручей в балке перешли вброд – вода не достала и по колено. Но тучи еще не рассеялись. В небе не видно было ни одной звезды. Еще глухо ворчал в стороне гром, трудно отличимый от орудийной канонады. Изредка поблескивала молния, освещая на миг движущиеся по полю без дороги неуклюжие фигуры бойцов в мокрых, вздувшихся горбом на спинах плащ-палатках.
Колонна шла целиной. Ноги не вязли в грязи, а лишь оскальзывались на мокрой траве. Трава была невысокая, но густая, с сочными мясистыми – чувствовалось под сапогом – листьями. По такой траве и в сушь было бы скользко идти. Капитану Спиваку, шедшему рядом с колонной, почудился среди грубых запахов обкуренной дымом костров и мокрой от дождя и пота солдатской одежды какой-то тонкий аромат. Он поднимался от земли. Спивак нагнулся, сорвал на ходу пучок травы, растер в ладонях ее мохнатые влажные листочки, понюхал. Кто-то из бойцов тоже нагнулся, за ним другой, третий.
– Мята, – сказал один негромким тенорком. – По мяте идем. Э-эх! Хорошо пахнет.
– Мята, – удивленно подтвердил другой тихо: по колонне приказано было двигаться без лишнего шума. – Да сколько же ее здесь! Откуда взялась? Дикая, что ли?
– Нет, не дикая, – сказал первый. – Посев. Ее нарочно сеют, как пшеницу.
– Для чего?
– А для всего. Лекарство делают из нее. Зубы у тебя болели когда-нибудь? Есть такие капли, мятные, на зубы. И в конфеты подмешивают, для запаху. Она доходная штука, эта травка. Мы тоже сеяли в колхозе, гектара три. Что-то много выручили: тысяч несколько. Э-эх, пахнет как! Рви в карманы побольше, чай будем заваривать.
– Посев, значит. Вон как! Да оно и видно – сколько идем, все – мята. Значит, ее тут и при немцах сеяли. Полюбилась.
– Нет, должно быть, еще колхозная. Она долголетняя, от корня отрастает.
– А может, помещик сеял? Тут же до тридцать девятого года еще паны были.
Колонна остановилась. Дорогу преградила широкая водомоина с крутыми берегами, образовавшаяся в степи от дождей. Кто-то заметил в темноте большой белый камень и стал подкатывать его к водомоине, но передние уже одолели ее – кто перепрыгивая с разгона, кто сползая на дно в грязь и выкарабкиваясь на кручу на четвереньках. Не ожидая задних, догонявших колонну бегом, пошли дальше. Небо стало проясняться, в разрывах туч показались звезды. С севера дул резкий, холодный ветер, какой иногда в мае, после жарких, почти летних дней и теплых гроз, нагоняет внезапно на цветущие сады ночные заморозки. В стороне села Липицы слышались изредка короткие сонные пулеметные очереди и дрожало в небе под тучами зарево от ракет. Под ногами идущих был тот же мягкий, скользкий душистый ковер.
– А один колхоз у нас, – стал тихо рассказывать товарищу тот солдат, что говорил про мяту, – гектар роз посадил. Все смеялись: пустяками занимаются, бабье занятие – цветочки сажать. А они, знаешь, какую деньгу огребли за те розы?
– Букеты продавали, что ли?
– Нет, тоже сдавали государству. По-простому, видишь, как назвать розу – ну, цветок, и все. А по-научному называется – фиронос. Из тех лепесточков розовое масло давят. Пуд масла, говорят, всего-навсего можно собрать с гектара, зато цена ему – десять тысяч.
– Ого! Вот бы таким маслицем кашу заправить.
– Не ел бы. Не годится в пищу. Что к чему. Как духи, например. Жидкость – тот же чистый спирт, а пить не станешь, отвратительно. Несъедобное…
– А оно, знаешь, неплохо, – продолжал громче после недолгого молчания тот же боец, обладатель мягкого певучего тенорка, – иметь в большом хозяйстве, промежду пшеницы, гречки, подсолнуха, и такого посеву сколько-нибудь, всего понемножку: одно не уродит, другое уродит, чем-нибудь да и оправдаешься. Вот сеяли мы еще в колхозе коляндру. Тоже называется – фиронос. Ну, эту я не знаю, для чего ее употребляют. Вонючая, спасу нет. Клопами воняет. За километр места, как подходишь к ней, начинаешь чихать. В молотьбу хоть противогаз надевай. А тоже…
– Отставить молотьбу и разговоры! – сказал вполголоса вынырнувший откуда-то сбоку, из темноты, комбат Петренко. – Вы, хлеборобы, гречкосеи! Дома будете заниматься молотьбой.
– Есть отставить молотьбу, – прошептал разговорчивый боец и умолк.
Несколько минут батальон двигался в полном молчании. Тишину нарушил сам же комбат.
– Не коляндра, а кориандр! – бросил он негромко через плечо, прибавляя шагу, чтобы догнать голову колонны. – Это кто там об эфироносах говорил? Завалишин? Ко-ри-андр. И не фироносы, а эфироносы, – так называются эти растения. Понятно? Потому что содержат в себе эфирные масла, которые в парфюмерной промышленности употребляются. Это валюта, золото. А пуд розового масла стоил до войны не десять тысяч рублей, а если уж хочешь знать точно – пятьдесят пять тысяч. Не растягивайсь! Шире шаг, задние! В балку придем – покурим.
Спивак невольно улыбнулся этому замечанию комбата.
– Уточнил, агроном!
Батальон шел в обход Липицы. С места взяли влево, с тем чтобы, пройдя восемь километров от трех курганов у развилки дорог – отметка на карте 174,3, повернуть круто вправо и выйти в тыл противнику. Прошли посевы мяты, пересекли два узеньких клина озими, уперлись в густые заросли дикого терновника, поискали обхода – ни вправо, ни влево нет им конца, – пошли через колючие кусты напролом, накинув капюшоны плащ-палаток на головы, чтобы не выцарапать ветками глаза. За терновником вышли на вязкую пахоту. Здесь все задышали тяжелее. Пахота была свежая. Кто-то из жителей этих дочиста ограбленных гитлеровцами деревень еще вчера днем или прошлой ночью пахал здесь, – уже слышен был гул пушек на востоке, немцы впрягали последних лошадей в обозные тачанки, угоняли скот, приказывали всем, грозя расстрелом, уходить в лес, а он, прячась в глухой степи со своей лошадью и плужком, пахал, отдавая дань весне и вековечным привычкам крестьянина… Грязь на рыхлой, размоченной ливнем пахоте успела загустеть на холодном ветру. На сапоги налипало по пуду земли. Бойцы, многие из которых несли на плечах «максимы», длинные тяжелые противотанковые ружья и батальонные минометы, с трудом вытягивали ноги из грязи, шатались от усталости. Спивак опять услышал голос Завалишина:
– Наилучшая техника – самоходная пехота. Ночь-полночь, грязь по колено, вода по ноздри – пошел, никаких гвоздей! Ни скаты не спущают, ни подшипники не горят.
– Тш-ш! – зашипел на него младший лейтенант Осадчий, заменивший командира четвертой роты лейтенанта Метревели, раненного в бою за хутор и эвакуированного в медсанбат. – Это кто там, опять Завалишин? От, який же ж балакучий!
От головы колонны отделилась темная фигура.
– Стой!
Спивак узнал по голосу Петренко. Комбат отошел немного в сторону от бойцов и присел. Спивак подошел к нему.
– Это кто? – спросил Петренко. – Капитан?.. Как думаешь, Павло Григорьевич, прошли мы восемь километров?
Спивак и Петренко, когда бывали вдвоем, позволяли себе вольность называть друг друга не по чинам, а по имени. Спивак звал Петренко Микола Ильич, а чаще просто Микола, Петренко Спивака – всегда по имени-отчеству: Павло Григорьевич.
– Восемь километров? – сказал Спивак. – Пожалуй, прошли. Вышли в девять, а сейчас, – он посмотрел на светящиеся стрелки ручных часов, – десять пятьдесят пять. Да, прошли. Ты что смотришь, Микола?
– Три кургана должно быть здесь, по карте. От них – поворот. Вон там что-то, не разберу, не то туча, не то они.
Спивак, подобрав полы плаща, опустился на корточки. Темное небо почти сливалось с черной землей. Линия горизонта терялась в тучах, еще закрывавших часть неба.
– Откуда такая привычка, Микола, – спросил, усмехнувшись пришедшей вдруг в голову мысли, Спивак. – Если высматриваешь что-нибудь ночью, то на землю ложишься? Это привычка степного человека, хлебороба. Да? Вот так, бывало, пасешь волов на толоке в майские ночи, залезешь на старую скирду, зароешься в солому, угреешься и заснешь. Проснешься – нету волов, ушли. Скатишься со скирды, ляжешь на землю и высматриваешь: где же они есть, черти рогатые? Против неба их лучше видно. Сморишь – двигается что-то по Охримовой озимке, рога будто качаются. Скорей туда, пока дед Охрим не занял! А дед уже сзади подбегает да как врежет тебя арапником по ногам! Ты пас их, Микола? Вот вредная скотина! Взбредет ему в башку, что где-то трава вкуснее, наметит себе азимут – и идет и идет, хоть черта ему дай. Я раз аж за двадцать километров нашел их, на хуторе Капустином.
– Ты что-то тоже начал, Павло Григорьевич, про волов, про озимку, – сказал Петренко. – Дома побывал?
– А как же, побывал, – ответил Спивак, и в голосе его еще слышалась непогасшая улыбка. – Видал, как люди сеют. За чепиги подержался…
Впереди небо чуть осветилось, под тучами заиграли бледно-голубые зарницы – что-то загорелось там. На светлом небе невдалеке выступили три горба – три степных сторожевых кургана.
– Они, – сказал Петренко и встал на ноги. – За мной, шагом марш!
Под ногами пошла опять какая-то крепь: старые, сухие, ломкие бурьяны с молодой порослью между ними.
В неглубокой лощине, у заброшенного степного колодца со сломанным журавлем, Петренко остановил батальон и рассредоточил его поротно.
– Ложись! Командиры рот – ко мне! Горбенко, Незамаев! Лейтенант Добровольский, дайте им еще трех автоматчиков. Разведать окраину села. Тут, вероятно, у них тоже окопы. Вот там какой-то черт трассирующими бьет. К дороге пройдите. Возьмите ножницы, может быть, проволока есть.
Растянувшись на земле, Петренко достал из кармана табак и обрывок газеты, свернул папиросу и, накрывшись плащом с головой, закурил первый раз за ночь. Справа и слева от него веером – голова к голове, ноги врозь – легли подошедшие за получением боевого приказа командиры рот. Где-то сзади шелестели катушкой телефонисты, тянувшие линию от КП[7]7
КП – командный пункт.
[Закрыть] полка.
…Пока Петренко, ориентируясь на смутно выступавшее в темноте высокое здание на окраине села, чуть видную при вспышках ракет церковь, ветряк на выгоне, намечал, откуда наступать ротам, куда выдвинуть пулеметы, какую задачу поставить автоматчикам, Спивак с парторгом батальона, пожилым, усатым, огромного роста младшим лейтенантом Родионовым, бывшим одесским грузчиком, собирал агитаторов. И в пятой и в шестой ротах не осталось ни одного из старых агитаторов, которых готовил и назначал еще Спивак.
– Кого же можно выделить? – спросил он парторга. – Что у тебя за пополнение? Есть подходящие ребята?
Родионов назвал несколько фамилий командиров взводов, недавно принятых в партию, командиров отделений – комсомольцев и рядовых бойцов, награжденных в последних боях.
– Ну, давай по одному.
Парторг стал вызывать из рот намеченных. Спивак беседовал с ними.
– Новичок? После ранения. Ну, у нас-то новичок? Вот я ж и говорю… А где воевали? На Южном и на Четвертом Украинском? Хорошо… А в гражданке где были? Какая специальность? Техник по холодной обработке металлов. А-а. Не знаю, незнакомое дело. По холодной обработке?.. Это не то, что говорят, – холодный сапожник? Нет… Ну, вот: боец вы, значит, грамотный, обстрелянный, кандидат партии – назначаю вас агитатором. Справитесь? Что будет непонятно – помогу. Только тут, смотрите, холодная обработка не пойдет. Тут горячая нужна. Отзвонил и с колокольни долой – не годится… Ну, ложитесь, поспите пока здесь, поговорим еще.
Другого спрашивал:
– Отступать приходилось?
– Приходилось, товарищ капитан. Из Керчи в сорок втором. На Кубани у казачек совестно было кружку воды попросить…
– А наступаешь откуда?
– От Туапсе. Ростов брал. Киев брал.
– Так. Семья какая? Сколько вас, сынов, у батька воюет?
– Воюет нас, братьев родных и двоюродных, одной фамилии Осиповых, всего восемнадцать человек на сегодняшний день, товарищ капитан.
– Снайпер?
– Занимаюсь, когда в обороне стоим.
– Счет есть?
– Двадцать семь на сегодняшний день. Стреляю, товарищ капитан, бронебойно-зажигательными. Если упал и одежа на нем горит, – значит, точно, убил.
– Хорошо. Образование какое? Семь классов. Комсомолец? Ну, будешь агитатором во взводе. Будешь учить всех воевать, как сам воюешь. Ложись пока… Только в беседах с бойцами, товарищ Осипов, меньше употребляй таких выражений: на сегодняшний день, сконцентрировать внимание, мобилизовать усилия. Говори просто, как дома с братьями или с матерью разговаривал. Ты же никогда не говорил матери так: «Мама, я хочу на сегодняшний день жениться», а? И здесь особенно не закручивай… А если зададут тебе какой-нибудь трудный вопрос, что не сможешь сам ответить, – насчет изоляционистов в Америке или польского эмигрантского правительства в Лондоне, – в гапоны не лезь. Обратись или к парторгу, товарищу Родионову, или к комбату, или ко мне, когда буду у вас, – мы разъясним. Лучше честно признаться: не знаю, товарищи, выясню – отвечу, чем напутать чего-нибудь.
Смысл поговорки капитана «не лезь в гапоны» знали лишь те, кому он рассказывал ее происхождение. Остальные по тому, каким тоном и в каком месте речи употреблял ее Спивак, догадывались, что она означала – не залезать в дебри. Это была любимая поговорка Семена Карповича Сердюка, секретаря райкома партии на родине Спивака и Петренко, много лет работавшего у них до войны и после немцев опять вернувшегося в район. Когда-то партком одного совхоза в их районе объявил выговор старому рабочему-коммунисту за ошибки при проведении беседы на тему о кровавом воскресенье. Дело разбиралось на бюро райкома. Выяснилось, что рабочий был политически малограмотен и спрашивать с него за теоретические ошибки было нелепо. Секретарь парткома совхоза говорил: «Но я же его предупреждал: ты не лезь особенно в попа Гапона, в зубатовщину, ты просто расскажи рабочим, что произошло в этот день в Петербурге». По предложению Сердюка выговор сняли. Он хохотал на бюро до упаду, переспрашивая секретаря парткома: «Как, как ты сказал: не лезь в Гапона?» С тех пор это и стало его поговоркой: «Я же тебя предупреждал: не лезь ты, пожалуйста, в гапоны!»
Собрав человек пятнадцать агитаторов, Спивак сказал им:
– Дело подходит к границам, товарищи. Не знаю, как у кого, но у меня лично неспокойно будет на душе, если те фашисты, которые жили в наших городах и селах, видели наш чернозем, ели наш хлеб, виноград, вишни, сало, вернутся домой. У свиньи память на палку короткая. Есть пословица: не помнит свинья полена, а помнит, где поела… Я недавно из тыла приехал. Знаете, что сейчас на думке у каждого человека, что кладет первый кирпич на развалинах? Ну, думает он, другим разом ншим часом, построить бы такую жизнь, чтоб еще лучше прежней была. И главное – чтоб удалось закрепить ее теперь навечно. Люди, прожившие два года под фашистами, просят нас бить их так, чтоб никогда не вернулись они к нам, чтоб никогда вовеки не повторился этот ужас, что пережили там. Наши дипломаты попробуют договориться с союзными державами насчет послевоенного устройства мира: как сделать, чтобы фашизм не воскрес. Об этом будет речь на мирной конференции. Ну, не с нашими солдатскими нервами ехать на ту конференцию. У нас на сегодня, пока пушки гремят, дипломатия простая – окружать и уничтожать, не выпускать фашистов живыми за границу, а кто и уйдет – там догнать их. Вот она, задача наша: прихлопнуть их в этом селе. Дивизионная разведка доносит, что их тут набилось, как блох в старой кожушине. Бегут, но все-таки оставляют заслоны, чтоб задерживать нас. Тут у них что-то вроде опорного пункта. Узел дорог. Машин, говорят, много стоит, танки даже есть. Все в порядке. Это не хутор Яничкин, где десять факельщиков захватили. Так вот надо, чтобы все здесь и остались. Понятно? Батальон ваш будет действовать на очень важном участке. Когда их нажмут с той стороны, все кинутся к выходу в тыл и будут пытаться пробиться. Не пустить! Как бы ни напирали – не пустить! Чтоб ни один не унес костей. Вот на это настройте сами себя и разъясните бойцам. Мешков, котлов побольше – такой приказ по всей армии. Сегодня и мы «котельщики». Небольшой, правда, котел, не Корсунь-Шевченковский, но каши наварить в нем можно. Вопросы есть? Как с боекомплектом? Противотанковые гранаты имеются? Патронов у бронебойщиков достаточно? К нам, возможно, и артиллерия подойдет, но лучше рассчитывать пока на свои силы. Бой будет жаркий. Вот все, что я хотел сказать вам, товарищи агитаторы. А вы передайте своими словами бойцам. Какими словами – это уж ваше дело. Выбирайте такие, чтобы доходили до сердца. Сейчас можно отдыхать. Утром увидимся. Узнаю по телефону в штабе полка, какие там новости но радио, расскажу вам.