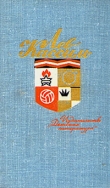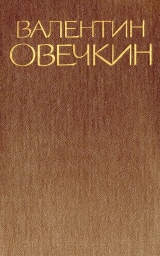
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Валентин Овечкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц)
…Говорят: если шахтера привалит породой в забое и спасут его, навсегда остается у него страх перед подземельем. Человек, которому приходилось тонуть, ненавидит потом всю жизнь море. Нет, не осталось у Матвея злобы на машину. Машина была не виновата.
В революцию, когда выбирали ревком, делили кулацкую землю, слепой Матвей ходил по станице как живое напоминание о неоплатных долгах старых хозяев, выступал на собраниях, говорил:
– Мало лишить их земли! Куда-нибудь в море их, на остров, и еды им не давать, пусть сами себя пожирают!..
При советской власти ему, нищему, жене его, иногородней батрачке, и детям дали в казачьей станице пятнадцать десятин земли. С этого он и пошел жить. Раз посеял исполу – отдал в аренду соседям десять десятин за то, что те посеяли и убрали ему остальные пять, потом купил за хлеб лошадь, жена сама с подросшими старшими детьми стала обрабатывать часть надела. Детей у них родилось еще двое. Потом вступили в колхоз.
Когда в соседней станице организовалась МТС, он ходил «осматривать» первые тракторы. На голой площади строили гаражи и мастерские. Были среди рабочих МТС знакомые Матвея – старые машинисты паромолотилок. Они водили его туда, где трактористы обкатывали только что сгруженные с железнодорожных платформ тракторы. Матвей ощупывал новые машины, его подводили к плугам невиданных размеров и тракторным сеялкам. Так же, на ощупь, знакомился он и с комбайнами. И, может быть, никому не были так близки и понятны, как ему, замыслы партии: наводнить станицы машинами, дать их в руки людей, не имевших никогда и простенькой лобогрейки, пустить их всюду по земле, чтоб перепахали они до материка старую жизнь!..
Один сын его стал учителем, старшая дочь – зоотехник. Дети живут при нем, кормят его, одевают. Нужды ни в чем не терпит. А тяжело, скучно старику…
Вот приходит он в бригаду, сидит здесь днями. Бывает, сойдутся на таборе все тракторы, пять тридцатисильных машин, загудят так, что земля дрожит под ними. Можно ли равнодушно слушать их? Видят ребята – сидит старик, посасывает трубку, и на слепом невыразительном лице его нельзя прочесть ни радости, ни печали; и не знают они, что с ним делается в такие минуты. А у него этот гул отдается в самом сердце. Плакал бы и смеялся, если б мог, и шел бы неизвестно куда, обнял бы всю землю, на которой работают эти чудесные машины, и людей, которые сделали их и прислали сюда…
Кончил рассказывать слепой, и дождь перестал.
Степь, омытая бурным летним дождем, – какая красота! Вокруг вагона, стоявшего на широком столбовом шляху, горели холодные огни заката. В одной стороне небо очистилось, там засияло большое красное, уходящее за курганы солнце, в другой – сбились к горизонту, изредка отстреливаясь далекими беззвучными молниями, черные тучи. На мокрой траве, на каменной бабе, выкопанной кем-то из кургана и поставленной у дороги, на окрайках разорванных туч – на всем багряные брызги, кровь солнца. Медные телеграфные провода на столбах, колеблемые ветром, вспыхивают, точно расплавленные. Странный свет, быстро гаснущий, как зарево затухающего пожара, падает на землю. И там, в той стороне, где тучи, – все новое, живое, молодое. Трава зеленая-зеленая; одинокий тополь, выросший из пушинки, занесенной ветром в степь, красуется, словно вырисованный на туче тончайшей кистью, – виден каждый листик, белый, чистый, серебряная роспись на черном бархате.
Ребята повалили из душного вагона, пропахшего керосином, на воздух. Захлюпала мокрая земля под сапогами… Пока рассказывал Бородуля, все слушали его в угрюмом молчании. Теперь, любуясь чудной игрой красок в небе – багровых, золотистых, оранжевых, любуясь степью, с детства знакомой, но сегодня особенно хорошей, помолодевшей, освеженной дождем, не один подумал про себя: «И этого не видит старик…»
За перевалом, далеко, гудели тракторы.
Кто-то, слушая далекое урчанье моторов, сказал:
– Там пашут. Должно быть, дождь не захватил их, стороною прошел…
Трактористы расселись на ступеньках вагона, курили, пряча по степной привычке огонь в кулак, чтобы ветер не разносил искры, разговаривали вполголоса, точно боясь нарушить очарование угасающего вечера и помешать мыслям молчавших, думавших что-то свое. Двое негромко затянули песню и оборвали на половине. Слепой, постояв немного в дверях вагона, сошел по ступенькам на землю, подозвал поводыря-сына. Поводырями у него были посменно младшие из сыновей. Один вырастал – другой заменял его.
Роман Сорокин, тракторист неплохой, парень не из равнодушных, способный, серьезный, по нечаянности лишь сваливший сегодня телеграфный столб, проговорил, задумчиво усмехнувшись, как бы отвечая на рассказ слепого машиниста:
– А в колхозе «Коммунар» был случай. Посылали одного чудака на курсы, Гришку Рябовола, а он им отвечает, правлению: «Что вы мне предлагаете – трактор? Это дело уже устарелое – тыр-тыр, пять километров в час. И девчата уже на трактористов не заглядываются – не в диковину. В мазуте всегда, как черт. Посылайте на шофера – согласен. Только чтоб стипендия была двести рублей в месяц». Так его и послали водовозом на свиноферму, дали ему быков самых ленивых, таких, что еле с ноги на ногу переступают, чтоб не дюже поспешал.
Все рассмеялись.
– Правильно сделали.
– Пять километров! А как же он хотел пахать, – вставил слово Афоня Переверзев, – как автомашина бегает? Так при такой скорости…
– Не управишься и руля поворачивать, – перехватил Митька Толоконцев. – До разу в Черном яру очутишься…
– А ты помолчи, Мавочка! – озлился Афоня. – Я не про то говорю. При такой скорости лемеха не выдержат, сгорят. Это же не просто ехать по гладкой дорожке, а землю ковырять. Земля – она тяжелая. На тихом ходу и то нагревается лемех – аж шипит, когда плюнешь на него.
Ветер, бунтовавший над степью, когда шел дождь, не унимался до сих пор – хороший, прохладный западный ветер. Заря горела, предвещая на завтра бурю.
– Я, братцы, и сам не рад, – вдруг жалобно взмолился Афоня. – Что это такое со мной? Покуда с перебоями машина идет – ничего, как пойдет ровно – хоть убей, спать хочется, не раздерешь глаза.
– Это у тебя, Афоня, хвороба такая. Застой крови, – отозвался Павло Савчук, украинец из демобилизованных красноармейцев, переселившийся в тридцать втором году на Кубань, самый старый член бригады, один из тех лучших рулевых, благодаря которым бригада при всех ее неурядицах держалась все же на уровне средних. – Лечиться треба. Холодные ванны принимать утром и вечером. Верно говорю. Наилучшее средство. Или переливание крови надо сделать. Тебе от Митьки перелить трошки, а твоей крови с горшочек Митьке для успокоения – как раз обоим и поможется…
Посмеялись и опять замолчали задумчиво.
– Так, говорит Гришка, устарели? Когда же они успели устареть? Вот дуросвет! Это уже значит – парень с жиру сбесился… И скажи – чего они лезут в шофера? Гонять по улицам, собак давить! Я б свою должность никогда на шофера не сменял. Тракторист – это фигура историческая, – продолжал Савчук. – Кто вызволял колхозы из прорыва в те годы, когда тут сорняки были выше радиатора? Трактористы. Кто больше всех положил труда на колхозной земле? Трактористы. А досталось нам, як тому куцему на перелазе!.. Приехали мы сюда в начале коллективизации: дело неустроенное, непорядки, вагончиков нема, спали на голой земле до снегу. Насгребаешь мерзлого бурьяна, польешь его керосином, перегорит, ляжешь пузом на горячую золу и греешься, пузо отогреваешь – на спину, так и переворачиваешься всю ночь, как котлета на сковороде… А работали как! Гоняют тебя, как соленого зайца, по всем колхозам: где прорыв, туда и посылают на буксир брать. Осенью пойдешь за расчетом – в одном колхозе говорят: «А мы не помним, чи работал ты у нас, чи не работал, у нас за лето столько трактористов перебыло, что и счет потеряли». Доказываешь: «Да как же ж не работал? Пятьдесят гектаров вспахал на толоке!» – «Так то, говорят, не наша земля, то «Ударника» земля». Вот туда, к чертовой матери! Они уже и землю свою растеряли! В другом колхозе счетовод, кулацкая морда, сбежал, и ведомостей не найдут, не по чем рассчитываться. Такое зло возьмет! Работал, работал год – пропало все. Думаешь: ну, брошу, хай ему черт! Пойду конюхом в бригаду, буду там как и все, абы день до вечера, чтоб палочку записали. А потом заглянешь в мэтэес, увидишь там свой трактор – жалко станет. Кто тебя, сердягу, будет доглядать? В чьи руки попадешь? Чи будут тебя мыть, чистить, маслица вовремя подливать, чи занехают, как ту цыганову кобылу, искалечат? Нет, давай еще, друже, поработаем годок, к тому идет, что получшает дело. А которые бросали. Разные были и трактористы. Прямо на степи, никому ничего не скажет, бросает машину и уходит. Пашешь-пашешь, вдруг – стоит в бурьяне трактор, с плугом, без людей, земли ветром скрозь надуло, и щерица уже на крыльях поросла. Давай его выручать. Находка! Было пять машин в бригаде, стало шесть. Да-а… Про нас, хлопцы, про первых трактористов, еще книжки напишут, как мы тут воевали!
– Столбы валяли… – добавил кто-то.
– Да и не без того. А как ты хотел? Это Роману сегодня пришлось, как тому чумаку – ехал по степи, зацепился возом за верстовой столб и лается: «Так и не люблю ж этой проклятой тесноты! Понатыкали, чертовы души, столбов – проехать негде!..» Нет, про Романа вы, хлопцы, бросьте! Роман умеет не только столбы валять. Он когда был моим напарником, так мы с ним по полтораста гектаров в сутки бороновали. Вы у него спытайте, как он, – в котором это году, Роман, в тридцать пятом? – подсолнухи косил комбайном в «Парижской коммуне» по снегу. Снег в колено, все думали уже – пропал подсолнух, а он выехал косить. Я шел с хутора Марчихина, слухаю: что оно такое – гомон идет по степи? А то Роман выгребает лопатой снег из-под трактора да крещет ихнего председателя, аж искры сыплются. Подошел, спрашиваю: «За что ты его так?» – «Да как же ж, говорит, не лаять его, сукиного сына! Хитровал все, не хотел комбайном косить, чтобы меньше платить натуроплаты: «Уберем, говорит, вручную», – да и дотянул до зимы. А теперь чувствует, что виноватый перед нами, так поддабривается, накормил борщом – самое сало да мясо, такой жирный, ложкой не повернешь, болит живот, спасу нет, а тут раз за разом вставай да нагибайся, лезь под машину на карачках». Да как завернет в сорок святых, я аж злякался. Никогда не слыхал, чтоб он так страшно лаялся. Три метра пройдет машина – сугроб снегу перед радиатором. А все же спас их, гектаров с сотню, подсолнухов. Нет, Роман – этот знает, почем фунт лиха.
– А помнишь, Павло, – сказал повеселевший Гайдуков, – как нас у Черкесского леса банда обстреляла?
– Эге! Это ж когда было – в тридцать втором. Как на позиции! Подлезли балкой и открыли стрельбу из централок по табору. Федька Камарницкий с переляку в бочку залез, – была у нас бочка железная, негожая, с дыркою, – туда сгоряча пролез, а обратно не может, так и пришлось его везти в мэтэес, а там разрезали кислородом… Мне в магнето картечину влепили…
– Поймали их? – спросил кто-то.
– Поймали, после, – ответил Гайдуков. – Трое их было: Антон Селиверстов, тот, что в коллективизацию председателя стансовета зарубил топором, и кулаки Фомичевы, от высылки спасались. Пустили облаву по лесу: Селиверстова подстрелили, а тех живьем взяли. Они не раз такие нападения на трактористов делали. Всем бригадам приказ был от дирекции: иметь при себе какое ни есть оружие. Ночью часовых выставляли.
Прощаясь со слепым машинистом, пожимая ему руку, Гайдуков сказал:
– Ходить бы тебе, Матвей Поликарпыч, всюду по бригадам и рассказывать это, чтобы не забывали!..
…Небо на западе меняло цвет, как остывающее раскаленное железо, вынутое из горна.
– Давайте, товарищи, пока видно, приготовим машины на завтра, – сказал Гайдуков. – Может, за ночь просушит ветерком, и тронемся рано. Заряжай! – подал он команду, словно командир батареи.
Трактористы, дотягивая папиросы, шумно поднялись, пошли к машинам. Афоня Переверзев с необычайным для него проворством вскочил, затоптал в грязь только что закуренную, толстую, как собачья нога, цигарку и первым захватил место в очереди у заправочного насоса, но вдруг вспомнил, что заправлять ему нечего – машина стоит разбитая, – неловко, боком, выдвинулся в сторону и побрел обратно к вагону. Ребята засмеялись.
Над степью низко, со свистом пролетела стая чирков, возвращавшаяся с кормежки на тихие камышовые болотца. Все подняли головы вверх, хотя в потемневшем небе уже нельзя было разглядеть быстрых, как камни, пущенные из рогатки, птиц. Далеко в стороне слышалась знакомая песня машин – чья-то бригада уже выехала на ночную работу. А еще дальше, на черном горизонте, откуда не доносился звук моторов, было видно – зажглись ползающие светлячки-огоньки. В небе – звезды, и на земле, словно их отражение, – движущиеся мерцающие звездочки.
1940
У братской могилы
В этот хутор, на берегу речки Каменки, части Красной Армии вошли после пятидневных тяжелых боев. Маленький хуторок стоил больших жертв. Жители хутора похоронили в братской могиле, в центре, против правления колхоза, на самом видном высоком пригорке, восемнадцать человек – лейтенанта и семнадцать бойцов. Тогда, на похоронах, кто-то из хуторян дал обещание над свежей могилой: как бы ни расцвела хорошо жизнь в будущем, как бы легко и беззаботно ни было на душе у живых – никогда не забывать спящих в земле на зеленом пригорке, над речкой Каменкой.
И вот накануне второй годовщины освобождения хутора, как и в прошлом году под этот день, как и Первого мая, как и в День Победы, председатель колхоза распорядился выставить почетный караул из лучших стахановцев к братской могиле.
…Первым полагалось стать в почетный караул самому председателю колхоза, партизану, орденоносцу Степану Гринчаку, но так как следующей по списку трактористке Наде Козубенко нужно было идти в бригаду и заступать на трактор в ночную смену и у него самого еще не все было распланировано в конторе с бригадирами на завтра, то он поставил первой на один час с вечера Козубенко.
Они пришли к могиле вдвоем: Гринчак – узкоплечий, с запавшей грудью, сутуловатый высокий мужчина средних лет. Надя – низенькая, полная, круглолицая молоденькая девушка. Выправкой не блистали оба, шли не в ногу – Гринчак в армии не служил никогда, а в партизанском отряде строевой подготовкой у них не занимались.
– Стой! – скомандовал вполголоса Гринчак. – Отойди немного дальше, на угол. Так… Повернись лицом к хутору. Так… Значит, постоишь, Надя, а через час я приду со сменой. Так…
Постояв минуту у памятника, не зная, что еще сказать часовому, Гринчак неловко, с винтовкой на плече, повернулся кругом и пошел через площадь к правлению колхоза.
Надя осталась у могилы одна. Вечерело. Солнце закатилось в синюю тучу на западе и вместе с нею уходило за горизонт. На темной воде реки под крутым берегом, обрыв которого начинался в нескольких метрах от братской могилы, всплескивала играющая в последних бликах вечерней зари рыба. По другую сторону памятника, сложенного в виде обелиска из серого дикого камня, простиралась широкая площадь. За нею виднелся хутор, одна улица, хаты направо и налево, силосная башня с высоким громоотводом на крыше, колодец с журавлем на колхозном дворе. Кое-где в хатах уже зажигались огоньки. Было тихо так, как бывает только на хуторе, окруженном на десятки километров безлюдной степью, где каждый одиноко родившийся звук – стон кулика на речке, свист крыльев пролетавшей над землею стайки диких уток, сонный лай собаки, скрип ворота колодца, где-то на выгоне за селением, – совсем, кажется, не нарушает безмолвия, а, бесследно теряясь в пространстве, лишь оттеняет собою широту и глубь земного мира.
«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»
В сумерках уже нельзя было разобрать высеченные на камне под этими словами имена, но Надя знала их на память.
Она повернулась лицом к могиле.
– Витя! Панас! Товарищ лейтенант! – проговорила Надя тихо. – С праздником вас.
Ей ответил лишь кулик под кручей на речке, да где-то далеко за хутором в степи послышался окрик пастуха, погнавшего волов на пастбище в ночь: «Гей! Гей!»…
…Это было два года тому назад. Когда фашисты задержались у полустанка и стянули туда все силы, в хуторе несколько дней совсем не видно было войск. Бои шли и справа и слева, особенно сильно гудело и сверкало по ночам у большой дороги, километрах в десяти от хутора, через головы хуторян пролетали снаряды с той и другой стороны, иногда проносились по улице гитлеровские танки и броневики, но не останавливались здесь. Хутор очутился, как говорят военные, в «нейтральной зоне».
И вот однажды ночью в окно тихо постучали. В хутор вошла разведка – лейтенант и человек десять бойцов. Потом лейтенант половину своих разведчиков отослал куда-то, а сам остался здесь с пятью бойцами. Видимо, он должен был продолжать наблюдения отсюда за движением немцев по большой дороге или получил приказ удержать хутор и не дать немцам его уничтожить в случае, если сюда наскочит небольшая группа поджигателей.
Разведчики жили в их хате. Хата стояла на окраине хутора, на бугре. Отсюда хорошо было видно во все стороны. Один из разведчиков дежурил все время на крыше, остальные сидели в хате в постоянной готовности принять бой в случае появления немцев. Надина мать предлагала постирать им белье и верхнее обмундирование, они отказывались. «Мы, мамаша, – говорил лейтенант, пожилой человек, уралец, бывший учитель, – можем всякую минуту так рвануть отсюда вперед, километров на сорок за день, что и гимнастерки не успеют просохнуть. Вот как собьют фрицев у полустанка, так и пойдем». Отказывались они от мягких перин и подушек в чистых наволочках, видимо боясь загрязнить их, и спали по очереди, не раздеваясь, на соломе, застланной плащ-палатками. Они давно оторвались от своей части и не имели запаса продуктов с собой, и единственное, от чего не отказывались, – от молока, вареников и борща со свежей капустой.
Среди разведчиков были два закадычных друга – украинцы Панас Недосека и Микола Передерий. И третий крепко запомнился Наде – Виктор Толоконников. Все были молодые, веселые ребята. Толоконников был донской казак, первое время войны служил в коннице, а после ранения под Ростовом отбился от своей казачьей части, попал в пехоту и все горевал по кавалерии. Он носил не пилотку, а черную каракулевую шапку-кубанку с ярко-красным суконным верхом, и когда выходили из хаты во двор, а в это время, случалось, где-то высоко под облаками пролетали немецкие самолеты, то боец Передерий кричал на него: «Эй, казак! Замаскируйся, ну тебя к бесу. Твою кубанку за три тыщи метров видно. Из-за тебя и нам фрицы всыплют». Толоконников был красивый парень, смуглый, черноглазый, статный, легкий в походке. Он лихо танцевал «барыню» и кавказскую «кабардинку» – без музыки, под хлопки в ладоши или под выстукивание ложками по котелкам. А маленький, коренастый, толстый и рябой Панас Недосека и его земляк-односельчанин долговязый, угрюмоватый на вид, вечно подтрунивавший над товарищами по любому поводу и смешивший их, но сам никогда не смеявшийся Микола Передерий чудесно пели.
Передерий все сватал Надю за своих товарищей и, расхваливая перед нею женихов, давал каждому из разведчиков меткие, смешные характеристики. Особенно советовал он ей выходить замуж за его земляка Панаса Недосеку: «Это же хозяин! Ты посмотри в его вещевой мешок – чего только там нет. И тот сухарь, что еще на Курской дуге получил, и старые подметки с тех сапог, что в Днепро закинул. С ним не пропадешь. Прокормит детишек. Скупость – не глупость. А работящий какой! Смотри, сколько уже гвоздей вам в стене понабивал. Верно сказано: солдату, если не дать гвоздей в стену набить, так ему и квартира не квартира. Аккуратист! Видишь, все на своем месте – котелочек, лопатка, противогаз. У него и в хозяйстве все будет в порядке. А что рябой – то ничего. Рябые, говорят, на любовь верные. Да и безопасно насчет того, что уж другие девчата не отобьют. Кто его, такую образину, полюбит?» Еще хвалил он крепко одного разведчика – Бобрышева, сибиряка. «За этим, Надька, будешь жить, как королева. Сам и борщ сготовит, и хлеб испечет, и котлет нажарит. Повар первой руки, по недоразумению в разведчики попал. Пять фрицев уже имеет на счету. К медали «За отвагу» представлен. Был женат, но развелся по закону, так что можно считать – холостой. А какие он пельмени по-сибирски умеет готовить, в собственном соку, на сливочном масле – язык проглотишь! Он тебя, Надька, раскормит – будешь толще нашего Панаса». Хвалил и себя – за спокойный, не ревнивый характер, хвалил и четвертого разведчика – дважды орденоносца узбека Умара Умарова. «Тысячу трудодней в год зарабатывал человек на хлопке. Повезет тебя в Ташкент – там у них яблок, урюка, винограда, ешь – не хочу». И предостерегал ее только, чтоб не влюбилась в Толоконникова. «Это такой лодырь, что и мышей ловить не будет. Щеголь, гуляка. Где ты видела из танцоров хороших мужей? Мот. Все приданое твое прогуляет и сам ничего не наживет. К тому же, скажу тебе по секрету, он у нас немножко порченый: когда служил в кавалерии, то часто с лошади падал, и теперь его иногда припадки накрывают – но ночам с койки падает, все думает, что препятствия берет». «Это я падал с лошади?» – отзывался Толоконников, приподнимаясь с соломенной постели, и завравшийся Передерий съеживался и быстро втягивал голову на длинной шее в плечи, как черепаха в панцирь при виде опасности.
А лейтенант часто беседовал с Надей о школе, спрашивал ее, в каком классе училась она до немцев, была ли в комсомоле – в комсомоле Надя не состояла, она была до войны еще пионеркой, – думает ли продолжать учебу, когда пройдет фронт и восстановится нормальная жизнь?
…Это были хорошие, незабываемо счастливые дни, когда жили у них разведчики – первые вестники свободы. К ним в семье Козубенков привыкли, как к родным. Пятеро бойцов стали для Нади как пятеро братьев, а лейтенант, пожилой, серьезный, с седыми висками человек, был как отец. Он оказался и годами ровесником ее отцу…
Уже видно было с бугра по усиливавшемуся движению на запад на большой дороге, что гитлеровцы удирают, бросая рубеж, на котором им не удалось закрепиться. Уже все реже слышались пулеметные очереди и разрывы снарядов у полустанка. Бой утихал. Лейтенант с наблюдательного пункта разглядел уже в бинокль залегшие цепи красноармейцев на высотках в излучине реки, там, где вчера еще были немцы. Фронт все глубже огибал хутор своими крыльями. Все кругом горело. Враги жгли села, скирды немолоченого хлеба и соломы. А этот маленький хуторок, затерявшийся в глуши, в стороне от больших дорог, они, казалось, совсем забыли. Но нет, не забыли. И этот хуторок был отмечен черным крестом на карте какого-то германского офицера, заведовавшего при войсковом штабе отделом превращения покидаемых советских территорий в «зону пустыни».
Утром шестого дня в хутор въехали по проселку два вездехода, битком набитые автоматчиками.
Дежуривший на крыше Толоконников заметил машины, когда они спускались с бугра к речке, к броду. Брод был глубокий, перейти через него машины не смогли. Часть автоматчиков осталась у машин, остальные, не раздеваясь, бросились в реку и перешли ее, держа автоматы над головами, по плечи в воде.
Толоконников кубарем скатился с крыши, пошел быстрым шагом в хату.
– Гость в хуторе, товарищ лейтенант! – доложил он с порога. – Гитлеровцы!
– К бою! – поднял лейтенант короткой командой отдыхающих разведчиков и, надевая на себя полевую сумку и автомат, пошел к двери.
– Палить хаты будут! Ой, лишечко, пропали мы, – заголосила Надина мать. – Не минула и нас лиха година. А что ж вы, хлопцы, будете делать? Куда вы? Да они ж вас всех перебьют. Такая сила! Идемте со мною, я вас в погребе под бураки спрячу или в скирду зарою, – может, не найдут. Пересидите, пока наши вступят.
Одну лишь секунду колебался лейтенант. Он окинул взглядом своих бойцов. Какая-то тень пробежала по его лицу.
– Не за тем, мамаша, прислали нас сюда, чтоб мы прятались по погребам, – ответил он и молча, наскоро, не сказав им ни слова на прощание, пожал руки старухе и Наде. – Шагом марш за мной! – повернулся к бойцам. Уже со двора крикнул он им: – Сами прячьтесь. Бегите на реку, в камыши. Если дойдут сюда – все равно хату не спасете. Хоть сами живы останетесь.
Мать стала перетаскивать вещи из хаты в погреб, а Надя убежала на соседний двор и, взобравшись на высокую кучу кукурузных бодылок, все смотрела в ту сторону, куда ушли задами усадеб, по канаве, заросшей вишняком, разведчики…
Уже на восточной окраине голосили бабы, кричали дети, кудахтали всполошенные куры, выли собаки. Уже запылала одна хата – Федосьи Якубович. Уже запылала другая хата – сирот Кравцовых. Гитлеровцы шныряли по дворам с горящими факелами в руках. Запылала третья хата, Козубенковых родичей материного брата, Ивана Морозова. Горели сараи, скирды… Потом вдруг послышался треск автоматов. Надя за последние дни научилась отличать по звуку советские автоматы от немецких. Строчили наши автоматы. Закричали немцы. До слуха ее донеслась лающая, отрывистая команда на чужом языке. Не видно стало ни одного немца на улице. Огонь дальше не распространялся. Горели все те же три усадьбы, трещали с перерывами автоматы, звонко, раскатисто щелкали винтовочные выстрелы. Часа два прошло так – слышно было, что разведчики ведут бой с поджигателями, но никто – ни немцы, ни они не показывались на открытых местах. Потом перестрелка стала утихать. Опять показались немцы во дворах и на улице. Загорелась четвертая хата – Марфы Якубович. И тут Надя увидела за речкой на бугре, далеко за вражескими машинами, маленькие движущиеся, перебегающие от куста к кусту фигурки. Один гитлеровец из оставшихся возле машин взобрался на кабинку и стал махать пилоткой над головой, крича что-то, но вдруг всплеснул руками и свалился в кузов. С бугра щелкнул винтовочный выстрел. Фашисты заметались. Часть их бросилась к реке, но с горы уже бежали красноармейцы, стреляли с ходу из автоматов и винтовок по машинам. Одна машина тронулась было, но вдруг круто вильнула передними колесами и опрокинулась набок. Враги кинулись назад по хутору, через сады, – в степь, но и там перед ними на кукурузном поле показались красноармейцы. Надя на скирде, дрожа от радости, подпрыгивала, смеялась, плакала, выкрикивала одно только слово: «Ага! Ага! Ага!..»
Еще через час она была на том краю хутора, где догорали подожженные гитлеровцами постройки, и увидела их всех, шестерых, у полусгоревшей хаты Марфы Якубович. Бойцы вошедшей в хутор части уже снесли их всех в одно место, под стену хаты… Длинный, долговязый Микола Передерий лежал как живой – ни единого пятнышка крови не было на его лице и руках. Пуля угодила ему прямо в сердце. Лейтенант перед смертью, видимо, долго мучился, почугуневшее лицо его было искажено болью, пальцы на руках скрючены, ноги сведены к животу судорогой. Большая рана в боку от разрывной пули еще сочилась кровью. Узбек Умаров застыл с удивленно поднятыми тонкими черными бровями. В руке его был зажат кусок ремня автомата – так крепко сжал его, умирая, что не вынули, пришлось обрезать ремень. Грузный, толстый Недосека лежал в большой луже крови с широко расстегнутым воротом рубахи и засученными по локоть рукавами, словно прохлаждался в тени хаты. Рябое, багровое, но уже принимавшее землистый оттенок лицо его все было испещрено мелкими белыми точечками – крупинками соли от высохшего в рябинках пота…
Хутор наполнялся войсками. Словно прорвало где-то запруду – шла и шла пехота, вброд, через реку, самые первые, спешившие, чтобы не оторваться от немцев, переходили реку, не раздеваясь и не скидая сапог, вторые эшелоны пошли уже вразвалку – раздевались, купались в речке, простирывали портянки. Идя по улице, бойцы, которым предстояло здесь остановиться на ночь, с приятным удивлением оглядывались по сторонам, переговаривались между собою: «О-о, а этот хуторок, ребята, целый! Как будто и фрицев тут не было. Четыре хаты только сгоревших. Тут поживем».
Надя побежала домой рассказать матери, что увидела на месте недавнего боя… Хутор наполнялся людским гомоном, грохотом колес, гулом моторов, ржанием коней. Задымили летние печки во дворах. Хозяйки варили, пекли, жарили. Обозники заезжали в сады, распрягали лошадей, маскировали их под деревьями. В хату Козубенков набилось опять полно бойцов. Были и среди этих и уральцы, и сибиряки, и украинцы, и кубанцы. Были шутники-балагуры, были женихи, начинавшие со сватовства. Были бойцы с орденами, с медалями, с гвардейскими значками. Но это были не те, самые первые. Те лежали там, на облитой кровью земле, у пожарища, под стеной полусгоревшей хаты, и для них уже рыли могилу в центре хутора, на площади… Надя, поплакав на плече матери, пошла обратно к ним и была подле них неотлучно, до последней минуты, пока привезли в хутор на санитарных повозках еще двенадцать убитых бойцов и уже вечером, в сумерках, положили всех, под салют из автоматов, в могилу и засыпали землею – вот здесь, на этом самом месте…
…Это все прошло в мыслях Нади Козубенко, пока она стояла в почетном карауле на площади, у памятника. Было это почти два года тому назад. Много воды утекло с тех пор. Вот и выросла уже она. Не девчонка – настоящая невеста. Комсомолка. И трактористкой стала, как советовал ей лейтенант Коржов. Вторую весну работает на машине. Много потрудилась и она для победы… Вспомнила Надя отца, брата, знакомых хуторских молодых ребят, погибших на фронте, которым не довелось отпраздновать вместе со всеми победу…
Легкий ветерок, чуть ощутимый на лице, как дыхание близко стоящего человека, донес из палисадников запах каких-то ночных цветов. По улице прошли двое, парень и девушка, слышны были молодые голоса, начатая с половины – «одержим победу, к тебе я приеду» – и незаконченная песня, смех, удаляющиеся шаги. Потом опять стало тихо. Журчал внизу родник, стекающий из-под горы в реку. Какая-то ночная птица пролетела над памятником, шумно взмахивая крыльями, закрывая на миг своим большим темным силуэтом звезды. Еще прошел кто-то по хутору с песней. Заиграла гармошка. Аромат цветов все гуще разливался в прохладном воздухе. Звезды горели ярко, не мигая. Ночь была светлая от звезд и чистого неба, свежая, тихая…
Когда Гринчак пришел к братской могиле с другим часовым, Кузьмой Гавриловичем Майстрюком, отцом Героя Советского Союза, погибшего и похороненного где-то в Белоруссии, первый часовой, трактористка-стахановка Надя Козубенко сидела на ограде памятника, положив винтовку на колени, и плакала, закрыв лицо руками.