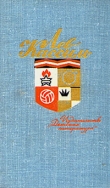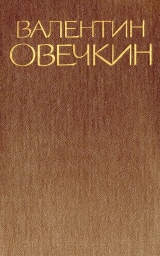
Текст книги "Собрание сочинений. Том 1"
Автор книги: Валентин Овечкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
В результате культа личности развивались такие уродливые явления, как замазывание недостатков, лакирование действительности, очковтирательство. У нас есть еще немало подхалимов, аллилуйщиков, людей, привыкших говорить по шпаргалкам, воспитанных на подобострастии и чинопочитании. Выкорчевывание и преодоление этих вреднейших пережитков культа личности составляют нашу безотлагательную задачу».
Но как, каким именно путем надо их выкорчевывать? Мы до сих пор боролись с бюрократами, комчванами, зажимщиками критики мерами, так сказать, усовещевательного характера. Стыдим их, уговариваем, главным образом через печать, измениться в лучшую сторону. Высмеиваем их в фельетонах, сатирических рассказах, пьесах. Помогает это пока что мало. Иной бюрократ даже с удовольствием почитывает «Крокодил» на сон грядущий – смешные картинки, веселенькие заметки, есть иногда даже над чем посмеяться, и главное, задевает это все только одного того человека, про которого написано, а остальным бояться нечего – их фамилия, занимаемая должность и адрес не указаны в заметке. На тысячу лет хватит «Крокодилу» вот так, поодиночке, возиться со своими клиентами.
Одних усилий печати в борьбе с бюрократизмом и всеми вытекающими из него прелестями – недостаточно. Надо создавать такие условия жизни, при которых бюрократам просто невозможно было бы усидеть на своих местах, организовывать вокруг них такую обстановку, чтоб земля под ними горела.
Но тут уже писательских прав не хватает. Тут нужны какие-то меры государственного порядка.
* * *
Много хорошего появилось в нашей газетно-журнальной публицистике за последнее время. Отделы публицистики стали в толстых журналах чуть ли не самыми интересными, во всяком случае, – боевыми, острыми. Много больших, жизненно важных вопросов подняли в печати журналисты, писатели. Но как иной раз туго движется дело! Бывает – пишем, пишем и статьи наши уходят, как вода в сухой песок. Или есть еще такая поговорка: как об стенку горохом.
Все помнят, как долго, два с лишним года, «Литературная газета» добивалась положительного решения вопроса о совместном обучении в средних школах. Общественность горячо поддерживала писательский орган, из Министерства же народного образования и Академии педагогических наук приходилось чуть не клещами вытягивать более или менее членораздельные отклики на статьи учителей, писателей, родителей.
2 августа этого года «Литературная газета» напечатала большую статью Б. Бродского на жгуче-злободневную тему нашей жизни – «Высшая школа и ее питомцы». В своей статье Б. Бродский, исходя из положения, что «вуз – это не только рассадник знаний, но и школа гражданственности, питомник демократических навыков нового общества», поднимает вопрос о возвращении к свободному посещению лекций, как было когда-то в старых высших учебных заведениях (не все старое – плохо!). Доводы Б. Бродского в пользу такого порядка посещения лекций – весьма убедительны.
«Достоинством свободного посещения лекций, – пишет он, – является то, что этот организационный принцип даст возможность углубленно заниматься отдельными областями знаний, стимулирует самоопределение студентом своих научных интересов и, что особенно важно, вырабатывает у него навыки самостоятельной и сознательной работы».
Возможно, если принять предложение Б. Бродского, последует несколько больший отсев студентов на первых курсах? Да, возможно. Но студенты это уже не дети, взрослые граждане. Если отсеются бездельники, не желающие в вузе приучаться к самостоятельной работе, которым и в двадцать с лишним лет на каждом шагу нужны няньки, наставники, опекуны, – туда им, в конце концов, и дорога. Зачем насильно вдалбливать человеку в голову науку, к которой он, может быть, кроме отвращения, ничего не питает? Какой же из него выйдет впоследствии врач, учитель или инженер – без любви к профессии?
А как будет с преподавателями? Не произойдет ли тут катастрофы? Вдруг совершенно опустеют залы некоторых аудиторий? Да, возможны и такие неприятности для кой-кого.
«Добровольно, – пишет Б. Бродский, – никто на скучную, серую, начетническую лекцию, каких у нас еще много, не пойдет, и тогда никакие связи, былые заслуги не удержат в вузе преподавателя, которого студенты не слушают».
Автор цитирует в своей статье К. А. Тимирязева, придававшего огромное значение влиянию студентов на преподавателей. Тимирязев писал, что подобная форма критики «преподавателей учащимися является более рациональным средством влиять на уровень преподавания, чем даже участие учащихся, через своих представителей, в выборах и прочей деятельности факультетов…»
Да, преподавателям придется бороться за аудиторию, как у нас говорят, «работать над собой», не халтурить, не пересказывать попросту учебники, делать свои лекции интересными, содержательными, действительно обогащающими студентов знаниями, – иначе очутишься не у дел и на твое место сама жизнь выдвинет другого человека, настоящего труженика науки и талантливого воспитателя молодежи. Что ж, все это только к лучшему.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать еще одно место из статьи Б. Бродского:
«Однажды – был такой случай – лектор по тетрадке прочел о том, что, согласно Гегелю, во главе государства «должен стоять монах». Один из студентов поинтересовался, как же происходит назначение или выборы такого главы государства, ибо у монаха, по-видимому, не бывает наследников. Лектор ответил: «Гегель был идеалист и в детали не входил». (Впоследствии выяснилось, что попросту машинистка, перепечатывавшая конспект, пропустила букву «р» в слове «монарх».) Таких преподавателей, – уверенно заключает автор, – введение свободного посещения лекций выметет, как метлой».
Если вдуматься, какое ответственнейшее место в нашей жизни на фронте идеологии и развития науки занимают вузовские преподаватели, учителя и воспитатели целого поколения молодежи, если представить себе весь масштаб вреда, причиняемого нам в этой области бездарными начетчиками, трусливыми попугаями и просто невеждами с мозгами, заплывшими жиром, – не так трудно понять, что Б. Бродский в своей статье поднимает вопросы чрезвычайно важные.
Вот с таких вещей практически и начинать бы дальнейшее расширение демократизации различных форм наших общественных отношений!
Прошло более месяца со дня напечатания статьи – никаких откликов от Министерства высшего образования в редакцию «Литературной газеты» не поступало. Всех волнуют вопросы, поставленные автором статьи «Высшая школа и ее питомцы», – кроме министерства, занимающегося вузами. Может быть, там статью Б. Бродского просто еще и не читали?
В двадцать третьем Ленинском сборнике, на страницах 7–9 приводится замечательная переписка В. И. Ленина с Г. М. Кржижановским и Н. Н. Вашковым по поводу статьи последнего. Инженер Н. Н. Вашков, заведовавший в ВСНХ электроотделом, напечатал в газете «Экономическая жизнь» статью «Электрификация России», прочитанную Владимиром Ильичем, при всей его занятости массой очередных государственных дел, видимо, с глубоким интересом и вниманием.
Ленин дал такую телефонограмму в ВСНХ:
«Электроотдел В. С. Н. X. тов. Вашкову.
Копия: тов. Кржижановскому.
(1 августа 1921)
Чрезвычайно благодарен Вам за статью «Электрификация России» в «Экономической жизни» от 10 июля.
В высшей степени важно, чтобы подобного рода сведения были время от времени помещаемы и в «Экономической жизни» и в общей прессе. Прошу Вас прислать мне, если у Вас имеются, следующие дополнительные сведения…»
Дальше шло много вопросов, интересовавших Владимира Ильича.
Ответ Г. М. Кржижановского Ленину начинался такими словами: «Дорогой Владимир Ильич! Ваше письмо Вашкову и на меня и на него произвело одинаковое впечатление: «если бы у нас побольше было таких читателей!..»
Партия всеми мерами поднимает политическую активность народных масс.
Мы, литераторы, осознаем свои задачи в этом деле так. Надо нам обращаться к самым насущным вопросам сегодняшней жизни, не страшась остроты и сложности затрагиваемых проблем. Если мы хотим по-настоящему помогать партии в быстрейшем восстановлении ленинских норм и принципов партийного и государственного строительства, то надо лезть за темами для боевой публицистики в самую глубину жизни. И надо нам, конечно, писать гораздо больше, чаще подавать свой голос на страницах газет и журналов.
Но надо, чтобы и читатели не молчали!
1956
С фронтовым приветом
1
Пассажирский поезд шел из Киева на запад, но был еще далеко от фронта. Таким ходом, каким двигался он, осторожно переползая временные мосты и свежие насыпи, подолгу простаивая у семафоров и на каждом разъезде пропуская вперед эшелоны с военными грузами, ему оставалось сутки, а то и двое тащиться к фронту. Перед глазами пассажиров расстилались запаханные поля, проходили кое-где по дорогам тракторы с повозками, груженными семенами, встречались бороновавшие и сеявшие на коровьих упряжках люди. Был май месяц.
В вагон набилось полно пассажиров, военных и гражданских. Люди лежали и на полу под полками, и на багажниках под самой крышей. В проходах еле можно было протискаться между узлами. Проводница на станциях, отбиваясь перед закрытой дверью вагона от наседавших новых пассажиров, кричала со ступенек:
– Некуда! Проходите дальше!
– Да мы постоим где-нибудь.
– Негде, негде! Свои от самого Киева стоят, как гуси, на одной ноге. Сколько можно стоять на одной ноге?
– Так хоть меня пропустите. Я же отсюда, из вашего вагона. На базар ходил.
– Отсюда? – проводница подозрительно оглядывала молодого красноармейца с рыжими редкими, торчащими по-кошачьи во все стороны усами, недавно, видимо, отпущенными, и обращалась за подтверждением к пассажирам: – Наш?
– Наш, наш! По усам приметили. От самого Фастова едет.
Следом за бойцом в тамбур прорывались две-три женщины с мешками. С каждым перегоном становилось все теснее.
От тесноты и духоты разговоры в вагоне велись в несколько повышенном тоне.
– Слышь, парень! – кричал кто-то сверху бойцу, пробиравшемуся на свое место по спинам и коленям пассажиров. – Продай усы на мочалку. Приедем в полк – в баню схожу.
Кто-то тянул кого-то за сапог с багажной полки.
– Вот же совесть у человека! Третьи сутки спит, сгниет скоро со сна, а тут уже ноги опухли от стоянья. Эй, друг, проснись! А ну-ка, давай поменяемся местами. Встань, разомнись маленько.
Двое бойцов, умостившись рядом на одной полке, никак не могли уснуть и толкали друг друга.
– Какого черта вертишься? Лег, так лежи тихо. Вертится и вертится, будто шило у него в спине. Чего тебе – жестко? Может, перину подостлать?
– Да котелок ползет.
– Котелок! А ты и догадался, что подложить под голову. Конечно, две пустые посудины одна на другой лежать не будут. Повесь его, возьми вот скатку.
И лишь в тех купе, где пассажирам удалось разместиться удобнее, слышались спокойные дорожные беседы: о втором фронте, о рыночных ценах в Донбассе и Днепропетровщине, о хороших и плохих продпунктах, щелканье костяшек домино о крышки чемоданов, смех и даже песни.
Ох ты, милая моя,
Уся пасека твоя!
И за пасекой рой,
И тот будет твой! —
откалывал кто-то под аккомпанемент балалайки в дальнем конце вагона.
Капитан Спивак возвращался после ранения на фронт в часть. Сделав постель на второй полке из шинели, полевой сумки и вещевого мешка, он лежал, закинув длинные ноги на подпорку багажника, и то глядел часами в окно, то спал, то принимался в десятый раз перечитывать газету, купленную в Киеве. У капитана болела голова от сутолоки в переполненном вагоне. Спивак воевал третий год, но за всю войну ехал железной дорогой в пассажирском поезде впервые. Так пришлось ему, что весь свой путь – с Украины через Перекоп в Крым, оттуда на Кавказ, с Кавказа на Волгу и с Волги обратно на Украину – он проделал пешком, воевал больше в степях и лесах, минуя большие города, а если проходил города, то когда они еще горели и у разрушенных вокзалов слышались не паровозные гудки, а винтовочные выстрелы. Железные дороги он запомнил такими, какими они были до войны: чистые, с запахом свежей краски выгоны, электрический свет в каждом купе, действующие в обоих концах вагона умывальники, вежливые проводники, точное, минута в минуту, движение поездов. Он даже спросил по старой памяти проводницу, входя в вагон: «Курящий?», на что та, удивленно взглянув на него, ответила сердито: «Курящий. Еще спрашивают… Откуда едете, товарищ капитан? Не с Дальнего Востока?» Спивак, ко многому привыкший на фронте, не привык к прифронтовым железным дорогам просто потому, что не имел еще с ними дела. Он лежал и возмущался про себя тем, что в глухой степи у семафоров поезд простаивает часами, а на станциях с базарами никто не может сказать, через сколько минут дадут отправление, только доберешься до выхода – гудок; сердился на окно, будто вросшее в раму, – три года, должно быть, не открывалось, и ремни оторваны, потянуть не за что; морщился, потирая пальцами жесткую щетину на подбородке, – негде побриться, нет воды в умывальнике.
В купе под его полкой сидели: молодой боец с рыжими усами, старуха с девочкой лет четырех на коленях, возвращающиеся из эвакуации куда-то к границе, две женщины средних лет, одна, судя по ее рассказам о школах и учениках, учительница, едущая с назначением Наркомпроса куда-то на работу, другая – жена майора, ездившая навестить мужа в госпитале, старик лет семидесяти в красноармейской шинели, купленной, вероятно, у какого-то бойца или подаренной ему кем-то, и два инвалида – один без руки, другой на костыле, с обезображенным багровыми шрамами лицом, слепой. Инвалиды заняли места в углу у окна, держались обособленно, тихо, немногословно разговаривали о чем-то своем, не вмешиваясь в общую беседу. Однорукий, видимо, не привык еще к своему увечью. Слепой крутил ему папиросы и вскрывал финкой консервные банки – у него на ощупь это получалось лучше, чем у товарища с одной рукой. Зато однорукий бегал на остановках за кипятком и молоком, читал слепому газету, помогал ему выходить из вагона.
Из-за стука колес до слуха капитана Спивака доносились снизу лишь обрывки разговора, не задерживающие его внимания.
Закрывшись газетой от солнца, светившего в окно, и поводя взглядом по лицам пассажиров, Спивак прикидывал мысленно, сколько времени будет он еще ехать в этом вагоне, сколько километров предстоит ему трястись на перекладных машинах к фронту и где он может найти сейчас свою армию; вспоминал жену и детей, которых удалось ему повидать дома после госпиталя, перебирал в памяти некоторые встречи и разговоры в родном селе на Полтавщине, откуда ехал сейчас; доставал из вещевого мешка домашние сдобные коржики и от нечего делать жевал их, запивая теплым прокисшим молоком из фляги.
На какой-то непредвиденной остановке из вагона вышло много народу, в купе стало вдруг просторно и тихо. Поезд стоял на перегоне, в лесу. Спивак тоже вышел, походил по насыпи, спустился к ручейку, протекавшему под железнодорожным мостом, разделся до пояса, умылся и, вернувшись в вагон на свою полку с посвежевшей головой, стал внимательнее прислушиваться к беседам внизу. Поезд не двигался, колеса не стучали, шум не мешал следить за нитью разговора.
Говорила одна из женщин, учительница. Речь шла о довоенной жизни, о войне, потерях. Женщина рассказывала о своей семье:
– Нас было три замужних сестры и четыре брата. Братья и я с меньшей сестрой жили вместе со стариками. В разных квартирах жили, но в одном доме. По праздникам всегда сходились обедать к старшему брату Дмитрию. Восемнадцать человек садилось за стол. Все знакомые завидовали нам: какая хорошая, дружная семья. Отец наш был машинист-железнодорожник, а братья работали на заводе. Сестры учительствовали. Хорошо жили. И что же осталось от нашей семьи? Старшая сестра, с детьми и мужем, погибла в первые дни войны в Ковеле. Дмитрий ушел в партизаны, никаких вестей нет о нем, осталось трое детей. Отец погиб на железной дороге при бомбежке. Еще от одного брата нет вестей, прислал последнее письмо из-под Смоленска при отступлении, и больше ничего не слыхали мы о нем. И я от своего мужа не получаю писем уже полгода. А меньшую сестру Варю, которая со мной жила, известили ошибочно с фронта, что муж ее убит. Год жила одна, потом вышла замуж за другого. И муж недавно вернулся – инвалид, без ноги: попал под Минском в окружение в сорок первом году, остался в лесах, партизанил там. От второго мужа у Вари есть уже ребенок, от первого – двое. С кем жить, кого бросать?..
– У меня, мадам, трое сыновей было, – сказал старик в солдатской шинели. – Один, меньший, воюет, а двух уже нет. Старший в Крыму погиб, другой в госпитале умер в нашем городе, на моих руках. Вот память о нем осталась, шинель его ношу… Я, знаете ли, перед войной совсем было собрался уже на отдых. Сыновья выросли, все при месте, получают приличное жалованье. Говорят мне: «Папаша! Нам совестно, что ты такой старый, а работаешь. Переходи на пенсию, купим вам с матерью домик на окраине с садочком (мы в Нежине жили), будем помогать вам гуртом – прокормитесь. Много ли вам нужно?» И я так думал – много ли нам, старикам, нужно? В аккурат весною сорок первого года стали подыскивать такой домик с хорошей усадьбой, чтоб можно было пожить в нем на старости лет тихо и спокойно, как на курорте. И вот остался – ни сыновей, ни дома. И трое маленьких внучат на моих руках. Об отдыхе теперь нечего и думать. Жить надо. Тянуться в нитку, а жить и работать. Не для себя, так для внуков. Моя кровь. Кто их в люди выведет? Не отдавать же в детдом при живых дедушке-бабушке. Одна надежда на третьего – может, Саша вернется. А мне уж немало, семьдесят второй пошел. Я сам по специальности портной-закройщик. Работа не тяжелая, но слабость одолевает. Как будто ничто не болит, а силы нет. По разным домашним предметам замечаю, как я ослабел за последнее время. Ведро угля весит, скажем, пуд, а мне оно уже за трехпудовое показывается. Также, если идти на большое расстояние, ходок я уже плохой. А прожить мне надо теперь самое малое еще десять лет, чтобы внуков воспитать. Старшему восьмой год. Когда он ума наберется? Да и еще, может быть, привезу малышей… Я сейчас еду дочку разыскивать. У нас еще дочь была, вдова, с двумя детьми, в Изяславле. При немецкой оккупации как в воду канула. Еду навести справки. Может, выехала куда-нибудь, а может, погибла – она была член партии. А может, ее самой нет в живых, а внуки в детдоме каком-нибудь… Вот так. Думал: пожил, потрудился, детей вырастил – можно и помирать. А оно само дело заставляет еще жить. Я уж и курить бросил. Сорок лет курил трубку – бросил. Не из экономии денег, а просто ради здоровья. Стал даже гимнастикой заниматься, по системе Мюллера. Потихоньку от старухи. Увидит, подумает: захотел старый хрыч помолодеть. А что ж, приходится всякими способами сил набираться. Знаменитый ученый Мечников, говорят, простоквашей свой век продлил, по стакану простокваши ежедневно натощак выпивал – для уничтожения каких-то микробов в желудке, от которых прежде времени старость наступает. Ну, у нас коровы нет, а на базаре покупать простоквашу дорого, так, думаю, может, хоть от холодных обливаний кровь будет лучше циркулировать. Насчет микробов – не спорю, возможно, что именно от них организм портится, но, по-моему, старость еще и от застоя крови…
Никто в купе не посмеялся над семидесятидвухлетним физкультурником, и он сам рассказывал о своих немудреных изысканиях в области продления человеческой жизни серьезно, без улыбки.
– Вам, папаша, надо пожить не только для внуков, – сказала жена майора. – Интересно и самому увидеть, как будет восстановлено опять все, за что ваши сыновья положили головы.
– Интересно, конечно, – согласился старик. – Нам-то оно уже не ново, мы знаем, какой была жизнь до войны, а все же увидеть ее еще надо… Но мне кажется, мадам, что Днепрогэс скорее построят заново, чем моя внучка Катя забудет о бомбежках. До сих пор кричит ночью во сне: «Мама, летит! Мама, летит!»…
Спивак лежал, слушал и отмечал про себя, что, видимо, чем ближе подходит дело к концу войны, тем больше люди думают о личных судьбах, о разбитых семейных очагах, о легших на плечи народа тяжелых задачах восстановления, о поправимых и непоправимых последствиях войны. Много похожего на этот вагонный разговор он слышал и дома, в селе.
– Как хочется уже спокойной, мирной жизни! – сказала, вздохнув, жена майора. – Не просто хочется, чтобы кончилась война, а хочется именно, чтобы вернулось все, как было раньше.
– Так не будет теперь, – ответила учительница.
– Почему?
– Точно так не будет. Мы с вами – не те. Я чувствую по себе, что уже не буду такой веселой и беззаботной, какой была до войны.
– Я говорю, гражданка, о простых вещах: мне хочется увидеть опять громадные привозы на базарах, хлеб двадцати пяти сортов в булочных, продавцов в накрахмаленных халатах, фонтаны в скверах, милиционеров в белых перчатках.
– Это-то будет…
Инвалиды, пользуясь остановкой, обедали за столиком в своем углу, разговаривали вполголоса о чем-то фронтовом: вспоминали какого-то лейтенанта Кудрю, которого контузило в то время, когда он сидел в блиндаже и ел колбасу, поджаренную на сале, и с тех пор человеку отшибло аппетит на все мясное; говорили о боях под Каневом, о какой-то переправе, о забытых где-то вещах и документах.
– Куда едете, ребята? – спросил старик в шинели. – Видно по вас, что отвоевались уже, а путь держите на запад.
– Были на его родине, – указал однорукий на слепого, – в Дарнице, за Киевом, а теперь едем ко мне в село.
Однорукий уложил остатки провизии в вещевой мешок, смахнул рукавом гимнастерки хлебные крошки со столика. Слепой скрутил две папиросы – себе и товарищу.
– Приехали в Дарницу, – стал рассказывать однорукий, – пришли на ту улицу, где он жил, он-то не видит, что там, а я смотрю – ни одного дома целого нет. Он говорит: «Считай, третий от угла». А где он, третий? Кучи кирпичей. Походили, походили, встретили одного его знакомого. «Нет, говорит, Петро, твоей родни никого». У него там мать была и сестренка – погибли. Дарницу крепко бомбили: мост близко, переправа – заманчивое место. Воронка на воронке. Ну, что ж, говорю, поедем, Петро, ко мне, будешь у меня жить. Я от своих письма получал на фронте, мои живы. Поедем, говорю, брат сержант… Мы с ним в одном расчете были, пулеметчиками. Два года вместе воевали. От Владикавказа до Канева дошли. Он меня от смерти спас. Вынес меня, раненного, когда пулемет наш разбило снарядом. Самого в ногу осколком задело, а меня не бросил, вынес в балку. А потом вернулся обратно и попал под танковую атаку, тут и его покалечило. Так как же нам теперь расстаться?.. Мы в госпитале далеко были, на Черном море, в Сочи. По пути к нему первому заехали. Ну, раз такое несчастье у человека, нет ни дома, ни родни, поедем, значит, ко мне. У меня мать – хорошая женщина. За то, что меня в бою не покинул, от смерти спас, она его, как родного сына, примет. Проживем как-нибудь. Я грамотный, шесть классов окончил, обучусь писать левой рукой, буду работать в колхозе учетчиком. Ему тоже дело найдется. Пусть сидит дома на хозяйстве, хату стережет. Получит пенсию, колхоз будет помогать. За что человек потерял здоровье? За весь советский народ.
Поезд, сильно рванув, тронулся. Опять застучали колеса на стыках рельсов, все быстрее и быстрее, громче и громче. Разговор стал доноситься до Спивака невнятно. Что-то говорил другой инвалид, поворачивая слепое, изуродованное шрамами лицо к товарищу; говорил солдат с рыжими усами; что-то рассказывала старуха с девочкой на коленях, – капитан улавливал лишь отдельные слова.
Под стук колес и покачивание вагона Спивак стал опять дремать, потом перестелил под собою поудобнее шинель и плащ и заснул еще на несколько часов.
Проснулся он от шума и смеха под вечер, на следующей большой остановке. Люди внизу сидели другие. Где-то сошел старик в солдатской шинели, высадились инвалиды, не видно было учительницы. Пассажиров не убавилось, в вагоне стало еще тесней, но лица были новые: какие-то молодые женщины, одна в белом берете, другая в вязаном пуховом платке, бойцы в форме пограничников, железнодорожники из ремонтной бригады.
Беседой и общим вниманием в купе завладел новый пассажир – рослый краснощекий человек лет тридцати, в сером костюме, в шляпе и в спущенных гармошкой хромовых сапогах с подвернутыми голенищами. Пассажир живо подхватывал любую тему разговора, обнаруживая большую осведомленность и в рыночных ценах, и в марках немецких бомбардировщиков, и в женской психологии, сыпал беспрерывно прибаутками и анекдотами, от которых одни смеялись, а другие морщились и отворачивались.
Спивак смутно припомнил, что видел сквозь дремоту, как этот парень лез в вагон, проталкивая впереди себя женщину в белом берете, волоча бесцеремонно, прямо по ногам пассажиров, чемоданы.
Укладывая тяжелый чемодан на багажник, парень в шляпе ворочал его одной рукой и чуть не уронил. Спивак обратил внимание, что правая рука его была искривлена в кисти, но почему-то решил, что это у него не от ранения, а какое-то старое, еще, может быть, довоенное увечье или природный изъян. За эту свою поездку домой Спивак много встречал в тылу фронтовиков, уволенных по чистой. Он узнавал их по остаткам военной формы, по вылинявшей гимнастерке или пилотке, по выправке, медалям, гвардейскому значку, с которым многие и дома не хотят расставаться. Таких фронтовых отметин не видно было у пассажира.
Прислушиваясь к разговорам новой компании внизу, Спивак несколько раз уловил брошенное парнем в шляпе выражение: «Все равно война», – ходячее выражение, которого он терпеть не мог, и, нахмурившись, отложив в сторону газету, взятую было опять из-под головы, повернулся на бок, лицом внутрь купе. Он почувствовал, что не выдержит и вмешается в вагонную беседу, принявшую совсем другой тон, чем несколько часов назад. Неприязненно глядя сверху в затылок пассажира в шляпе, склонившегося к женщинам, Спивак решил про себя: «Еще три раза скажет: «Все равно – война», – слезу с полки».
Разговор шел (рассказывал пассажир) о том, как в каком-то хуторке на Киевщине матери, чтобы спасти своих дочерей от мобилизации в Германию, сами якобы заставляли их приглашать к себе единственного оставшегося у них мужчину, парнишку лет семнадцати. Целью было – получить медицинское свидетельство о беременности, освобождавшее женщин от мобилизации. Тому прошло уже два года. Пассажир рассказывал со смехом. Теперь, мол, на хуторе сплошная родня – братишки да сестренки по отцу. А парня угнали в Германию. Других спасал, сам не спасся.
Женщина в белом берете спросила: что же будет, если этот парень вернется из Германии домой? Как все устроится? Ну, на одной, может быть, женится, а с другими как?
– Спишется на войну, – рассмеялся пассажир. – Мало ли каких случаев не бывает сейчас. Поладят как-нибудь. Сейчас ревновать не приходится, при таком недостатке мужчин. Надо поделиться друг с дружкой теми, что остались. Война!
«Раз», – засек про себя Спивак.
Пассажир долго разбирал, бросая игривые взгляды на женщин, различные варианты, как можно поладить. Особенно часто оборачивался он к пассажирке в белом берете, слушавшей его не без интереса.
– Сколько ж их, бедных девчат, угнали немцы! – вздохнула старуха. – У меня сестра в Полтаве – двух дочек угнали у нее и внучку. А другая внучка только тем спаслась, что бешеная собака ее покусала. Доктор знакомый делал ей уколы и справку выдал. Не взяли, осталась дома. А тех не слышно… Спасут ли их наши, когда дойдут до Германии? Там же сейчас что делается, бомбежка какая! Содом-Гоморра! Вот так пропадет дите на чужбине безвестно, и все будешь ждать: может, вернется?..
Поезд стоял на какой-то небольшой станции с разрушенным вокзалом и сухими, опаленными огнем тополями вокруг кирпичных развалин.
– Опять застряли, – сказал кто-то. – Не обгоняет никто, и встречного не слышно, а стоим.
– Жинка дежурного молоко продает, – сказал боец с рыжими усами. – Еще не расторговалась. Один пассажирский поезд в сутки: не продать сегодня, до завтра прокиснет.
Все рассмеялись. Улыбнулся и Спивак.
За окном послышался продолжительный свисток главного.
– Поехали!
– Расторговалась?
– Кончила. Выручку подсчитывает…
– Раз поехали, то надо по сему случаю закурить, – сказал пассажир в шляпе, вытаскивая из кармана портсигар и сложенную гармошкой в длину папиросы газету.
– Да хоть бы не все разом! – взмолилась старуха. – Стоял поезд, не могли выйти на двор покурить, а тронулся, опять за цигарки. Дышать уже нечем!
– Ничего, мамаша, самосад-корешки прочищает грудь-кишки, – сказал боец с рыжими усами. – Это вроде дезинфекции. Всех клопов и вшей поморим в вагоне, ежели имеются таковые.
Пассажир в шляпе был, видимо, разъездным агентом по снабжению какого-то завода или треста. Судя по его рассказам, он много краев объездил: Донбасс, Харьковщину, Запорожье, Киевщину, много видел и слышал. Но видел он все как-то однобоко, лишь с интересующей его стороны: со стороны гостиниц, вокзалов, ресторанов. Харьков после немцев в его описании выглядел городом частных кондитерских и пивных: «Чего хочешь подадут, хоть птичьего молока, но, конечно, денежки надо иметь». В Киеве дешевая водка, нигде на Украине дешевле не найдешь. В Ворошиловграде ему удалось ловко устроиться с билетами на московский поезд: познакомился с одной железнодорожницей, которая говорила ему, что он очень похож на ее мужа, мобилизованного на восстановление дорог в прифронтовой полосе, – теперь билет оттуда в мягкий вагон обеспечен на любое число. Харьков, кроме кондитерских, понравился ему еще банями своими.
– Бани там – красота! Зайдешь в номер – как в квартиру: две комнаты, вешалка, диван, столика только нет посредине с самоваром. Семейные номера. Приводи в номер кого хочешь. Раньше не было их, а сейчас разрешили… Война! Все равно!..
– Два! – отметил, раздражаясь все больше, Спивак и, кажется, произнес это вслух, потому что парень в шляпе, подняв голову и посмотрев на него, спросил:
– Что говорите, товарищ капитан?
– Ничего, – ответил Спивак. – Километры считаю. Продолжайте.
Но пассажир, заметив пристальный взгляд капитана, стушевался. Рассказав еще один безобидный дорожный анекдот, к которому нельзя было придраться, он умолк, достал из чемодана книжку, принялся читать. Спиваку, обдумавшему хорошую отповедь неприятному пассажиру, стало даже досадно, что тот молчит и не повторяет больше своей поговорки. Заряд пропадал даром.
Поезд опять остановился. За окнами послышались выкрики: «Пирожки с маком! Яичек вареных! Семечек! Кому семечек?» Усатому бойцу удалось наконец, поддевая снизу финкой, открыть окно. Пассажир в шляпе высунулся, подозвал девочку, купил у нее семечек, стал угощать женщин. Все принялись грызть, собирая шелуху кто в горсть, кто в носовой платок. Пассажир, читая книжку, плевал прямо на пол, однако не на видное место, а за чемодан. Кто-то сказал: «Проводница будет ругаться, что насорим». Парень махнул рукой: «Ничего, тут и без нас уже сору по колено. Выметут. В военное время за это не штрафуют». «Можно считать, – три», – решил Спивак и нагнулся с полки.