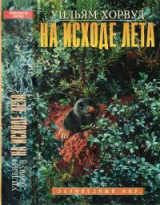
Текст книги "На исходе лета"
Автор книги: Уильям Хорвуд
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Грайк был скорее хитер и коварен, чем умен, но его преданность не знала границ. Чтобы удовлетворить его адскую похоть, ему присылали кротих из близлежащих систем. Хуже того, соблазненные рассказами о вернском могуществе, влекомые чарами, природа которых до сих пор остается скрытой в вернских писаниях, кротихи сами приходили спариться со зверем по имени Грайк. И от них он произвел страшное семейство кротов, крепких, коренастых и похотливых, с не знающими жалости когтями и одним убеждением: «Закон – это Слово, и, следуя Слову, мы всегда правы».
Сыновья Грайка стали первым поколением грайков, и от его семени произошли все остальные грайки, и до сего дня кровь Грайка легко распознать в кротах, презирающих это свое родство. Грайки были мутантами от крови Сцирпаса, они пришли из темноты вернских холмов, от рождения унаследовав жестокость и страсть к насилию, и их единственной верой была покорность Слову и беспрекословное подчинение сидимам, для служения которым они были вскормлены.
❦
Все это Хенбейн прекрасно знала, хотя к ее времени роль сидимов и грайков изменилась и значительно расширилась. Хенбейн рассказывали эту легенду как историю, прославляющую Сцирпаса, а также придающую грозное величие Слову. Но теперь, обдумав ее заново, Хенбейн поняла, что подобно тому, как капля яда может отравить глубочайший колодец, так и две группы кротов – одна из фанатичных и ограниченных последователей Слова, а другая из их безжалостных слуг – отравили весь некогда прекрасный и спокойный кротовий мир.
Но с этим ужасным прошлым Хенбейн уже смирилась, благодарная хотя бы за то, что, насколько она знала, в ее жилах не течет кровь грайков. Впрочем, это было слабое утешение в той глубине мучений, которые терзали ее по ночам. Ведь ее кровь была кровью Руна и страшной Чарлок, а ее наследство – царство Сцирпаса.
Но если на ней это клеймо, как же вырваться отсюда? И куда бежать? Эти вопросы не имели ответа. Теперь Хенбейн не могла отделаться от мысли, что древние традиции, темные искусства, которым ее учили в детстве, заставили ее испортить и то единственно чистое, что она создала за всю свою жизнь, – Люцерна.
Да, она растлила его. Растлила своим телом, своей кровосмесительной лаской, когда все свое детство и юность, а потом и начало взрослой жизни он мог прикасаться к матери и обращаться с ней так, как может только любовник. Она сделала с ним то, что в свое время сделали с ней ее родители.
Но Хенбейн знала о себе и худшее. Когда Люцерн чуть подрос, но еще не вымолвил свое первое слово, она, прекрасно сознавая, что делает, выбрала ему наставника – Терца, старшего и самого омерзительного из Хранителей.
Терц любил молодежь. В самом деле, все служившие ему сидимы были юны, все умны, а некоторые просто прекрасны. Казалось, само Слово направляло его карьеру к единственной цели: стать достойным наставником для одаренного, способного на величайшее зло юноши – Люцерна.
– И все же он не был порочен, пока к нему не прикоснулся этот крот Терц… – прошептала Хенбейн, когда в самые мрачные воспоминания о поступках, которые уже не исправить, вкралось это: совершенно сознательно она отдала своего единственного детеныша Терцу…
Листы, хранящие сведения о появлении Терца в Верне, были уничтожены – возможно, самим Терцем. Протоколы собраний Хранителей, где его сделали Двенадцатым избранным, ликвидировал он сам. Все записи, относящиеся к роли Терца как Хранителя и наставника Люцерна, были «затеряны» – тоже дело его лап.
Но хотя бы в общих чертах мы кое-что знаем о прошлом Терца. Он родился в Крее, что чуть севернее Верна, в скромной семье, имена его родителей остались неизвестны. Избранный своим предшественником, он всего за восемь дней твердо заучил свою самую трудную Истину – Двенадцатую. Чтобы обуздать честолюбие и гордость Терца, ему дали задание: укрепить дисциплину среди уорфедейлских грайков-гвардейцев. Его единственная просьба – дать ему помощника – была удовлетворена, и, как выяснилось позже, роковым образом. Выбранного Терцем крота звали Лейт, и он был идеальным исполнителем. Жестоким и неразборчивым в средствах был этот крот, и не было у него большего желания, чем служить тому, кто даст ему власть, причем власть прочную. О да, эти двое выполнили задание и навели среди грайков порядок! Хуже того, они добились власти над ними: одни говорят, с одобрения Руна, другие говорят – без его ведома. Но получилось так, что в долгие дни, пока Хенбейн со своим полководцем Рекином и адъютантом Уидом захватывала южную часть кротовьего мира, Терц добился власти среди Хранителей. Умный Терц остался незамаранным, когда Хенбейн после смерти Руна стала Госпожой Слова, и он первым предложил свою службу Хенбейн.
– Позволь мне стать наставником твоего сына Люцерна, – попросил Терц, – я научу его такому, на что не способен никто, кроме тебя самой.
– Он станет Господином Слова после меня, – ответила она.
И Терц согласился – что да, станет. Ибо как Лейт не имел желания занять место Терца – он гордился своей ролью тени, – так и Терц не собирался бороться за власть с нынешней ее обладательницей. Не собирался бороться для себя. А вот для Люцерна – совсем другое дело. На это он пойдет.
– Можно мне взглянуть на детеныша, Госпожа?
И Хенбейн велела привести молчаливого и робкого Люцерна к грозному старшему Хранителю.
Терц внимательно осмотрел малыша и протянул лапу.
Люцерн не дрогнул от прикосновения Терца, а подарил его блестящим, гордым взглядом.
– Я хотела бы, чтобы он постиг твою Истину, – сказала Хенбейн.
Терц продолжал внимательно смотреть. Люцерн не отвел глаз. Терц улыбнулся, и Люцерн улыбнулся в ответ. Терц с удовлетворением отметил, что малыш не боится.
– Он прекрасно усвоит ее, – сказал Двенадцатый Хранитель. – Я научу его всему, что знаю сам.
– И сделай это со всей суровостью, как некогда учили меня, – велела Хенбейн. – Но пусть он по-прежнему видится со мной.
– Отдай его мне в Самую Долгую Ночь, Госпожа, – попросил Терц, – и я подготовлю его, чтобы он стал Господином Слова, первым среди равных, выше всех, кроме тебя.
– Пусть в учебе у него будут товарищи. У меня в детстве их не было… и теперь я жалею об этом.
– Я выберу ему хороших товарищей. Но только двоих, как предписывает традиция. И еще, Госпожа… – Терц замолк, словно не решаясь сказать.
– Говори прямо, Хранитель.
– Госпожа, пусть он сосет твое молоко и выйдя из младенческого возраста. Это привяжет его к тебе крепче, чем любые слова, а в конце концов заставит ненавидеть тебя, и эту ненависть я обращу против камнепоклонников. В подобных делах Двенадцатая Истина сделала меня мастером.
– Мне известно это, – сказала Хенбейн, – я сама колебалась, отлучать ли его от сосцов. И теперь не отлучу – да он, похоже, и не хочет этого. Он до сих пор спит у моего соска. Значит, до Самой Долгой Ночи, Терц, а потом я отдам его тебе.
Оставив Госпожу Слова с ее детенышем, Терц услышал за спиной отвратительный рефрен:
– Подойди, пососи меня, любовь моя.
Как же радостно он улыбнулся! Что крылось за этой улыбкой и как перед смертью Рун обсуждал с Терцем свои замыслы, чтобы увековечить свое имя, нам предстоит еще рассказать. Этого Хенбейн не знала. Но она была права, чувствуя, что в Терце глубоко укоренился порок и что Двенадцатый Хранитель таит в душе неслыханные кощунства и зловещие замыслы, достойные времен самого Сцирпаса. О да, мы еще не раскрыли до конца всю глубину его зла. И какими же ничтожными могут показаться силы добра, если – пока речь идет о Верне – его единственным поборником выступает сама погрязшая в пороках Госпожа – Хенбейн.
Терц улыбался, потому что видел, как претворяются в жизнь замыслы Руна. Замыслы, в которых Хенбейн отводилась еще более гнусная роль, чем до сих пор. Они распространялись и на ее сына Люцерна, и на нее саму, но главное место отводилось Руну, Отцу всех кротов. Его миссия уже выходила за пределы роли Господина, и его слава никогда не сможет быть развенчана. Первое место в этом священном ряду желал занять Рун, последнее, очевидно, захочет Хенбейн, хотя, похоже, уже тронутая каким-то новым светом.
Поэтому трепещите, кроты, от невидимой улыбки Терца, когда Хенбейн заговорит о кормлении Люцерна своим молоком. И надейтесь, что Камень все же отыщет защитника добра посильнее, чем нам пока довелось видеть.
❦
Обезумевшая Хенбейн бродила по тоннелям, в каждом встречном видя упрек, а Верн тем временем погрузился в хаос. Июнь – беспокойный месяц, в июне сидимы готовятся к обряду посвящения послушников, переживших Лабиринт, и этот обряд приурочивается к Середине Лета.
Все это требовало внимания и одобрения Госпожи Слова, и здесь Хенбейн сохраняла свою власть – и знала об этом. Ибо без выполнения обряда младшие сидимы не считались сидимами, и захват власти, который замышлял Люцерн, опираясь на молодежь, был бы затруднен. Да и сам он еще не был помазан, хотя многие, включая Терца, убеждали Хенбейн, что Люцерн не должен подвергаться испытанию Середины Лета – риск мог оказаться чрезмерным.
При всем своем кажущемся безумии Хенбейн сознавала глубину своей власти и понимала, что сидимы не признают Люцерна, пока он не пройдет обряд посвящения. Потому они мирились с ее безумием и блужданием по тоннелям, когда она скребла когтями священные стены Высокого Сидима, вызывая Звук Устрашения и крича что-то про кровосмесительство, двоих утраченных детенышей и многое другое, что глодало ее изнутри.
Но надвигалась Середина Лета, а кое-какие из необходимых обрядов, требующих ее участия, оставались невыполненными, и Хранители послали Люцерна и Терца поговорить с Госпожой Слова.
– Матушка, – начал Люцерн, и из всех его пор исходило лицемерие, – ты по-прежнему Госпожа, и у тебя есть обязанности. Я…
– Да, сын мой?
– Я сам не знаю, с чего это ударил тебя. – И хотя слова эти не содержали просьбу о прощении, ее заменил извиняющийся тон.
Но Хенбейн смотрела на Терца. Искренность? Лицемерие? Пополам того и другого, решила она. Но в глазах Терца Хенбейн увидела кое-что еще – уверенность, что даже если она и не обезумела, то все равно утратила силу. Силу для чего?
Она улыбнулась, догадавшись. Для того, чтобы воспользоваться тем, что некогда предложил Терц и чего она больше не делает, – кормить Люцерна своим молоком до его возмужания. «Это привяжет его к тебе сильнее, чем любые слова», – сказал тогда Терц. Но теперь, догадалась Хенбейн, он рассудил, что на это-то она больше и неспособна: слишком слаба, слишком ошеломлена – так, без сомнения, они думают. Но Хенбейн знала, что сможет. Не сейчас, но когда-нибудь. Да, когда-нибудь. Люцерн по-прежнему нуждается в том утешении, какое она может ему дать, но природная гордость и все более видное положение не позволяют ему ни попросить об этом, ни просто принять.
Хенбейн воспрянула духом, теперь эта мысль поможет ей сохранить здравый рассудок, придаст сил и каким-то образом – она не понимала как, но где-то в потаенной глубине души, какой-то крохотной частичкой себя, знала – поведет к чему-то, что еще может принести избавление от нынешних мук.
– Я была больна, – к облегчению Терца и Люцерна, сказала наконец Хенбейн, – но теперь Слово придаст мне сил. А пока, с твоей помощью, Терц, и твоей, любимый сын, доверимся Слову, пусть ведет нас к обряду Середины Лета, а мы сделаем все необходимые приготовления.
Хенбейн с удовлетворением увидела, что они не верят в ее способность выжить. Радовалась, потому что в их заблуждении видела свое спасение. Они воспользуются ею, чтобы во время обряда узаконить послушников как сидимов, а потом… потом избавятся от нее за ненадобностью.
– Пойдем, матушка, – сказал Люцерн, положив лапу ей на бок, – мы поможем тебе остаться Госпожой Слова.
– Поможете? – переспросила она.
– Да, – ответил он.
Но мать видела его лицемерие лучше, чем кто-либо, потому что это же искусство должно было помочь ей оставаться Госпожой Слова несколько кротовьих недель до Середины Лета.
Глава восьмая
В те первые кротовьи недели июня в Болотном Крае, пока Бичен бился над поставленными перед ним задачами, Триффан проявил себя терпеливым учителем. И как ни хотел он продолжать собственные писания, ему знакомо было возбуждение, что охватывает кротов с приближением Середины Лета.
За несколько дней до этого знаменательного дня, когда стояла теплая и ясная погода и ни одному кроту не следует сидеть в тоннелях уткнувшись в текст, Триффан вдруг объявил:
– Хватит! Всему есть мера! Мы поднимемся на поверхность и присоединимся к общему веселью, а также навестим кое-кого.
Бичен втайне был рад, поскольку, время от времени выбегая на поверхность, слышал поблизости болтовню радующихся июньскому дню кротов, и ему хотелось присоединиться к ним.
– А куда мы пойдем? Кого навестим?
– Мне хочется показать тебе нору, где моя мать Ребекка воспитывала Комфри, хотя отыщу я ее или нет – это вопрос. А что касается кротов, что ж… В Середину Лета кроты имеют обыкновение ходить в гости, так что никогда не знаешь, кого где застанешь и застанешь ли – разве что случайно и не в своей норе. Кроты собираются вместе, беседуют, веселятся, постепенно их собирается все больше, и они отправляются к Камню совершить обряд Середины Лета.
Бичену показалось, что за короткое время с тех пор, как они с Триффаном впервые спустились под землю в Болотном Крае, в лесу произошли большие перемены.
Листья деревьев стали зелеными, кустарник и трава гуще, пение птиц переливистее, земля теплее, а кроты и другие твари – величественнее и представительнее. Снова появившись на поверхности, Бичен ощутил счастье жизни, какого еще не чувствовал, и готов был выполнить любую задачу, какую бы ни поставил перед ним Камень.
Все вокруг ласкало глаз и ухо, и, не будь рядом Триффана, Бичен только кружился бы и кружился на месте, не зная, куда повернуться, в какой стороне интереснее.
– Великолепное место – Болотный Край, когда приходит Середина Лета, – сказал Триффан, вдыхая чистый воздух. – В это время кротов не надо искать, Они сами попадаются на пути – так, во всяком случае, было раньше. Что ж, как я уже говорил, посмотрим, что грядет теперь!
И они увидели, что грядет какой-то крот, – как оказалось, знакомый им обоим.
– Приветствую вас! Я догадался, что в такой день вы должны быть где-то здесь. Куда направляетесь? – спросил Хей.
Триффан объяснил, что они собираются найти нору, которая находится где-то на востоке, где вырос его сводный брат. Не будучи коренным данктонцем, Хей не имел представления, где она может находиться, но с радостью присоединился к ним, и все трое продолжили путь.
– Если мы и дальше пойдем в этом направлении, – в конце концов сказал Хей после не лишенного приятности блуждания, в течение которого Триффан то и дело останавливался в тщетной попытке определить, где же может быть старый Ребеккин тоннель, – то придем к старому Бориджу. Он-то ничего, но вот насчет Хизер не уверен… То есть я хочу сказать, на нее слишком влияют летние дни, – вы понимаете, что я хочу сказать. С тех пор как…
Но Триффан, нахмурившись и подняв лапу, остановил его:
– Близится Самый Долгий День, и нужно принимать кротов такими, какими мы их видим. Так поступает Камень.
Бичен знал, что Триффан никогда не сплетничает о других.
Они прошли мимо обвалившихся входов к нескольким тоннелям в той части Болотного Края, которая никогда не была густо заселена, но потом, когда свернули на юго-восток и чуть поднялись по склону, картину запустения сменила другая, более подобающая этому времени года. Три крота вышли на чистую солнечную поляну, где нашли гостеприимный вход в тоннель.
Жившие там кроты, видимо, знали об их приближении, потому что, как только путники подошли, из входа высунулось солидное флегматичное рыльце и вылез дородный крот.
Бичен уже кое-что слышал о Боридже. Он знал, что этот большой крот в свое время многое претерпел и перенес тяжелые болезни – о чем свидетельствовали рубцы и пятна на его боках.
Прежде чем Боридж успел произнести приветствие, следом за ним вылезла кротиха с застывшей на рыльце улыбкой праведницы и странными глазами, смотрящими куда-то мимо гостей, словно позади них раскинулась волшебная, блаженная страна.
– Приветствую вас! Да пребудет Камень со всеми нами! – радушно сказала Хизер, но ее глаза не могли скрыть удивления и беспокойства, доставленного визитом сразу трех кротов. – Камень оказал нам честь, – продолжала она не совсем уверенно, – направив в нашу скромную нору самого Триффана и…
– Бичен, – представился Бичен.
– Так ты и есть Бичен? Видный статный крот, любой это подтвердит, ты делаешь матери честь, если можно так выразиться. Да, молодец, молодец. Да пребудет с тобой Камень, Бичен!
– М-м-м, спасибо, – ответил Бичен, не в силах удержаться от бессмысленной улыбки в ответ на постоянную блаженную улыбку Хизер.
– С той ночи, как родился, ты подрос, – сказала кротиха. – Хвала Камню!
– Было бы странно, будь это иначе, – заметил Хей, но Хизер пропустила его иронию мимо ушей и, словно стремясь запечатлеть свое мнение о Бичене, добавила:
– Благословен будь Камень, что привел вас сюда! Да пребудет с вами его милость!
Триффан, явно желая избежать дальнейших славословий, торопливо перебил ее:
– Бичен, Боридж многое знает о Бакленде, южном оплоте грайков. Редко кто из кротов знает больше. Тебе не мешало бы поговорить с ним.
– Я расскажу о Бакленде все, что знаю, – сказал Боридж, – но не сейчас. Сегодня не время вспоминать это мрачное место.
– Камень… – снова начала Хизер, но Хей перебил ее:
– Мы ищем кое-какие тоннели, на которые Триффан хочет посмотреть. Так мы пойдем, Боридж… и Хизер.
– Тогда и я пойду с вами! – засияла она, и прежде, чем Хей успел возразить, Триффан сказал:
– Хорошая мысль. Присоединяйтесь оба. Чем больше компания, тем веселее. Я хочу, чтобы Бичен повстречал как можно больше кротов.
– Это она от бесплодия такая, – шепнул Триффану Боридж, когда они отошли. – У нее нет дурных намерений.
– В любви к Камню нет ничего плохого, – успокоил его Триффан.
Теперь кротов было уже пять, и Бичен почти не сомневался, что скоро они встретят еще кого-нибудь. По пути Хизер громко говорила с Биченом о благости жизни и о Камне, а Хей подталкивал его сзади и подмигивал:
– Перед выздоровлением ей всегда становится хуже, а если встретим не тех кротов, может стать совсем плохо. Нужно лишь… о, только не это! – Хей в притворном ужасе закатил глаза.
Обогнув дерево, все увидели ковыляющую к ним старую кротиху. Она обнюхивала траву и кусты и напевала себе под нос так тихо, что мелодию было не разобрать.
– Приближаются кроты! – сказал она громко, приложив ухо к земле, опустила рыльце и лишь потом взглянула.
– Тизл! – с отвращением воскликнула Хизер. – Та, чья жизнь основана на лжи. Та, в ком когда-то поселилась гадина Слова. С дороги! Триффан и я служим Камню!
– Тизл тоже служит Камню, – твердо сказал Триффан и пошел навстречу кротихе, чье зрение, как и его, оставляло желать лучшего.
– Триффан! – удивленно и радостно воскликнула она. – Я буду не я, если ты снова не вернулся к нам! И надо сказать, ты не слишком спешил, если учесть, что вот-вот наступит Середина Лета. А где тот кротенок, которого ты опекаешь? Куда ты его запрятал?
– Что это Тизл все молодеет день ото дня? – рассмеялся Триффан, подойдя к ней поближе, а потом отстранился, чтобы лучше рассмотреть. – Ты ни капли не изменилась с нашей последней встречи!
– Хорошо бы, если так. А ты постарел, крот, и похудел, осунулся… – Протянув лапу, она нежно погладила рубцы вокруг его глаз. – Я скучала по тебе, Триффан, да, а поскольку привыкла изливать тебе свои мысли, не упущу случая. Системе нужен вождь, и тебе лучше бы побольше показываться. Все сидишь один, а никто не может тебя разыскать… Это неправильно, Триффан! Не такова твоя задача.
– Я не вождь системы, Тизл. Я уже не тот, каким был. И я не уверен, что системе нужен такой вождь.
– Вздор и чепуха! – воскликнула Тизл. – Кроты ничего не могут достичь по своему согласию, им нужен кто-то, чтобы вести их.
– И куда же их вести? – спокойно спросил Триффан.
– Подальше отсюда, где столько страданий и одиночества! – ответила старая кротиха.
– Страдания и одиночество ты найдешь везде, куда бы ни пошла, – возразил Триффан, – а можешь найти что-нибудь и похуже. То, что мы ищем, – здесь, у нас под носом, и ждет, когда мы найдем его. Я всегда это знал, но раньше и сам не верил.
– Так покажи мне! – сказала Тизл. – Ну-ка покажи, крот!
Но Триффан молча смотрел на нее, и кроты внезапно затихли, ощутив утрату, словно упустили нечто важное, и никто не знал, что сказать.
– Ладно, – проговорила Тизл, и вдруг всем она показалась очень старой и больной, а под шкурой у нее словно были одни кости. – Печально, что мы так жалки перед Серединой Лета и в глазах этого кротенка, о котором ты заботишься. И все-таки где он, Триффан? Я не отстану от тебя, пока не скажешь…
Она замолкла, по взгляду Триффана поняв, что подросток, стоящий рядом с ним, и есть тот самый Крот Камня. Старая кротиха приблизилась, чтобы получше его рассмотреть, а точнее, взглянуть в устремленные на нее глаза, яркие и ясные, прямые и честные, и ощутила замешательство, не зная, как себя вести.
Поняв, кто такой Бичен, Тизл ощутила в нем и вокруг него, в самом его присутствии нечто более великое, чем все они, нечто такое, что умиротворяет кротовьи души и наполняет покоем их лапы.
Позже Хей говорил, что в вере и убежденности Тизл было что-то особенное, благодаря чему стал возможен этот момент и все смогли увидеть, что Бичен действительно отмечен Камнем.
– Почти все время он был, в общем, обыкновенным кротом, – вспоминал Хей, – но иногда, когда рядом появлялся кто-нибудь истинно верующий, вроде Тизл, казалось, словно вместе их было больше, чем двое. Глядя на них, мы словно озарялись излучаемым ими светом. И тогда эти двое могли творить чудеса, они заставляли кротов опомниться, словно нам только того и надо было – увидеть свет в его правдивых глазах, чтобы снова стать единым целым.
Некоторые думают, что так было всегда, но это неправда. Сам я не раз видел его до того момента со <трои Тизл и, если честно, был разочарован, не разглядев в нем ничего особенного. Обычный здоровый парень, из него вышел бы хороший летописец и даже боец, если нужно, но не более того… Однако когда я увидел его глазами Тизл, то уже не мог забыть. И другие кроты, увидев, готовы были следовать за ним на край кротовьего мира или прийти с края кротовьего мира, просто чтобы увидеть его снова…
Что бы ни увидела и ни почувствовала Тизл, она, во всяком случае, недолго испытывала благоговейный трепет. Природная естественность заставила ее подойти и прикоснуться к Бичену с той же теплотой, как раньше к Триффану.
– Добро пожаловать, крот, добро пожаловать, – сказала она. – Дай мне посмотреть на тебя. Ведь я видела тебя в последний раз, когда тебе отроду было всего несколько мгновений, а теперь – посмотрите! Совсем взрослый – или почти совсем. В ту ночь вокруг тебя сиял такой свет, что всех, кто на тебя глядел, словно ослепило, а вот я в ту самую ночь обрела зрение, как всем известно, хотя никто об этом не говорит. Ну и я скажу! Это верно, как то, что я стою здесь. Однако ты этого не помнишь.
Бичен покачал головой. Старая кротиха продолжила:
– Я – Тизл, и ты еще меня узнаешь. Наверное, Триффан ни разу не называл тебе моего имени. Но вот она я, какая есть, и сделаю для тебя все, что в кротовьих силах.
Бичен совсем растерялся и только ласково гладил старую кротиху. Триффан объяснил Тизл, что они ищут кое-какие тоннели, а поскольку к ним присоединились другие, он надеется и на ее компанию.
– А кто живет в этих тоннелях? – спросила Тизл.
– Сейчас? Не знаю. А раньше там жила Ребекка, но это было еще до тебя. До всех нас, не считая меня. Впрочем, и к моему появлению она уже давно покинула эти тоннели. Но Комфри показывал их мне.
– Да, – неопределенно сказала Тизл, более заинтересованная Биченом, чем тоннелями, – это было до меня.
Они пошли дальше, болтая, споря, смеясь и иногда затихая, чтобы восхититься лесом.
– Ты не знаешь, мы хоть приблизились к этим тоннелям? – наконец спросил Хей.
Озадаченно оглядевшись, Триффан покачал седой головой.
– Я скажу вам, к чьим тоннелям мы приблизились, – сказала Тизл. – Здесь живет Кроссворт!
Хей и Боридж застонали, но Триффан вдруг оживился, поднял рыльце и принюхался.
– Это где-то рядом! – сказал он и быстро двинулся вперед.
– Но это участок Кроссворт, – напомнил Боридж.
– Да, Кроссворт, – подтвердила Тизл.
– Это то самое место, – принюхавшись, сказал Триффан.
– Она тебе не обрадуется! – предупредила Тизл. – Это сердитая кротиха, но даже если она не сердится, все равно еще до окончания дня откусит тебе голову.
– Это несомненно… – начал Триффан со все большей уверенностью.
– Камень явно не с ней, – сказала Хизер, – и когда я в последний раз пыталась поговорить с ней о его величии, она употребила очень неприятные выражения. Мне стоило больших усилий найти в себе достаточно великодушия, чтобы попросить Камень простить ее. Но в конце концов я сделала это, вспомнив историю о…
– Ты права, Хизер, – прервал ее Боридж, – она не очень приветливая кротиха.
Пока они говорили, из норы неподалеку высунулось явно недоброжелательное рыльце, за ним злые серые глаза, а затем маленькие сморщенные лапки. Да, определенно это была неприветливая кротиха, и склонность противоречить во всем была словно написана на ее сморщенном рыльце и горела в негодующих глазах.
Однако каких только чудес на свете не бывает! Кроссворт попыталась улыбнуться, хоть это и потребовало от нее огромного напряжения и вызвало истинную муку.
Но эта мука была ничто по сравнению с той, какую кротиха испытала, когда произнесла, а точнее, с огромным неудовольствием выплюнула столь невыносимые для ее губ слова:
– Добро пожаловать.
Все были поражены; если бы деревья вокруг вдруг запели и заплясали, это не вызвало бы больше удивления.
– «Добро пожаловать»? – переспросил ошеломленный Хей.
– Да, – прошипела Кроссворт. – Добро пожаловать. – У нее был такой вид, будто ей стало дурно от этих ужасных слов, и тоном кротихи, которая сама не верит своим ушам, она добавила: – Пожалуйста, заходите и чувствуйте себя как дома.
– «Пожалуйста, заходите»? – повторила удивленная Тизл.
– «Чувствуйте себя как дома»? – еле слышно пролепетал Хей.
– Тут что-то не так, – сказала Хизер. – Если только… да! Свет Камня коснулся ее! О радость! Воистину велик Камень, если даже такая пропащая кротиха, как Кроссворт, возродилась для истинной веры!
К счастью, Кроссворт не услышала этой тирады. Торопясь отвести гостей вниз, она повернулась к входу, велев всем следовать за собой.
И все спустились в тоннель. Только теперь Триффан вспомнил эти ходы, куда приходил всего один раз вместе с Комфри. Сам Комфри должен был помнить их лучше, потому что там его вырастила Ребекка вместе с немощной кротихой по имени Келью, которой и принадлежали эти тоннели. Теперь они казались Триффану маленькими, и, несмотря на относительную чистоту, в них было сыро и тесно.
Кроссворт семенила впереди, бормоча, что не имела времени привести все в порядок, что ее не предупредили о количестве гостей и не будут ли они так любезны быть повнимательнее со стенами и следить за своими когтями, поскольку почва здесь рыхлая и осыпается.
Но когда они наконец достигли общего помещения, атмосфера неожиданно разрядилась.
– Э-э-э, добро пожаловать, – повторила Кроссворт, оглядываясь на какого-то крота у дальней стены. Похоже, она его боялась.
Один за другим гости протиснулись через узкий проход и оказались в сразу ставшей тесной норе. Это и был единственный общий зал в тоннелях Кроссворт. И один за другим все увидели знакомого им крота, вальяжно развалившегося и с удовольствием жующего жирного червяка. С широкой улыбкой, выражающей искреннюю радость, крот взглянул на пришедших.
– Господа и дамы, смиреннейший из кротов интересуется, что вас так задержало, – сказал Мэйуид, явно в восторге от доставленного сюрприза и от недоумения, вызванного его столь неожиданным присутствием в этом месте.
❦
– Ошеломительная мадам, – проговорил Мэйуид, оборачиваясь к Кроссворт и подняв лапу, чтобы остановить удивленные и радостные приветствия, – теперь у тебя есть возможность загладить вину. Захотим ли мы поесть? Захотим. Принесешь ли ты нам поесть, как гостеприимная хозяйка, без жалоб? Несомненно. Увы, побледневшая мадам, семь голодных кротов в твоих тоннелях ждут, когда за ними поухаживают. Любая пытка – блаженство по сравнению с этим, не так ли?
Но пока ты ворчишь по поводу нескольких червяков и бормочешь себе под нос о несправедливости всего этого, задумайся над следующим: ты услышишь здесь дружескую беседу, интересные истории, ты разделишь веселье, которое рассудительные кроты позволяют себе в течение последних дней и ночей перед Ночью Середины Лета, и зато потом они вечно будут повторять: «Помните тот случай, когда мы повеселились, как не веселились много лет? А все началось в тоннелях Кроссворт!» Тебе будут завидовать грядущие поколения, до-сих-пор-наводившая-ужас мадам, и другие кроты будут жалеть, что их здесь не было. А потому червей, мадам, да побольше!
Друзья Мэйуида восторженно приветствовали эту его речь, и кое-кто из них попросил Кроссворт принести хотя бы двух червей ему лично, а лучше, если можно, трех.
Когда приготовления были сделаны, кроты устроились поудобнее, а Мэйуид, словно находясь при исполнении обязанностей, произнес:
– Изумленные господа и дамы, мне кажется, вы гадаете, откуда здесь взялся сам скромнейший. Смелый Бичен, – а тебе особое приветствие, молодой господин, поскольку без твоего присутствия эта Середина Лета в Данктонском Лесу была бы достойна сожаления, так как ты единственный росток юности в нашей бедной, старой, заброшенной системе, – я вижу, что ты особенно изумлен. Но не удивляйся.
Мэйуид собирался вытащить вас из Болотного Края и пришел как раз в тот момент, когда Хей спрашивал, куда вы собрались. Узнав о вашем намерении посетить бывшие тоннели Ребекки и понимая, что ваша радость будет неполной, если я отведу вас прямо туда (ибо поиск пути – половина удовольствия), и что она будет подпорчена еще больше, если Кроссворт окажется не готовой к вашему прибытию, я решил вас опередить.
Зная радушие Кроссворт, Мэйуид подготовил почву. Короче говоря, я ей пригрозил: «Несчастная, единственный раз за свою ужасную жизнь ты получишь удовольствие принять гостей, и если упустишь такой замечательный шанс, то я, Мэйуид, смиреннейший из кротов, заставлю тебя пожалеть об этом!» Приблизительно такую речь я произнес, а она ответила на мое непрошеное вмешательство руганью, проклятиями и побоями. Но угрожающий крот должен уметь претворить в жизнь свои угрозы, и я соответственно пнул ее туда, пихнул сюда – словом, проделал все то, чего никто от Мэйуида не ожидает. Сначала ее ярость не имела границ, но Мэйуид не ослаблял усилий, и неизбежным результатом стали ее слезы. Она заплакала. Кротихам и даже кротам полезно бывает поплакать. Смиреннейший Мэйуид признается, что изредка и сам плачет. Не всякий знает, что делать с плачущей кротихой, – разве что посидеть молча, что я и сделал. Хотя было бы приятнее дожидаться окончания слез, имея под лапой что-нибудь съестное. Но в конце концов она затихла.








