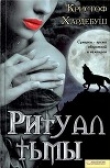Текст книги "Религия"
Автор книги: Тим Уиллокс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 47 страниц)
* * *
Вторник, 15 мая 1565 года
«Оракул» – ворота Мессины – холмы Нептуна
Тангейзер вернулся с «Куронна» в пасмурном настроении. Старки привел все возможные доводы: моральные, политические, духовные и патриотические, – пытаясь завербовать его на свою сторону. Он обещал ему славу, богатство, почет и благодарность Рима. Он умолял, льстил, угрожал. Он ссылался на «Summae» Фомы Аквинского,[34]34
Фома Аквинский (1225–1274) – крупнейший средневековый философ и богослов.
[Закрыть] на авторитет святого Бернарда[35]35
Святой Бернард Клервоский (1091–1153) – французский проповедник, основатель ордена бернардинцев.
[Закрыть] из Клерво, приводил волнующие примеры героев древности и современности. Он сделал все, только что не обвинил Тангейзера в недостатке храбрости. Однако Тангейзер ответил на все его попытки подкупа и угрозы решительным отказом обнажить оружие во имя Религии. Мальтийская илиада, как называл грядущую осаду Старки, начнется без его участия. Он много лет не убивал людей, его совесть была совершенно чиста, и он не скучал по прошлому. В качестве награды за утренние хлопоты Тангейзер пообещал себе по возвращении в таверну ванну. Борс ехал рядом с ним, погруженный в сердитое молчание. Когда они подъехали к «Оракулу», Борс кивком указал на лошадь, привязанную в тени перед дверью, и произнес:
– Неприятности.
Тангейзер видел, что это великолепная гнедая кобыла под дорогим седлом и в дорогой упряжи. За редким исключением, завсегдатаям таверны такая лошадь была не доступнее, чем сан кардинала. Когда Борс с Тангейзером проезжали мимо дверей «Оракула» к конюшням, Тангейзер мельком заглянул внутрь и увидел, что там творится настоящее безобразие. Толпа гнусных пьяниц ревела, сомкнув круг, плечом к плечу, словно наблюдая за уличной дракой. Он тут же спешился, передал поводья Бурака Борсу и шагнул через порог, вглядываясь поверх немытых голов.
В центре зала высокая худенькая девушка в зеленом платье для верховой езды кружилась, словно танцующий дервиш, раскинув в стороны руки. Буйные пьянчуги, завсегдатаи трактира, стоящие и сидящие за столиками, отпускали на ее счет сальные замечания на сицилийском наречии и швыряли ей в голову корки сыра, свечной воск и хлебные катышки. Девушка была явно не в себе, хотя, если учесть, что в нее летели оскорбления и объедки, вряд ли ее можно было за это упрекнуть. Хуже всего, что, кружась, она выпевала высоким голосом его имя:
– Тангейзер! Тангейзер! Тангейзер!
Можно вообразить, как раззадоривало это примитивную фантазию ее мучителей…
Тангейзер вздохнул. Он перевесил меч так, чтобы он сразу бросался в глаза, и пошел через таверну с самым решительным выражением лица.
Подобные забавы выпадали так редко, что мало кто заметил его появление, и это еще больше вывело Тангейзера из себя. Когда какой-то тип, квадратный, с бычьей шеей, нагнулся со своей скамейки, наскребая рукой мусор, чтобы запустить им в девушку, Тангейзер схватил его за загривок и с такой силой приложил физиономией о столешницу, что дальний конец козел подпрыгнул и всех вокруг обдало пивными брызгами.
– Пейте свое пиво, свиньи! – проревел он.
К его удовольствию, в таверне повисла тишина. Девушка остановилась посреди оборота и посмотрела на него без малейших признаков головокружения. Насколько он сумел разглядеть в тусклом свете, один глаз у нее был карий, а второй серый: верный признак неуравновешенного характера. Поскольку эти глаза совершенно соответствовали тому духу, который отражался в них, и это несмотря на то, что она только что подверглась жестоким насмешкам, Тангейзер был заинтригован. Лицо у нее было какое-то перекошенное, она была слишком худа, а волосы выглядели так, будто она сама подстригает их, не прибегая к помощи зеркала, но он все равно невольно подумал, каково это – заняться с ней любовью. Платье мало открывало, но искушенный взгляд сумел обнаружить великолепную грудь. К собственному изумлению, он ощутил, как плоть под кожей штанов приятно и быстро твердеет.
– Тангейзер, – произнесла девушка, и ее голос, во всяком случае ему, показался музыкой. Она смотрела ему на грудь, а не на лицо, но у нее были все основания нервничать.
– К вашим услугам, синьорина, – ответил он, широко улыбаясь и кланяясь.
Она посмотрела куда-то за него, он развернулся и увидел, что Бычья Шея достаточно пришел в себя, чтобы неуверенно подняться со скамьи и сжать руки в кулаки. Прежде чем его затуманенный взгляд сумел распознать врага, на него с мрачным удовольствием обрушился сзади Борс. Девушку, кажется, ничуть не взволновала грубая сцена, словно подобные дикие представления в мрачных декорациях были ей не в новинку.
– Вы говорите по-французски? – спросила она на этом языке.
Тангейзер кашлянул и расправил плечи.
– Ну конечно, – ответил он по-французски. Восхитительно бегло – так самому ему показалось! – он поинтересовался, как зовут девушку.
– Ампаро, – ответила она.
Чудесное имя, подумал Тангейзер. Он указал на свой укромный альков, явно гордясь его экзотической обстановкой и декором, и сказал:
– Мадемуазель Ампаро, прошу вас. Пойдемте присядем.
Ампаро отрицательно помотала головой, не сводя глаз с его груди, и ответила потоком слов, которых, как осознал Тангейзер, он не понимает. Точнее, он понимал приблизительно одно слово из пяти, а остальные со свистом проносились мимо, сбивая его с толку. Он вырос в семье, говорящей по-немецки, в двенадцать лет попал в школу янычаров с ее драконовской дисциплиной, где его заставили упражняться в языках и читать слова совершенно чуждые. Он относительно легко освоил итальянский. Живя под одной крышей с Петрусом Грубениусом, каждая фраза которого проходила окольными риторическими тропами, прежде чем достигала цели, он научился любить ту экстравагантность, к которой некоторых подвигает латинский язык. Мессина научила его вполне сносно говорить по-испански. Но французский оставался проклятым языком, с совершенно не поддающимся логике произношением, а весь словарный запас Тангейзера был почерпнут им у солдат.
Он поднял руку, призывая ее остановиться.
– Погодите, – сказал он. Кабацкий сброд бросал на него взгляды исподтишка, звуки болтовни и шумно выпускаемых газов затрудняли беседу. Он указал на дверь. – Давайте поговорим снаружи.
Ампаро закивала, и он предложил ей могучую руку. Она не обратила внимания на его жест, проскользнула мимо него и вышла на улицу, он пошел за ней в тень к оседланным лошадям. Она во все глаза смотрела на Бурака, которого Борс привязал рядом с ее кобылой. Девушка явно была неравнодушна к хорошим лошадям.
– Это Бурак, – представил Тангейзер. Он снова перешел на итальянский, надеясь, что, если он будет говорить медленно, его поймут. – Он назван в честь крылатого коня пророка Магомета.
Она развернулась и в первый раз посмотрела ему прямо в лицо. Если она и не была по-настоящему хороша собой, то, во всяком случае, невероятно привлекательна. Симметрию ее лица, как он видел теперь, нарушала вмятина в лицевой кости под левым глазом, который горел таким исступленным восторгом, что он забеспокоился. От нее веяло какой-то врожденной невинностью, что совершенно не вязалось с тем, как она вела себя в таверне.
Тангейзер снова перешел на свой убогий французский.
– Прошу вас, расскажите, чем я могу вам помочь?
Он слушал, как Ампаро втолковывает ему что-то, словно глупому ребенку, и эта мысль мешала ему уловить, о чем же она говорит; Тангейзер никак не мог отделаться от ощущения, что именно глупого ребенка она в нем и видит. Она болтала какую-то чепуху о голом человеке, хотя, возможно, он что-то не так понял, о какой-то лошади (причем она показывала руками на Бурака), о собаке с огнем в пасти и других обрывках какого-то фантастического видения. И все-таки он понял одно: эта девушка хочет, чтобы он отправился к ее хозяйке, некой мадам Ла Пенотье, графине, ни много ни мало, на виллу Салиба в холмах за городом.
– Вы хотите, чтобы я навестил графиню Ла Пенотье на вилле Салиба? – произнес он, желая убедиться, что понял хотя бы это. Девушка закивала. Если он все услышал правильно, она не объяснила ему цели этого визита. – Я прошу прощения, – произнес он, – но зачем?
Ампаро казалась удивленной.
– Таково ее желание. Разве этого не достаточно?
Тангейзер заморгал. Опыта общения с французскими графинями и их горничными, если Ампаро являлась таковой, у него не было. Возможно, они всегда так приглашают в гости мужчин, возможно, их горничные всегда такие же странные, как эта девушка-эльф, а может, и нет. Как бы то ни было, это было что-то новое, и он был польщен. В конце концов, какой от этого вред? Тангейзер задумался на миг, составляя ответ.
– Можете передать графине, что я с огромным удовольствием навещу ее на вилле Салиба завтра, если ей будет угодно.
Он улыбнулся, довольный тем, как мастерски составил фразу на этом отвратительном языке.
– Нет, – возразила девушка. – Сегодня. Сейчас.
Тангейзер перевел взгляд с тонкой фигурки на плавящуюся от жара картину летнего сицилийского дня. Встреча с благоуханной ванной откладывалась.
– Сейчас?
– Я отведу вас к ней сейчас же, – заявила Ампаро.
В выражении ее лица появилось что-то угрожающее, словно от любого отказа она готова была начать кружиться и кричать. Из-за того, что теперь он называл темными годами своего целибата (ибо таковы были правила янычаров), Тангейзер близко познакомился с прекрасным полом уже в зрелом возрасте. Только он один знал, что ему было двадцать шесть, когда он потерял невинность. И в результате он приписывал женщинам силу и мудрость, которых, как он подозревал, они все-таки не заслуживали. Но ему претила мысль проявить хоть какое-то неуважение к графине или даже к ее горничной.
– Отлично, – произнес он. – Свежий воздух мне не повредит.
Он одарил ее очаровательной улыбкой – по крайней мере, сам он надеялся, что очаровательной! – но не получил в ответ ничего подобного. Ампаро развернулась, подошла к своей лошади и вскочила в седло с восхитительной грацией. Под платьем прорисовались очертания мускулистых ягодиц, и одного этого движения хватило, чтобы он утвердился в своих надеждах на размер ее груди. Она посмотрела на него подчеркнуто выжидающе. Тангейзер колебался: он не привык, чтобы им так командовали. В дверном проеме появился Борс, стирающий кровь с костяшек пальцев. Он поглядел на девушку в зеленом платье, потом бросил вопросительный взгляд на Тангейзера.
– Меня приглашают в гости к даме, – сообщил Тангейзер. – Настоящей графине.
Борс неприлично фыркнул и захохотал.
– Хватит, – оборвал Тангейзер. Он пошел к Бураку.
– Это ваш отец? – спросила Ампаро несомневающимся тоном.
Борс, который на самом деле говорил по-французски гораздо лучше Тангейзера, сразу замолчал.
Тангейзер засмеялся в свою очередь.
– Нет. Но он такой старый и толстый, что вполне мог бы им быть.
– Тогда почему вы спрашиваете у него разрешения? – заметила Ампаро.
Теперь уж сам Тангейзер прикусил язык, потрясенный тем, как она повернула разговор.
– Поезжай-ка ты лучше к ее графине, – сказал Борс, – пока это создание не заморочило головы нам обоим.
Тангейзер сел верхом. Не успел он встать во главе кавалькады, как собирался, как девушка понеслась по булыжникам мостовой, пустив лошадь быстрой рысью.
* * *
Они ехали по улицам, опустевшим из-за невыносимой жары и воняющим фекалиями, по улицам, где только мухи кружили над сточными канавами. У северных городских ворот они проехали мимо укрепленных на столбах тележных колес, к которым были привязаны выпотрошенные тела богохульников, содомитов и воров. Их кожа так обгорела на солнце, плоть так иссохла, что даже вороны и мухи облетали их стороной. На кольях по обеим сторонам от ворот торчала коллекция безносых голов. Оставив это мерзкое место позади, они направились к Нептуновым холмам. Несущийся навстречу воздух был сладостен, и ястребы в огромном количестве кружили над Пелоританскими горами.
Осторожно расспросив девушку, Тангейзер пришел к заключению, что леди Пенотье – суровая молодая вдова со средствами, совершенно самостоятельно управляющая своим поместьем в Аквитании. Об усопшем супруге Ампаро ничего не знала, поскольку тот умер еще до ее появления в доме, однако графиня никогда ничем не выказывала своей скорби по ушедшему спутнику. Хотя никаких цифр не было названо, получалось, что этой даме нет еще тридцати и она отличается удивительной красотой.
В какой-то момент он с удовольствием отметил, что у Ампаро длинные пальцы с овальными миндалевидными ногтями и грациозная лебединая шея. Ее грудь, скрытая зеленым шелком платья, потемневшего под мышками от пота, была даже больше, чем ему показалось сначала. Это особенно подчеркивалось ее худобой – хотя теперь Тангейзер скорее назвал бы ее не худой, а стройной. И если она почти не смотрела на него, то, без сомнения, только из-за застенчивости. Тангейзер выяснил, к своей радости, что Ампаро испанка и провела большую часть детства в Барселоне. Кастильское наречие дало ему возможность дать ей понять, что он не такой идиот, как должно было ей сперва показаться. Он говорил о порте и прекрасных старинных соборах этого великого города, хотя сам он там ни разу не был, а все знания получил из вторых рук. Ампаро отвечала на его вдохновенный монолог молчанием, и он снова начал задавать вопросы, на которые она хотя бы отвечала, пусть и из вежливости.
Они с мадам приехали из какой-то деревушки в Бордо; на этом ее познания в географии заканчивались. Для Ампаро Марсель, Неаполь и Сицилия были не более чем камнями, по которым они шагали через воды обширного неведомого. Одинокое путешествие двух женщин было верхом безрассудства, хотя бы потому, что они с презрением относились к идее вооруженного эскорта. Однако Ампаро заявила, что рада следовать за своей хозяйкой хоть «до края света». Подобная верность была необычна для наемной служанки и вообще для отношений между двумя женщинами, насколько Тангейзер в этом разбирался. К тому времени, когда они доехали до зарослей бугенвиллеи, обозначавшим конец их пути, Тангейзер был заинтригован еще сильнее, чем раньше.
Вилла Салиба представляла собой гору мрамора в современном, нарочито хвастливом, стиле. Тангейзер ощутил, что подобное жилище пришлось бы ему в самый раз. Однако не сама вилла оказалась целью их поездки. Лошади остались отдыхать на конюшне, а Ампаро повела его в сказочный сад, отданный в полное распоряжение алых и белых роз. Сад был тенистый от пальм и миртов, его местоположение и разбивка были превосходно продуманы. Тангейзер с удовольствием отметил, что здесь нет ни одной из вездесущих магнолий, которые перебивали бы нежный розовый аромат. По другую сторону сада располагался дом из прохладного белого камня – гораздо меньший, чем вилла, но все равно великолепный.
Ампаро остановилась перед грядкой с розами и присела на корточки рядом с одним по-настоящему белоснежным кустом, словно справляясь о его здоровье. Тангейзер с минуту наблюдал, как она бормочет что-то на непонятном языке: это был не французский и не кастильское наречие. Эта девушка действительно была единственной в своем роде. Словно прочитав его мысли, Ампаро отвернулась от цветка и подняла на него глаза, готовая увидеть насмешку.
– В арабских странах, – произнес он, – говорят, что когда-то все розы на свете были белыми.
Ампаро поднялась, полная живейшего любопытства. Она обвела взглядом плотные заросли алых роз и снова посмотрела на него.
– В один прекрасный вечер, когда луна была на ущербе, – продолжал Тангейзер, – соловей увидел одну такую розу, высокую белую розу, и когда он увидел ее, то немедленно влюбился. А надо сказать, что до того момента никто никогда не слышал, чтобы соловьи пели…
– Соловьи не умели петь? – переспросила Ампаро, желая услышать подтверждение этого факта.
Тангейзер кивнул.
– Они проводили жизнь в молчании, от начала до конца, но любовь того соловья была такой огромной, к той особенной белой розе, что песня удивительной красоты вырвалась из его горла, он раскинул крылья, заключая ее в страстные объятия…
Тангейзер замолк, потому что девушка казалась завороженной, на ее лице застыло выражение такого острого восторга, что он боялся рассказывать кульминацию истории.
– Прошу вас, – настойчиво попросила она, – пожалуйста, продолжайте.
– Соловей прижал розу к груди, но с такой неудержимой страстью, что ее шипы пронзили его сердце, и он умер, обнимая цветок крыльями.
Девушка зажала руками рот и отступила на шаг назад, словно ее собственное сердце тоже пронзило шипом. Тангейзер указал на красные розы.
– Кровь соловья испачкала белые лепестки розы. Вот потому-то с тех пор некоторые розы стали красными.
Ампаро на некоторое время задумалась. Затем с искренней серьезностью спросила:
– Это правда?
– Это сказка, – сказал Тангейзер. – У арабов есть и другие сказки о розах, они относятся к этим цветам с особенным почтением. Но степень правдивости сказки зависит от одаренности того, кто ее слушает.
Ампаро оглядела красные розы, окружающие ее.
– Я верю, что это правда, – сказала она, – хотя и очень печальная.
– Однако же соловей был счастлив, – заметил Тангейзер, не желая портить ей настроение. – Он даровал умение петь своим братьям и сестрам, и теперь они поют для нас.
– И тот соловей познал любовь, – сказала Ампаро.
Тангейзер кивнул; почему-то это очевидное наблюдение до сих пор от него ускользало.
– Это одна из самых выгодных сделок, заключенных со смертью, – заметил он.
В первый раз с момента их знакомства она посмотрела ему прямо в глаза. Ее глаза были больше, чем ему казалось, и она подняла на него взгляд так, словно бы раздевалась перед ним.
– Я никогда не узнаю любви, – произнесла она.
Тангейзер заморгал, но быстро нашелся.
– Многие люди так думают, – сказал он. На самом деле он мог бы сказать то же самое и про себя, но промолчал. – Некоторые боятся безумия и хаоса, которые приносит с собой любовь. Некоторые опасаются, будто бы они не достойны величия любви. Многие в итоге обнаруживают, что ошибались.
– Нет, я не могу любить, как птица, которая не может петь.
– Птица нашла свою песню.
– И я стала бы птицей, если бы могла, но только я не могу.
Тангейзер невольно ощущал некое родство с этой девушкой. Он не мог понять почему.
* * *
– Вы человек на золотом коне, – произнесла она.
Теперь, когда они выбрались из трясины французского языка, он понял ее фразу, которую она с таким волнением повторяла в таверне. Золотой конь. Бурак.
Он пожал плечами.
– Нуда.
Ампаро развернулась и пошла к гостевому дому. Тангейзер пошел за ней, ощущая себя большим безобразным псом, которого дрессирует своенравный ребенок. На ходу он отметил женственный изгиб ее бедер и великолепно подчеркнутую платьем форму ягодиц. Вытянутая тень от постройки падала на деревянную скамейку, заваленную пестрыми подушками, с которой открывался вид на сад и на далекое море. Ампаро жестом пригласила его сесть.
– Подождите здесь, – сказала она.
Ампаро прошла в двустворчатые стеклянные двери и, оставив их открытыми, исчезла внутри. Тангейзер видел только то, что находилось на расстоянии нескольких локтей. Потолок украшала вульгарная иллюстрация к классическому мифу, столь популярному у франков.[36]36
Франки – так арабы, персы и турки вплоть до XIX века называли всех западноевропейцев.
[Закрыть] Задняя стена салона терялась в тенях, а между тенями и дверьми, словно некая эльфийская аура, оставленная ушедшей Ампаро, вился в воздухе рой золотистых бабочек.
Тангейзер уселся на скамью, восхитившись ее удобством. С такого расстояния море казалось бело-золотым зеркалом, подставленным солнцу, за проливом Сциллы и Харибды дрожали в послеполуденном мареве холмы Калабрии. Таким чистым воздухом он не дышал уже много месяцев, а эти розы, холмы и вода мысленно вернули его назад, в скрытый от чужих глаз внутренний двор в Требизонде, дворце, где родился шах Сулейман, где сам Тангейзер поклялся защищать перворожденного сына своего властелина.
Единственным, что нарушало картину, был исходящий от него самого запах, прежде не ощущавшийся: запах таверны, доков, пота и любовных забав, которым он предавался прошедшей ночью. Возможно, это было не так уж и важно: ведь христиане в большинстве своем были грязнулями, до смерти боящимися воды. Однако же он по-настоящему тосковал по упущенной ванне. Привычку к мытью он приобрел у турок, чей пророк требует, чтобы верующие чисто мылись хотя бы перед пятничной молитвой и особенно после того, как осквернили себя плотской любовью. Здесь же подобное пристрастие считали чудачеством. Он глубоко вдохнул. Нет никаких сомнений, от него воняет. Возможно, поэтому Ампаро и оставила его в саду.
Его размышления были нарушены донесшимся до него божественным звуком. Звук был настолько неземным, исполненным такой чистой красоты, что он не сразу понял: это музыка. И музыка эта была так прелестна, что он невольно стал озираться, выискивая ее источник. Эта музыка захватила над ним власть и так глубоко тронула сердце, что в нем не осталось сил ни на что другое, как только поддаться ее чарам. Два инструмента, оба струнные. Один щипковый, другой смычковый. Один светлый и легкий, звуки его были похожи на теплые капли летнего дождя, второй темный, звук которого все нарастал, как бурные волны в штормовую ночь, и оба танцевали, держа друг друга в страстных неодолимых объятиях.
Он, сидя в тени, закрыл глаза, запах роз переполнял его, и он позволил музыке заполнить его душу – этой сарабанде, которая ласкала лицо мертвеца, как любовник ласкает лицо возлюбленной. Темный инструмент захлестнул его чувства волнами доходящей до экстаза меланхолии, в какой-то миг возвышающейся до горького восторга, а в следующий миг делающейся трепетной, как свет свечи. Ничто из того, что он знал – не только слышал, но и знал, – не могло подготовить его к такому переходу. Что захватило его душу, позволив ей поддаться этой силе? Какое волшебство могло переливаться такими красками и заставлять его сердце рыдать и биться в этом вечно безымянном и неведомом? И, когда каждая нота переставала звучать, куда оно уходило? И как каждая из этих нот могла быть, а потом не быть? Или же каждая нота будет отдаваться эхом до конца времен, вечно отталкиваясь от границ Творения? Снова и снова музыка разрасталась и затихала, танцевала и перетекала, от бьющей через край надежды до демонического отчаяния, будто бы извлеченная из дерева и из кожи и жил существ, созданных теми богами, каким не поклонялся никогда ни один жрец или пророк. И каждый раз он знал, что музыка должна умереть, опустошенная собственной сумасбродной расточительностью, но она воскресала снова и снова, падая и поднимаясь от одной вершины к другой, требуя еще больше себя самой, еще больше его души – той души, что родилась в потоке, хлынувшем из запертых тайников его сознания, зародившейся из всего, что он сделал, что знал, что видел ужасного, величественного или печального.
А потом так же незаметно, как и появился, звук затих, тишина захватила его место, и вселенная показалась пустой, и в этой пустоте остался сидеть он один.
Время восстановило свое владычество, Тангейзер постепенно снова начал сознавать аромат роз, прохладный бриз и тяжесть собственных конечностей. Он обнаружил, что сидит, уронив голову на руки, и когда он отнял руки, то увидел, что они мокры от слез. Он смотрел на эту влагу с изумлением: он не плакал десятилетиями и думал, что в нем не осталось больше слез, с тех пор как узнал, что всякая плоть есть прах, что только Бог велик и что в этом мире слезы нужны лишь для утешения побежденных. Он отер лицо бордовым рукавом камзола. И как раз вовремя.
– Шевалье[37]37
Шевалье (фр. «кавалер») – обращение к дворянину, не имеющему титулов, или к члену рыцарского ордена.
[Закрыть] Тангейзер, благодарю, что вы пришли. – Голос был почти такой же прекрасный, как музыка. – Я Карла Ла Пенотье.
Он поднялся, развернулся и обнаружил, что на него смотрит женщина, стоящая на дорожке в нескольких метрах от него. Она была хрупкого сложения, узковата в бедрах, зато с длинными ногами и, наверное, поджарыми ягодицами и тонкими лодыжками, хотя последнее было лишь предположением: ноги ее были полностью скрыты платьем. Платье это заслуживало отдельного разговора. Оно было цвета гранатового сока, такого чувственного покроя и фактуры, что он с трудом удержался, чтобы не разинуть рот. Платье обтекало ее тело, словно масло, словно вожделение, и сверкало брызгами света каждый раз, когда она двигалась. Он почувствовал, как задрожали его пальцы, и заставил их успокоиться. Он сумел овладеть своими чувствами и сосредоточил внимание на ее лице.
Черты ее лица были четки и чисты, зеленые глаза обведены по контуру радужной оболочки темными кружками. Несмотря на свое имя, она совсем не походила на француженку, а чертами лица и надменностью напоминала сицилийку. Ее волосы были медового оттенка, чуть уходящего в желтый, словно какой-нибудь норманн-завоеватель[38]38
Норманнские завоеватели владели Сицилией с 1060 г. В 1194 г. норманнское королевство перешло под власть германских императоров.
[Закрыть] оставил ей в наследство каплю своей крови. Волосы были собраны в узел, но если бы дать им свободу, они упали бы золотыми волнами. Глаза Тангейзера, несмотря на все его лучшие намерения, скользнули вниз, на ее грудь. Платье застегивалось спереди с помощью какой-то сложной системы крючков, отчего грудь, которая была вполне скромного размера и совершенно ошеломляющей белизны, вздымалась двумя совершенными полукружиями. Эти полукружия были разделены впадиной, в которую он с радостью канул бы навеки. Контуры ее сосков едва проступали, но, если он не ошибся, кажется, они призывно набухли под его взглядом. Хотя, возможно, он льстил себе. Как бы там ни было, она была красива, по-настоящему красива.
Он снова посмотрел на ее лицо, на котором запылали два алых пятна. Если Ампаро воплощала собой неустрашимость, за которой она безуспешно пыталась скрыть свою чистоту, то за храбростью Карлы таилась воплощенная печаль. И кое-что еще. Гораздо больше того, потому что он как-то сразу интуитивно догадался, что именно она играла на демоническом инструменте. Она понравилась ему сразу, и он поклонился.
– Счастлив служить вам, – сказал он. – Но должен признаться сразу, я вовсе не шевалье.
Он улыбнулся, Карла улыбнулась в ответ, вроде бы невольно и с такой теплотой, какую – он понял это – редко ощущала или выказывала.
– Если угодно, можете называть меня капитаном, поскольку до этого звания и равных ему я дослужился в нескольких армиях. Должен, однако, прибавить, что сейчас я мирный человек.
– Надеюсь, вы простите меня за то, что я не приветствовала вас как подобает, капитан. – Ее итальянская речь отличалась изысканностью и акцентом, происхождение которого он не мог угадать. – Но Ампаро настояла, чтобы мы сыграли, как это у нас заведено. Если мы отступаем от устоявшихся привычек, она приходит в смятение.
– Тогда я ее должник, – сказал он, – потому что никогда не слышал ничего подобного. В самом деле, я никогда не уносился так далеко на крыльях наслаждения.
Она склонила голову, благодаря за комплимент, и он воспользовался моментом, чтобы еще раз оценить ее платье, самое фантастическое из всех, какие он видел и которое прилегало к ее телу так, как он сам мог бы прильнуть, будь у него хоть малейшая возможность. До сих пор ему не доводилось знакомиться в один день с двумя такими привлекательными женщинами. Очень жаль, что они так тесно связаны друг с другом, но с этой головоломкой он разберется позже. Он снова встретился с ней взглядом. Интересно, она могла прочесть его мысли? Он засмеялся. А разве она могла не прочесть их?
– Вы находите меня забавной? – спросила она, снова улыбнувшись.
– Я нахожу забавным себя самого, – ответил он. – Меня переполняет радость от нашего непредвиденного знакомства.
Он наклонил голову, как он надеялся, изящным жестом, она ответила ему тем же, но у нее получилось гораздо лучше. Он провел тыльной стороной ладони по челюсти и вспомнил, что небрит и, в общем, выглядит диковато. Не зная, как лучше себя вести, Тангейзер решил укрыться за маской простодушия.
– Прошу вас, моя госпожа, – произнес он, – скажите, чем я могу вам служить.
* * *
Вторник, 15 мая 1565 года
Аббатство Санта-Мария делла Валле
Даже самые сокровенные мысли человека ведомы Господу. Точно так же, как и человеческие фантазии, страхи, стыд, грезы, явившиеся во сне и наяву, а также большинство тех тайных желаний, в чьем существовании человек не отваживается признаться даже себе самому. Из таких вот сокровенных желаний рождается смятение духа. А смятение духа есть источник всякого человеческого греха. Следовательно, за желаниями необходимо следить и управлять ими с неусыпной бдительностью. Людовико Людовичи стоял, голый и потный, в отделанной мрамором и золотом купальне аббата. Он очищал плоть от всепроникающей вони галеры. И пока он занимался этим, он наблюдал за собой. Он был уязвимее многих – из-за особенностей своего разума, из-за заключенной в его теле огромной силы и из-за власти, которой он обладал. А власть его была огромна. Он был не только полномочным представителем его святейшества Папы Пия IV, но и тайным агентом Микеле Гислери,[39]39
Антонио Микеле Гислери (1504–1572) – кардинал, с 1566 г. Папа Пий V.
[Закрыть] великого инквизитора всего христианского мира.
В руке Людовико держал кусок грубой мешковины, которым обтирал лицо и голову. Он смачивал мешковину в бочке с водой из фонтана, куда были добавлены цветки апельсина и листья дикой буквицы. Он мог бы пользоваться губками из Красного моря и мягким белым льном, а также множеством редких бальзамов и притираний, поскольку эта комната была предоставлена в его полное распоряжение, а местный аббат жил в роскоши, но роскошь – ловушка для слабых духом и телом. Он же тридцать лет спал на камне. Он постился сутками с сентября по Пасху. Он надевал по пятницам власяницу из козлиной шерсти. Мясо он ел лишь дважды в неделю, только для поддержания интеллекта. И именно потому, что очень любил беседу, он старался молчать, пока его работа не требовала от него обратного. Умерщвление плоти было доспехами для его души.
Он вымыл шею и плечи. Вода охладила его. Ему предстоит решить судьбу двух человеческих существ. Он всегда в таких случаях подолгу размышлял, прежде чем принять решение, а эти два дела особенно тяготили его душу. Людовико прополоскал свою мешковину и вымыл руки.
* * *
Людовико вырос в Неаполе, самом богатом и самом развратном городе мира. Выходец из семьи придворных дипломатов и книжников, он был вторым сыном своего отца и его первой жены. Тринадцати лет он поступил в университет в Падуе, а еще через год вступил в орден доминиканцев. Его отправили учиться в Милан, где благодаря своему уму он получил степень по теологии и церковному праву. Побуждаемый своим отцом «расчетливо и смело хвататься за всякую возможность», в двадцать с небольшим он отправился в Рим, где стал доктором тех же наук. Здесь он по очереди привлек к себе внимание сначала Папы Павла IV,[40]40
Павел IV (Пьетро Караффа) (1476–1559) – Папа с 1555 г.
[Закрыть] Пьетро Караффы, а затем великого инквизитора Микеле Гислери. Дабы восстановить моральную чистоту в Италии, этот Караффа в 1542 году основал Священную палату римской инквизиции и таким образом положил начало кампании по очищению веры, благодаря которой тюрьмы никогда не пустовали. Молодой человек столь блистательных дарований и благочестия, как Людовико, был огромной редкостью, и Караффа тут же привлек его к расследованию дел, в которых были замешаны сильные мира сего, «ибо от их наказания будет зависеть спасение низших орденов».