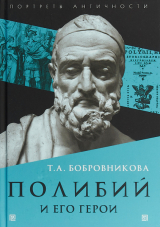
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 36 страниц)
Глава III. ДОМ МАКЕДОНСКИХ ЦАРЕЙ
Кто убил, не уйдет от бога.
Кто пролил кровь, того боги сыщут.
Кто неправым упился счастьем,
Косматые Эриннии
Сердце иссушат тому.
Эсхил. Орестея
Чтоб скрыть следы и чтоб достичь удачи,
Я б здесь, на этой отмели времен,
Пожертвовал загробным воздаяньем.
Но нас возмездье ждет и на земле.
Чуть жизни ты подашь урок кровавый,
Она тебе такой же даст урок.
Ты в кубок яду льешь, а справедливость
Подносит этот яд к твоим губам.
Шекспир. Макбет
Трагедии Македонии
«В царском доме македонян уже с этого времени заложено было начало тяжких бед», – пишет Полибий (XXII, 8, 1). Действительно, и страна, и царь оказались в ужасном положении. Македония была разорена, обессилена, обезлюдела из-за непрерывных войн, которые Филипп вел на протяжении 30 лет. Население сокращалось на глазах. Боеспособные мужчины были вырезаны. Везде царили бедствия и нищета. А царь с неумолимой суровостью все увеличивал и увеличивал налоги, которые и без того непосильным бременем лежали на его подданных. К тому же природная подозрительность и жестокость его с годами все усиливались. Казни следовали за казнями. Тюрьмы были переполнены политзаключенными и неоплатными должниками государства. То были дни великого террора для Македонии.
Если Филипп и всегда похож был на Грозного, то особенно он напоминает мне его в последние годы. В те годы, когда одряхлевший полубезумный Иван уже вовсе перестал отличать друзей от врагов. А между тем неприятель шел на него со всех сторон, грозя отнять последнее, а все воеводы были казнены и замучены, и некому было спасти царя и царство. В таком же положении находился и Филипп. Но ему было еще неизмеримо тяжелее. Несмотря на все беды, на все поражения, Иван все-таки оставался самодержцем и творил что хотел. У Филиппа же появился господин, и перед этим господином он должен был держать ответ. Господин этот был Рим.
Ежедневно, ежечасно римляне подвергали царя самой утонченной пытке. И по злой насмешке судьбы они даже не подозревали об этом. Более того, они еще воображали, что поступают с ним великодушно и гуманно! Они оставили его самодержцем. Но ведь во всех внешних сношениях он был поставлен под их полный контроль! И вот все соседние города и городки, племена и народцы – все те, кого он в свои золотые годы разорял, продавал, за людей-то никогда не считал, все они вдруг обрели голос и начали жаловаться Риму на его произвол. Приезжал римский уполномоченный, приезжал как власть имущий, все эти людишки кидались к нему, а царь должен был униженно оправдываться. И это он, Филипп, новый Александр, который всего 10 лет назад воображал, что мир лежит у его ног! В эти минуты Филипп был близок к сумасшествию. Представьте себе Ивана, которому запретили бы казнить изменников. А ведь Филипп подчас даже не мог казнить кого хотел. Говорят, в договоре с римлянами больше всего его возмутила статья, что он не может наказывать отпавшие от него города (Liv. XXXIX, 23, 6).
Однако он, смирясь в бессильном гневе, терпеливо год за годом сносил эту муку. По выражению одного очевидца, он напоминал хищного зверя, посаженного в клетку. Что же поддерживало его все эти годы и помогало сносить унижение? Он задумал план освобождения и мести. Он решил воевать с Римом (Polyb. XXII, 8, 10; Liv. XXXVI, 7, 12–3; XXXIX, 23, 6). Филипп был слишком умен и очень хорошо понимал, на какой отчаянно смелый шаг решается. Рим был могуч, Македония же была обескровлена. Но тут, казалось, пробудились все таланты, которыми так щедро наделила судьба Филиппа. Он творил чудеса. Он действовал с какой-то дикой энергией и упорством. Перед ним была геркулесова задача – в короткий срок поднять страну на ноги, подготовить к войне, причем действовать надо было в глубочайшей тайне, чтобы римляне ни о чем не догадались. И прежде всего нужны были деньги. Филипп стал разрабатывать заброшенные рудники, все с той же неумолимой жестокостью повышал и повышал налоги. Наконец у него скопилось довольно денег – хватило бы на жалованье 10 тысяч наемников в течение 10 лет. Он видел, что страна обезлюдела, и приказал подданным вступать в брак и рожать детей (Liv. XXXIX, 24; Plut. Paul. 8).
Но как и у царя Ивана, жизнь его была цепь непрерывных страданий и мук. Описание последних лет македонского владыки принадлежит к красивейшим страницам труда Полибия. Жизнь Филиппа он сравнивает с «Орестеей» Эсхила, трагической трилогией о преступлении и наказании, а дом его уподобляет проклятому дому Атридов, где стены, казалось, пропитаны были кровью и жил демон мщения, разжиревший от убийств. «К этому времени восходит начало ужасных бедствий… которые обрушились на царя Филиппа и на всю Македонию. Как будто настало время, когда судьба решила покарать Филиппа за бесчисленные злодеяния… Тени загубленных неотступно преследовали его день и ночь до последнего издыханья и всякий мог убедиться в справедливости изречения, что есть око правды и нам, смертным, надлежит памятовать об этом непрестанно… При виде таких несчастий и душевных мучений нельзя было не проникнуться убеждением, что какое-то божество выжидало старости Филиппа, чтобы обрушиться на него своим гневом за содеянные в прошлом преступления» (XXIII, 10, 1–3; 14).
Полибий уподобляет его великим грешникам, нарисованным Эсхилом, за которым гонятся Эринии, эти страшные чудовища, вырастающие из крови убитых. Эти Эринии помрачили разум царя. И все его замыслы, на вид разумные, оборачивались на деле страшными трагедиями. Так что невольно казалось, что подсказывают их Филиппу коварные Эринии. Прежде всего царь задумал замечательную меру для укрепления границ: грандиозное переселение народов. Для этого он решил «из главных городов побережья выселить граждан с женами и детьми и переселить их в страну, которая сейчас называется Эмафией, а раньше была Пеония», а пустые города заселить варварами-фракийцами. Можно себе представить, что творилось! Стража вламывалась в дома и гнала людей с насиженных мест. Они судорожно собирали пожитки, хватали то, что успевали взять. Они оставляли дома, землю, святыни и с плачем тянулись по дорогам. Вся Македония была на колесах. «Казалось, вся страна сделалась добычей врагов: столь велика была скорбь и смятение». Из цветущих прибрежных городов их везли в голые пустынные равнины Пеонии. Стон стоял по всей Македонии (Polyb. XXIII, 10).
То была первая трагедия.
Следующая беда была, пожалуй, еще тяжелее. Царь «почти обезумел и стал подозревать всех и вся» (Liv. XL, 3, 6). И вот он разослал всем начальникам городов письменный приказ разыскивать всех сыновей и дочерей репрессированных им македонян. Их арестовывали и казнили. Царь твердил стих поэта Стасина:
– Безумец, кто, убивши отца, оставляет в живых сыновей убитого.
(Филипп вообще чрезвычайно любил изящную словесность.)
Это был какой-то кошмар. Каждый день царь вспоминал все новые и новые свои жертвы и приказывал отыскивать их детей. Он вспоминал друзей детства, сподвижников своей блестящей юности, тех полководцев, с которыми брал города и страны, – всех тех, кого потом он замучил и умертвил. На Македонию сошел ужас. Люди разбегались кто куда и прятались (Polyb. XXIII, 10). Из всех драм, которые ежедневно разыгрывались чуть ли не в каждом македонском доме, история сохранила до нас только одну. Много лет назад Филипп истребил в Фессалониках целую семью. Остались только две сестры. Их отца и мужей казнили. Сестры нежно привязаны были друг к другу и, когда одна из них умерла, другая, Феоксена, взяла к себе ее детей, воспитывала их и любила не меньше своих родных. Время шло. У Феоксены был второй муж, дети подрастали, прошлое стало зарастать травой забвения. И вдруг пришел роковой указ. Когда Феоксена услыхала страшную весть, она, твердо и спокойно глядя в глаза мужу, объявила, что лучше собственной рукой убьет детей, чем отдаст царю на муки. Муж, у которого никто из близких не был репрессирован, в ужасе отшатнулся. Всю ночь они думали, как избежать неминучей беды. Они видели один исход – бежать в Афины. Если им удастся достигнуть этого города, они спасены. Но как бежать? Как обмануть соглядатаев царя? К утру план был готов.
Неподалеку находился маленький приморский городок Энея. Ежегодно там справлялось празднество в честь героя-основателя. В этот день в город стекались паломники из всех окрестных мест. К этим-то паломникам и присоединилась семья Феоксены. После торжественных обрядов всех гостей, как водится, пригласили на трапезу к праздничному столу. Пир продолжался добрую половину ночи. Многие уже дремали, другие отправились на покой. Встала и Феоксена с мужем. Она сказала, что им пора на корабль, дети устали и они решили затемно вернуться домой.
Они заранее наняли небольшое судно, которое стояло на якоре и ждало их. Они взошли на корабль, вышли в море и в море вдруг повернули к Афинам. Казалось, они спасены. Но вдруг поднялся сильный встречный ветер. Всю ночь беглецы отчаянно боролись со стихией. Забрезжил день, и они увидели македонское военное судно, которое быстро приближалось к ним. Муж совершенно потерял голову. Он метался по кораблю и то заклинал гребцов налечь на весла, суля неслыханные награды, то простирал руки к небесам, моля их сжалиться. Феоксена, напротив, сохраняла полное самообладание. Видя, что легкий военный корабль уже настигает их, она спокойно и уверенно достала чашу, развела в ней заранее приготовленный яд, затем вытащила кинжал и подозвала детей. Она объяснила, что ждет их, если они попадут в руки македонского царя. И предложила на выбор яд или клинок. Когда дети по очереди все до одного убили себя на ее глазах, мать столкнула их тела в море, чтобы и мертвые они не достались палачам Филиппа, и сама прыгнула следом. Муж, видя, что вся его семья истреблена, последовал за ними. Македонцы захватили пустой корабль (Liv. XL, 4).
То была вторая трагедия.
Между тем на Филиппа обрушилось новое испытание и новое унижение. Во время войны с Антиохом царь помогал римлянам. В благодарность, как мы уже говорили, римляне отменили ему контрибуцию, вернули сына, кроме того, позволили удержать ряд захваченных городов. Вот по поводу городов-то и возник на Балканах очередной конфликт. По какой-то причине царь вовсе не заключил никакого письменного договора с римлянами о том, какие точно города они ему передают. Вместо того он руководствовался устными обещаниями римских командующих. Обещания же эти были даны в разгар боевых действий, наспех и, очевидно, сформулированы крайне нечетко. Во всяком случае, сам Филипп с обидой говорил, что понял Мания Глабриона так, что ему можно захватить Ламию, но потом Маний не разрешил ему взять этот город (Liv. XXXIX, 28, 3). Официально римляне разрешили ему оставить за собой только те города Фессалии, которые он отнял у этолян, но с оговоркой – если города эти были этолийскими изначала или перешли к этолянам добровольно, а не по принуждению (Liv. XXXIX, 25, 5). Быть может, Филипп и не желал письменного соглашения. Он воспользовался ситуацией и стал стремительно расширять свою территорию. В результате он захватил значительные области Фессалии, земли афаманов, перребов, все побережье с Магнесией, Деметриадой и Долопией. Римляне не вмешивались в его дела.
Но вскоре живые подарки подняли вопль. В один прекрасный день послы их ворвались в сенат, рыдали, бросались к ногам римлян, твердя, что Филипп их тиранит, разоряет, и заклинали взять обратно. Римляне очень ласково с ними говорили, успокаивали и обещали, что пришлют комиссию, которая разберет все на месте. Тут пришла новая весть. Оказывается, царь захватил фракийское побережье с Эносом и Маронеей. Это уже было серьезно. Значит, Филипп начал все сначала, снова рвется овладеть морем и проливами, словом, возвращается 200 г., который переполошил весь мир и вызвал Македонскую войну (Liv. XXXIX, 24). Сенат был не на шутку встревожен.
Послы Филиппа возражали грекам и напоминали об услугах Филиппа римлянам. Филипп постоянно твердил об этих услугах и постоянно требовал благодарности. Но римляне не чувствовали к нему особой благодарности. Они прекрасно знали, что царь их люто ненавидит и злоумышляет против них, злоумышляет в ту самую минуту, как требует их благодарности. Они знали, что помогал он им вовсе не из дружбы: он не желал уступать Элладу своему сопернику Антиоху. Кроме того, в Риме вообще не жаловали царей. На них всегда глядели с внутренней неприязнью и подозрением. Очень многие сочувствовали Катону, который морщился при виде восточных владык, ставших теперь частыми гостями в сенате. Когда же кто-то замечал, что они достойные люди, он говорил:
– Может быть. Но по самой своей природе царь – животное плотоядное (Plut. Cat. Mai. 8)[24]24
Это было настолько хорошо известно, что во время войны с Антиохом на царей Азии нашла паника – они были уверены, что римляне уничтожат царскую власть и установят демократический режим (Polyb. XXI, 11,2).
[Закрыть].
Наконец, в сенате очень сильны были эллинофилы. По сути, именно они держали в то время в руках всю восточную политику. Они указывали, что Филипп захватил свободные эллинские города, на которые отнюдь не имел права, что он обращается с ними с возмутительной жестокостью, и спрашивали, неужели римляне забудут свой долг по отношению к эллинам ради кровавого деспота.
Среди таких настроений весной 185 г. в Фессалию прибыли трое римских уполномоченных во главе с Квинтом Цецилием Метеллом, человеком очень влиятельным и уважаемым. Они были известны как эллинофилы{18}. Это не сулило ничего доброго царю: «правда Филиппа и правда греков были несовместимы»{19}. Было ясно, что все сочувствие римлян принадлежит не царю, а его жертвам. Расположились в Темпейской долине. Туда заранее съехались все эллины, хотевшие жаловаться на Филиппа. А им числа не было. И вся эта огромная пестрая толпа, состоящая из представителей племен, городов и народов, заполнила сейчас равнину. Это напоминало настоящий суд. Римляне молча заняли председательское место. Греки были обвинителями, Филипп же словно сидел на скамье подсудимых. Он тут же отметил это в сердце своем.
Вопрос был весьма сложный и весьма запутанный. Очень трудно было выяснить, по доброй ли воле примкнул к этолянам тот или иной город. Но если римляне воображали, что будет нечто вроде римского суда с правильным прением сторон, обсуждением, доказательствами и предъявлением улик, они жестоко заблуждались. Получилось что-то похожее на переговоры перед Киноскефалами. Обе стороны с остервенением набросились друг на друга и излили на голову противника целую лавину злобных и совершенно беспорядочных обвинений, судорожно припоминая все обиды и склоки за последние 15 лет. Говорили все разом, поэтому понять хоть что-нибудь было невозможно. «Вопрос, что кому принадлежит, запутали до полной неразберихи».
Сначала говорили греки. Первые ораторы еще были осмотрительны и осторожны. Они помнили, что Рим далеко, а вот Филипп-то близко. Римляне уйдут, и они горько раскаются в своих не в меру смелых речах. Поэтому говорили они робко, заискивающе. Но постепенно они все больше распалялись, забыли всякую осторожность и совершенно закусили удила. Особенно неистовствовали фессалийцы. Они кричали, что Филипп их угнетает, что города возвращает им пустыми, ограбленными и без жителей. Он не дает им рта раскрыть, не дает дышать! Они посылали послов к Титу, Освободителю, а он ловит их послов! Зачем же тогда нас освобождали, вопили они. Его надо укротить и наказать, как бешеного коня, пусть знает, кто его хозяин!
Филипп, разумеется, в долгу не остался. Он сказал, что фессалийцы опьянели от непривычной свободы и похожи на рабов, отпущенных на волю, которые дерут глотку, понося прежних хозяев.
– Но еще не закатилось мое солнце, – в бешенстве закончил он.
То была строка из Феокрита.
Начал он, по-видимому, спокойно, но закончил в полном исступлении. Страшная угроза прозвенела в его голосе. Все присутствующие это почувствовали. Греки подняли дикий шум. Римляне молчали, гневно сдвинув брови. Некоторое время ничего не слышно было в страшном гаме. Наконец крики смолкли, и Филипп продолжал. Теперь он обернулся к перребам и афаманам. Их города, сказал он, дали ему сами римляне. Если они решили забрать назад свой подарок, что ж, хорошо, но пусть помнят, что они оскорбляют верного друга ради никчемных, бесполезных и неблагодарных людей.
Суд был окончен. Римляне встали и объявили, что спорные города получают свободу, Филипп обязан вывести оттуда свои гарнизоны и оставаться в старых границах Македонии (Liv. XXXIX, 25–26). Правда, он удержал Деметриаду и большую часть морского побережья{20}.
Вторая сессия суда проходила в Фессалониках. Здесь должна была решиться судьба фракийских городов. Опять крик, гам, полная неразбериха; опять истошные призывы к римлянам. Послы Маронеи говорили, что римляне никогда не дарили их города Филиппу. Сейчас Маронея занята македонским гарнизоном, царит грубость, произвол, насилие солдат, множество людей в изгнании – словом, со всякой свободой покончено, вся надежда на римлян.
Филипп доведен был до предела. Он вдруг резко обернулся к Метеллу и сказал:
– Я хочу судиться не с маронейцами… но с вами, так как вижу, что справедливости от вас не дождешься.
Тут он напомнил, как хотел наказать македонские города, «чтобы преподать урок остальным».
– И что же? Я получил отказ.
Ему дали несколько городов.
– Но их вы тоже у меня отняли, Квинт Цецилий, несколько дней тому назад.
Он много сделал для римлян, очень много.
– Не кажется ли вам, что за такие заслуги, если не сказать больше, за такое рвение, вам следовало бы щедро вознаградить меня, расширив границы моего царства?
А вместо того у него отбирают последнее.
– Я хочу, наконец, выяснить ваше отношение ко мне. Если вы собираетесь и дальше меня преследовать, как злейшего своего врага, то продолжайте и дальше действовать в том же духе.
То ли речь царя подействовала на римлян, то ли они решили, что вопрос очень сложен, только они сказали, что необходимо поднять все старые договоры и только тогда вынести окончательное решение. Приговор, таким образом, оставался за сенатом (Liv. XXXIX, 27–28). Сенат же объявил эллинские города свободными (Polyb. XXII, 17, 1).
Филипп был вне себя. Он решил «мстить римлянам и вредить всеми возможными способами» (Polyb. XXII, 18, 8). Но до римлян добраться он не мог. А потому «гнев свой царь излил на несчастных жителей Маронеи» (XXII, 17, 11). Он отправил туда своих клевретов Ономаста и Кассандра. Ночью они ворвались в город с отрядом фракийских наемников и учинили жуткую резню. Филипп был доволен. Он немного отвел душу. Кроме того, дал грекам страшный урок, как жаловаться на него римлянам (XXII, 17, 7). Вдруг перед ним явился римский посол Аппий Клавдий. Резко и гневно он спросил, что произошло в Маронее. Царь хладнокровно отвечал, что понятия не имеет, его там и близко не было, маронейцы сами перерезали друг друга. А если Аппий не верит, он может спросить любого из жителей. Филипп отлично знал, что уж теперь-то никто не осмелиться и рта раскрыть. Аппий сухо заметил, что расспросы излишни – он и так все прекрасно знает. И потребовал, чтобы Филипп немедленно отощал в Рим Ономаста и Кассандра для выяснения всех подробностей. Филипп осекся и смешался. Наконец, он стал клясться и божиться, что услал Ономаста далеко, а Кассандра, если угодно, пришлет. Он действительно послал его в Рим, но на дорогу дал ему яду (весна 184 г.) (Polyb. XXII, 17–18).
Этот поступок окончательно вывел римлян из терпения. Они дали понять Филиппу, что если он так жаждет войны, то получит ее даже раньше, чем ему бы хотелось. Филипп действительно жаждал войны, все последние месяцы он только и делал, что к ней готовился. Но сейчас эти приготовления еще не были кончены; война означала для него неминуемую гибель. В Македонии началась паника. В этом безвыходном положении царь решил обратиться к своему сыну Деметрию.
Так началась третья, последняя трагедия, которую поставила судьба, по выражению Полибия.
Третья трагедия: царские сыновья
У Филиппа было двое сыновей – старший Персей, младший Деметрий{21}. После поражения при Киноскефалах царь должен был отдать заложником в Рим младшего, которому было всего 10 лет. Царевич прошел за триумфальной колесницей Тита – нож острый для самолюбия Филиппа. В 190 г. Деметрий наконец-то вернулся домой. Мальчик превратился в 17-летнего юношу. На македонян царевич произвел самое приятное впечатление. Он был хорош собой и держался скромно. Вскоре при дворе с удовольствием и удивлением обнаружили, что он очень образован – гораздо образованнее старшего брата, – умен и талантлив. И сердце у него как будто было доброе, не в отца. Вообще это был искренний и беззаботно веселый юноша (Polyb. XXIII, 7, 5; Plut. Arat. 54; Liv. XXXIX, 53, 1; XLI, 23, 10; Justin. XXXII, 2, 4).
Филипп гордился сыном. Деметрий был живой портрет молодого Филиппа. Глядя на него, царь видел самого себя таким, каким он был в те далекие годы, когда называл Арата отцом и слыл любимцем Эллады. Но вскоре он сделал ужасное открытие. Как говорили при дворе, «римляне отдали только тело Деметрия, душу же оставили себе». Его сын страстно, восторженно любил римлян и мог часами говорить о них с блестящими глазами. Но что уже совсем взбесило Филиппа, это то, что на место отца он поставил, оказывается… Тита Фламинина! Это уже было невыносимо! В Риме Тит опекал осиротевшего ребенка, его дом стал для царевича родным, и теперь тот обожал его (Liv. XXXIX, 47; XL, 11, 2; 5).
Этот странный мальчик, казалось, явился из другого мира. Сразу видно было, что вырос он в другой стране и в юности не дышал дворцовым воздухом. Он был простодушен и наивен, как ребенок, и абсолютно не умел скрывать свои чувства. Он мог бы, казалось, догадаться, что отец люто ненавидит римлян, что от одного слова «римляне» его трясет. Ему нужно было прятать свою дружбу с ними. Так нет же! Он будто нарочно выставлял ее напоказ, доводя отца до белого каления. Кажется, придворная жизнь была не по нраву римскому воспитаннику. Он, по-видимому, тосковал и изливал душу в письмах к тамошним друзьям, в первую очередь, конечно, к Титу. И это опять-таки очень не нравилось отцу.
Во дворце разыгрывались поистине удивительные сцены. К Филиппу теперь часто являлись его мучители, римские уполномоченные. При виде них он менялся в лице и делал огромные усилия, чтобы сдержать клокотавшую в груди ярость. И вдруг открывалась дверь, и вбегал счастливый, оживленный Деметрий. С сияющим лицом протягивал он римлянам обе руки и потом буквально переселялся к ним, так что до отъезда гостей царь его больше не видел (Liv. XXXIX, 53). В такие дни Филипп бывал вне себя. Он ломал голову над тем, как вырвать римлян из сердца сына. Но сейчас, когда пришла беда, царь решил, что спасти его может один Деметрий. Филипп призвал к себе сына и велел ехать к своим римлянам, попытаться оправдать его в их глазах и отвратить от Македонии неминуемую войну. Деметрий ушам не верил от счастья. Неужели отец, который прежде и слышать не хотел о Риме, сам отправляет его туда? Неужели сбылась его мечта?
У него прямо крылья выросли. На радостях он даже не обратил внимания на то, что отец, как водится, окружил его шпионами, что с ним едут Апеллес и Филокл, лучшие советчики отца, которые будут доносить о каждом его шаге. До того ли ему было? Ведь он ехал в Рим! Очутившись в своем любимом Риме, он забыл обо всем на свете, полетел с визитами к друзьям и знакомым и, конечно, в первую очередь к Титу. Наконец настал день, когда надо было идти в сенат. Деметрий чувствовал приятное волнение. Римляне приняли его очень ласково. Консул ввел его в Курию. После этого одно за другим стали входить греческие посольства с жалобами на Филиппа. Боже! Им не было числа. Пришли иллирийцы, пришли фессалийцы, пришли нерребы, пришли афаманы, пришли эпироты. Приходили послы от целых народов и от каждой общины этих народов. Они шли и шли нескончаемым потоком. Одни говорили, что Филипп угнал у них скот, другие говорили, что Филипп угнал людей, третьи, что Филипп отнял их землю, четвертые, что Филипп неправедно судил…
У несчастного Деметрия голова пошла кругом. Он не мог не только ответить на обвинения, но даже запомнить их. С тоской обводил он глазами сенат. Правда, римляне ему ободряюще улыбались, но он вконец потерялся и лепетал какой-то вздор. Наконец, сенаторы устали слушать лепет Деметрия. Они понимали, что ничего путного все равно не услышат. Им было куда интереснее узнать, что ответил бы его отец. Консул очень ласково спросил царевича, нет ли у него какой-нибудь памятной записки от отца. Деметрий радостно закивал и протянул консулу маленькое письмецо, о котором совсем забыл. Консул тогда предложил ему в ответ на каждое обвинение читать отрывок из письма.
Бедный Деметрий! Ничего хуже нельзя было придумать. Все письмо состояло из самых резких и язвительных упреков римлянам. Каждый абзац начинался с очередного ругательства. Деметрий сгорал от стыда. Но эта тягостная сцена получила совершенно неожиданный финал. Сенаторы объявили, что совершенно верят Деметрию. Если он ручается за отца, ручается, что он выполнит все требования и загладит все несправедливости, с них довольно его слова. Только пусть Филипп помнит – простили его ради сына[25]25
Остальным македонским послам римляне отвечали куда суровее. Они узнали, что Филипп так и не очистил Энос и Маронею. Филокл начал было им что-то объяснять, но они решительно его прервали и объявили, что, если послы их в следующий раз не найдут фракийское побережье очищенным от македонских гарнизонов, сенат больше не будет терпеть ни одной минуты (Polyb. XXIII, 1–3).
[Закрыть] (Polyb. XXII, 18, 10; XXIII, 2) (184 г.).
Кто виноват был в происшедшем конфузе? Думаю, они оба, и отец, и сын. Филипп должен был дать Деметрию самые четкие и подробные указания, как держать себя и что отвечать каждому обвинителю. А он не пожелал ввести его в курс дела. А Деметрий так закружился в Риме, что даже не удосужился заглянуть в памятную записку отца, даже вовсе забыл о ней. Наверно, он, как и многие гости с Балкан, рассчитывал, что за него все сделает Тит. Но Тит был признанным заступником Эллады, значит, никак не мог выступить защитником Македонии против обвинений эллинов.
Но, слава богу, все кончилось отлично. Деметрий был на седьмом небе и постарался, насколько возможно, продлить приятный визит. На родине его встретили чуть ли не с цветами, называли спасителем, ибо македонцы «ждали с минуты на минуту, что козни Филиппа втянут их в войну с римлянами» (Polyb. XXIII, 7, 1–4). Деметрий продолжал витать в облаках, но во дворце его быстро сбросили с небес на землю. Отец и брат встретили его зловещим молчанием. Это было уже обидно. А он-то всю дорогу мечтал, как они будут благодарить его и восхищаться тем, как хорошо он исполнил отцовское поручение. Филипп был в бешенстве – его простили, видите ли, только ради этого мальчишки Деметрия! (Polyb. XXIII, 7). Но хуже всего дело обстояло с Персеем.
Старший сын Филиппа не блистал ни особыми талантами, ни образованием. Кроме того, он был незаконный сын. Его мать была какая-то весьма легкого поведения девица, так что злые языки говорили, что многие могли претендовать на честь называться его отцом. Как шекспировский Эдмунд, Персей негодовал на судьбу и, конечно, не испытывал никакой нежности к своему брату. Ему вечно чудилось, что за его спиной шепчутся, хихикают, говорят, что он вовсе не похож на царского сына, что это ублюдок, рожденный шлюхой (Liv. XXXIX, 53у 3; XL, 9, 2){22}. Думаю, он вздохнул с облегчением, когда брата увезли заложником в Рим. Но вот он явился снова, притом такой яркий, такой талантливый, окруженный восторженным вниманием придворных. Вот тогда-то Персей его возненавидел, но возненавидел тихо. Но теперь, когда брат приехал в блестящем ореоле спасителя отечества, когда он увидал, как вокруг него толпится народ, и услыхал, как любят его римляне, он испугался. «Персей, который не только не пользовался той любовью римлян, как его брат, но был много ниже его во всех отношениях – и способностями и образованием, был страшно раздражен». Но самое главное – он боялся, что, невзирая на его первородство, его могут отстранить от власти (Polyb. XXIII, 7, 5). И что римляне могут передать трон своему любимцу.
Были ли хоть какие-нибудь основания для этих страхов? Ливий передает, будто подобные разговоры действительно велись в народе и македонцы хотели, чтобы царем стал приятный им Деметрий, который к тому же так дружен с римлянами (Liv. XXXIX, 53, 3–4). Но если даже и правда были такие разговоры, они не имели никакого значения. Македония, слава богу, не демократия и мнение народа никто не собирался спрашивать. Важнее как будто другой факт. Полибий передает, что такая идея пришла Титу и он даже поведал о ней своему питомцу. Тит обожал интриги. Поэтому очень возможно, что в его изобретательной голове действительно родилась эта светлая мысль. Возможно также, что он кружил голову своему питомцу радужными надеждами. Но когда молодой царевич вернулся во дворец, надежды эти обуглились и стали пеплом, как яркие бабочки с блестящими крыльями, которые подлетают слишком близко к огню.
Римляне не могли столь грубо вмешиваться во внутренние дела Македонии и не могли заставить царя мимо обычая передать престол младшему сыну (Liv. XL, 9). Ни при жизни Филиппа, ни сразу после его смерти они не сделали ни единой попытки отстранить неприятного им Персея, хотя, как увидим, у них несколько раз был для этого превосходный повод. И Деметрий не сделал ни единой попытки в этом направлении. Но Персей был трус всегда, всю жизнь. Это-то впоследствии его и погубило. Он испугался и решил, что у него один выход – убить брата. Но он вовсе не собирался прибегать к кинжалу или яду. В его руках было гораздо более безопасное и надежное оружье – донос. Этот способ удивительно согласовывался с его характером и темпераментом. Одним талантом он обладал несомненно. Это был настоящий виртуоз по части придворных интриг. Персей теперь непрерывно плел тончайшую паутину и постепенно опутал ею брата с ног до головы. Он подкупал ближайших к нему людей, он окружал его шпионами, он переманивал на свою сторону все новых и новых влиятельных вельмож. Театральной сценой для него не раз служил пиршественный зал.
У македонцев вообще в крови была страсть к вину. Рассказывают, что даже днем можно встретить пьяного македонца, с недоверием говорит Полибий (VIII, 11, 4). Пиры же македонских царей давно стали притчей во языцах. Их сравнивали с пиршеством чудовищных кентавров. Эти пиры длились много часов и превращались в какую-то дикую оргию. Иногда разгоряченные сотрапезники устраивали настоящие побоища и между столами проносились кубки и чаши (VIII, 11, 13; V, 15, 2–4). Отец Александра Македонского, знаменитый Филипп, был нрава веселого. Однажды он справлял очередную свадьбу при жизни жены Олимпиады, матери Александра. Дядя невесты напился до того, что поднял тост за то, чтобы у царя наконец-то родился законный наследник. Взбешенный Александр схватил тяжелую чашу и запустил ею в оратора. Филипп в гневе вскочил, обнажил меч и кинулся на сына. Но неожиданно упал наземь и более не двигался (Plut. Alex., 9). Сам Александр на таком же пире убил лучшего друга. Однажды среди сотрапезников оказались греки. Александр поймал их полный ужаса и недоумения взгляд и с усмешкой сказал:








