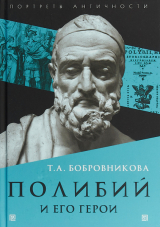
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
Фессалийцы и перребы тоже резали друг друга. К ним срочно выехал Аппий Клавдий и выяснил, что сейчас режутся из-за долгов. Он сидел день и ночь и наконец составил некий договор: заимодавцы должны были снизить процент – он был бессовестно велик, – а погашение долга он разложил на 10 лет (Liv. XLII, 5).
Взаимная ненависть партий была такова, что, приходя разбирать свое дело в присутствие римских послов, люди в ярости кидались друг на друга, чтобы растерзать. Слабейшая сторона с воплем пряталась за римлян, причем иногда это были представители как раз враждебной Риму партии (Polyb. XXVII, 2).
Единственные, кто был спокоен, это ахейцы. А кто водворил мир? Этот мерзавец Калликрат. Ведь это он вернул изгнанников в Спарту и Мессену.
Как римляне ни бились, они так и не могли установить в стране порядка. Накануне Персеевой войны по всей Греции опять лилась кровь. Где тот мир, о котором молили они богов? Римляне его обещали, но обещания не выполнили.
Вместо прежнего восторга римляне стали ощущать теперь усталость и отвращение. Метелла, когда он побывал на собрании ахейцев и наслушался, как они оговаривают друг друга, охватило вдруг такое омерзение, что он немедленно уехал. Если бы греки были повнимательнее, то заметили бы, что римляне слушают их рассеянно, с отсутствующим видом, отвечают подчас невпопад, отделываются общими фразами и устало советуют жить в мире. Римляне все холоднее, все суше, все надменнее, все презрительнее говорили о греках. Им нельзя доверять, предупреждает Цицерон брата, отправлявшегося на Восток, «так лживы, так легковесны многие из них… друзья они пылкие, но неверные – они… завидуют не только нам, но и своим соотечественникам» (Quint.fr. I, 1, 5).
И вот теперь последний удар. Открыли архив Персея. Оказалось, что римлян предавали все. Даже их лучший друг Евмен Пергамский, чье маленькое царство они расширили, а самого буквально осыпали благодеяниями, был, оказывается, в тайных сношениях с Персеем.
Но самыми двуличными и неблагодарными, на взгляд римлян, оказались греки.
Уж сколько делал для них Тит! А пожинал только попреки то от этолян, то от ахейцев. Кончилось тем, что этоляне объединились со злейшими врагами римлян и призвали Антиоха и Ганнибала. И Тит же их защищал в сенате. А ахейцы? Филипп издевался над ними, публично позорил их жен и дочерей. Он держал в своих руках Акрокоринф и отдал Аргос Спарте. Римляне освободили ахейцев от Филиппа. Оградили от набегов этолян, спасли от Набиса, отдали назад Аргос и их мечту, Акрокоринф. Они отдали все окружающие Спарту города под покровительство ахейцев; они, правда, скрепя сердце, ввели в союз Мессению. Они смирились и с тем, что туда вошла Спарта. Они просили только об одном – не терзать эту несчастную Спарту. И что получили? Их называли тиранами и деспотами. Самого Тита, который все это сделал, Филопемен не выносил и не принимал.
Началась тяжелая Персеева война. Греки подло бросили их в трудный момент, лгали и водили за нос пустыми обещаньями, ахейцы реально предложили помощь только на третий год войны. И это после всех восторгов, цветов, пылких клятв в вечной дружбе, после того, как их носили на руках и в глаза называли богами-спасителями! Многие греки открыто переметнулись к македонцам. Мало того. Оказывается, в каждом городе, в каждой общине была масса людей, которая была в тайных сношениях с Персеем. Они только ждали случая, чтобы изменить. И если вся Эллада не встала на сторону Македонии, хладнокровно говорит Полибий, то виноват в этом исключительно сам Персей. Дай он эллинам деньги, то «ни один здравомыслящий человек не будет оспаривать этого – все эллинские народы… были бы привлечены на его сторону». Притом и заплатить-то надо было немного, добавляет он (XXVIII, 9, 4–7). Ведь греки, как поясняет он, ничего не делают даром (XVIII, 34, 7–8). Нет, верить этому народу нельзя. Всего можно ждать от подобных людей.
Сторонники жесткого курса торжествовали. Они могли теперь с насмешкой спрашивать, к чему привела политика «сентиментального благородства»?[30]30
Выражение Хейвуда (с. 65, 80). Мне кажется, лучше было бы говорить о романтическом благородстве.
[Закрыть] Политика, которая стоила Риму столько крови и сил. Какую благодарность получили римляне? В сенате, конечно, кипел бой. И усталые, убитые эллинофилы были сокрушены{33}.
* * *
После Персеевой войны мир впервые увидал лицо разгневанных римлян. Решено было на сей раз показать высшую суровость, на которую они способны. На Балканы явились десять уполномоченных. Прежде всего свою участь должны были узнать македонцы.
Эмилий издал указ, чтобы в Амфиполь явилось по десять представителей от каждого значительного македонского города. В назначенный день все они собрались. Огромная толпа заполнила всю центральную площадь города. Все оглядывались со страхом и любопытством. Македонцы не увидели привычных символов власти: ни порфиры, ни диадемы, ни трона, ни пышной золоченой свиты. Вместо того им предстала необыкновенная картина. На площадь вступили 12 служителей, несших связки прутьев и секиры. Они остановились перед сооруженным в центре возвышением. За ними шел сам Эмилий в пурпурном плаще. Он поднялся на возвышение и сел на маленькое украшенное слоновой костью кресло без спинки. Видя перед собой этот «новый образ власти», все поражались и трепетали. Затем глашатай подал знак, все затихло, и Эмилий возвестил решение их судьбы.
Страна разделялась на четыре независимых государства. Политические и экономические связи между ними прекращались. Налоги, которые македонцы прежде платили царям, сокращались вдвое и отныне шли в римскую казну. Это было другим видом контрибуции, которую Рим всегда взимал с побежденных{34}.
Золотые и серебряные прииски временно закрывались; железные же и медные по-прежнему разрабатывались теми, кто имел на них подряды.
Объявлялось общее разоружение, но пограничные племена сохраняли армию для борьбы с варварами.
Во вновь образованных странах устанавливалась демократия, причем в очень сложной и продуманной форме. Верховный совет выбирался на основе представительной системы, а главный магистрат – что-то вроде президента – всеобщим голосованием. Аналогичное положение было в Иллирии, которая разделялась на три части. Римляне не принимали участья в управлении, республики были совершенно независимы (Liv. XLV, 26; 29–31; Plut. Paul. 28; Diod. XXXI, 13){35}.
Эмилий Павел немедленно погрузился в составление новых законов для македонцев. Он делал это так добросовестно и с таким увлечением, «как будто назначались они не для врагов поверженных, а для добрых союзников» (Liv. XLV, 32, 7). И его труды увенчались успехом. Законы Эмилия, по словам античных авторов, выдержали главное испытание – испытание временем. Прошло двести лет, республики пали, а македонцы продолжали пользоваться законами Павла (Justin. XXXIII, 2, 7; Liv. XLV, 32, 7). Новое устройство Македонии английский ученый Скаллард называет достаточно удачным экспериментом, «особенно учитывая, что народ не привык к самоуправлению»{36}. Уже через 10 лет, в 158 г. Македония снова получила право разрабатывать рудники и чеканить монету.
Условия мира поразили тогдашний мир. Разумеется, римляне хотели разоружить и обезвредить Македонию. Удивительно было не это. Они в третий уж раз схватились в смертельной схватке со страшным врагом, свалили его, держали в руках… И что же? Вместо того чтобы уничтожить и поработить, они еще с необыкновенной заботливостью составили для них демократическую конституцию! Это у греков просто в голове не укладывалось. Полибий пишет: «Важные и многочисленные услуги оказали македонцам римляне: государство их освободили от произвола самовластных правителей и от тягости налогов, состояние рабства заменили свободой» (XXXVII, 9, 13).
Теперь надлежало заняться Грецией. К ней римляне отнеслись много суровее. Они и всегда бывали снисходительнее к открытым врагам, чем к тем, кого считали предателями. Начались расследование дел явных или тайных сторонников Персея. Решено было выслать их в Италию. Такова была судьба многих этолийских политиков. «Те члены сенатов этолийских городов, на которых еще нельзя было положиться, были отправлены с женами и детьми в Рим, их долго держали там, опасаясь, что они что-нибудь затеют у себя на родине. В течение многих лет посольства от греческих городов досаждали сенату просьбами о их освобождении и, наконец, они были отпущены каждый на свою родину» (Justin. XXXIII, 2, 8). Казни применялись в исключительных случаях. Так, в Греции казнили двоих – этолянина Андроника и фиванца Неона, которые склонили сограждан к союзу с Персеем (Liv. XLV, 31, 15). Как всегда, римляне выбрали одно государство, которое решили примерно наказать в назидание потомкам. Это был Эпир, который встал на сторону Персея и воевал с римлянами. Эмилий Павел получил приказ отдать на разграбление солдатам эпирские города. Ужасная и бессмысленная жестокость, которой нет оправдания! Греки заметили, что полководец выполняет это распоряжение с отвращением, ибо оно «в высшей степени противно его натуре снисходительной и мягкой» (Plut. Paul. 30).
* * *
Итак, говорит Скаллар, «Греция осталась свободной и, если не считать небольших повинностей на военные издержки, Рим не сделал попыток воспользоваться своей победой. Но его поведение изменилось… Старая эллинофильская политика умерла, убитая бесконечными распрями самих греков и настроением римлян, которое постепенно превратилось в усталое желание вымыть руки от всех греческих дел»{37}.
Полибий теряет родину
…вмиг ураган подхватил и понес их
Прочь от родных берегов…………..
Духом отважным своим я меж двух колебался решений:
Броситься ль мне с корабля и погибнуть в волнах разъяренных
Иль все молча снести и остаться еще средь живущих.
Одиссея. X, 48–52
Естественно, обстановка в стране была тяжелая и тревожная. В эти дни Полибия больше всего возмущала даже не суровость римлян, нет, – мучила его подлость его соотечественников. Спору нет, находились люди мужественные и твердые, достойные восхищения. Но, боже мой, сколько вынырнуло мерзавцев, которые готовы были воспользоваться чужими несчастьями! Афинян попросили ходатайствовать перед римлянами за беотийский город Галиарт, взятый за измену. Афиняне вообще охотно брались за подобные поручения. Римляне их почитали, они же умели говорить ужасно красноречиво. Итак, они попросили за Галиарт. Римляне отказали. Но афиняне и не думали настаивать. Вместо того они тут же попросили, чтобы им подарили земли Галиарта! Полибий ушам не верил. «Вместо того чтобы всеми средствами содействовать возрождению… города… постигнутого несчастьем, разрушать его до основания и тем отнимать у обездоленного народа последнюю надежду, очевидно, не подобало бы никому из эллинов, афинянам менее всего… Сделать свое отечество родным для всех эллинов и в то же время уничтожать чужие города!..» (XXX, 21).
Родосцы были в тайных переговорах с Персеем и вели себя двулично. Услыхав о сокрушительном поражении Македонии, они встрепенулись и полетели в Рим. Явились они все в белом, сияя от счастья, и объявили, что пришли поздравить своих дорогих друзей. Консул сухо сказал, что вели они себя не как друзья Рима и сенат не желает их видеть. С душераздирающим воплем рухнули родосцы к ногам консула, они хватали прохожих за одежду, рыдали, причитали, потом вскочили, сбросили белую одежду, накинули черную и пошли стучаться подряд в дома именитых римлян. Наконец сенат их принял. И что же? Их оратор произнес прочувствованную защитительную речь, в которой облил грязью всех прочих эллинов. Он с неистовой злобой перечислял все их вины и грехи, которые римляне уже давно позабыли или не знали вовсе. И все они помилованы! – восклицал он. Читая эту речь, потому что оратор поспешил ее издать, Полибий онемел от негодования. Это же настоящий донос! А ведь, кажется, никто не сочувствует доносчикам. Наоборот. Мы «считаем прекрасными людьми тех, кто выдержал пытку… лишь бы не вовлечь в беду кого-нибудь из товарищей». Что же сказать об этом человеке, чуть ли не первом гражданине Родоса, который «из суетного страха перед власть имущими обличал прегрешения всех прочих народов и в памяти владычествующего народа оживлял такие события, которые от времени пришли даже в забвение?» (Polyb. XXIX, 19, 4–11; XXX, 4; Liv. XLV, 20, 4–21). Однако родосцы были прощены.
Полибий не переставал негодовать на Персея. Когда отец его был разбит при Киноскефалах, что сделал он прежде всего? Послал ночью вестника с приказом уничтожить всю свою переписку. Потому что он понимал, как должен вести себя царь в несчастье (XVIII, 33, 1–2). А этому подлецу Персею такое даже в голову не пришло. Естественно, он жалел только себя, ему совершенно наплевать было на всех тех, кого он втянул в свою проклятую игру. И вот местные Калликраты[31]31
Это имя стало нарицательным в Элладе. Думаю, в основном благодаря Полибию.
[Закрыть], все эти доносчики из Этолии, Акарнании, Беотии, словно стая стервятников, слетелась к уполномоченным в Македонию. И каждый держал в руках исполинский список тайных агентов Персея, который любовно составил дома. Пользуясь гневом римлян, они открывали им все новые и новые преступления своих сограждан (Polyb. XXX, 13, 1–5; Liv. XLV, 31, 5–9).
С отвращением смотрел на все это Эмилий Павел. Его буквально мутило от вида греческих доносчиков. Будь его воля, он выгнал бы их всех вон. Но что он мог сделать? Он не был ни дипломатом, ни даже политиком. Говорили, что возиться с этими подонками требует реальная политика. А он с самого начала поставил себя как воин и, завершив свое дело, молча уступил свое место другим. Отчасти и в паломничество свое по Элладе он отправился, чтобы очистить душу от всей этой скверны.
Но пришлось вернуться и снова увидеть всю эту стаю доносчиков. Здесь ждал его новый «приятный» сюрприз. Этолянин Ликиск, ярый поборник Рима и доносчик, решил, что нечего мелочиться и губить своих политических врагов по одному, а лучше уничтожить их всех скопом. Он устроил жуткую резню и перебил всю противную партию. Притом втянул в дело римский гарнизон, внушив, что это враги римлян, замышляющие предательство. Кончилось тем, что убийц-этолян простили, но вот кого наказали, так это главу римского гарнизона. Тут уж постарался Эмилий Павел, ибо он считал, что не подобает римлянину участвовать в греческих подлостях (Liv. XLV, 28, 6–8; 31, 1–2).
Да, конечно, было тревожно. Но Полибий точно знал, что ни он, ни члены его партии не написали царю ни строчки. Поэтому был спокоен. И вдруг явились двое римских послов самого высокого ранга. Ахейцы сразу почувствовали недоброе. Послы прочли список лиц, которые должны были ехать заложниками в Рим. Одним из первых Полибий услыхал свое имя…[32]32
Его отца Ликорты, видимо, не было уже на свете.
[Закрыть]
Он сразу понял, что произошло. Конечно, это Калликрат его оклеветал и выставил чуть ли не главным агентом Персея. На это Калликрат был великий мастер. Правда, впоследствии Полибий имел случай убедиться, что Эмилий Павел не верит ни единому слову греческих доносчиков и относится к ним с глубоким отвращением. Но под письмом он вынужден был поставить свою подпись (ХХХ,13, 8–11).
Калликрат стал теперь во всем Пелопоннесе притчей во языцех. Дети, возвращаясь из школы, завидя его, кричали:
– Предатель!
А когда он выходил из общественного бассейна, следующие посетители громко звали служителя и приказывали спустить всю воду и набрать новую, ибо им противно было войти в воду, где плескался этот гражданин (XXX, 23).
Увы! Полибию от этого было не легче. Участь его была решена. Он ехал в Италию{38}.
То был страшный, неслыханный удар. Все, ради чего он жил до сих пор: политическая карьера, военная слава, служба союзу, все это рухнуло. Вчера еще он был блестящий политик, будущий стратег, сегодня – жалкий пленник. Поднимаясь на корабль, который увозил его на запад, он должен был с тоской спрашивать себя, что его ждет? Что это за город, что за люди, среди которых он принужден отныне жить? Ибо доселе он представлял их плохо. Проникла ли к ним эллинская культура, или они остались прежними варварами? Благородны ли они и великодушны, как говорят некоторые? Или скорее черствы, холодны, суровы? А если так, как отнесутся они к сыну их старинного противника, вдобавок оклеветанному перед ними, сейчас, когда он совершенно беспомощен и всецело в их власти? И у ж все согласны, что это самые гордые люди на свете. С каким же высокомерным презрением будут они смотреть на жалкого бесправного пленника из маленького Пелопоннеса! Найдет ли он там хоть одного друга, хоть одну родную душу?
Книга вторая
РИМ
Глава I. НАЗВАНЫЙ СЫН
Горе! В какую страну, к каким это людям попал я?
К диким ли, духом надменным и знать не желающим правды?
Или же к гостеприимным и с богобоязненным сердцем?
Гомер. Одиссея. VI, 119–121
Вот он и сын твой, какого иметь пожелал бы и всякий.
Гомер. Одиссея. XX, 35
Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.
А. С. Пушкин
Чужбина
Сбылись наиболее мрачные предчувствия Полибия. Рим казался самым унылым местом на свете. Город беспорядочно располагался на холмах и в оврагах и состоял из низких неказистых домов и тесных улочек. Ни единого величественного здания, ни одного красивого портика! Центром и средоточием всей жизни был Форум. Римляне, можно сказать, дневали и ночевали на Форуме. Там проходили народные собрания, там обыкновенно собирался сенат, там чуть ли не ежедневно проходили судебные разбирательства. Там стояла трибуна, украшенная медными носами кораблей – называлась она Ростры, – с которой говорили ораторы. Там, у солнечных часов люди собирались и узнавали последние новости. Там тянулись торговые ряды и биржи.
Полибий, конечно, спустился на Форум, потому что туда именно спускались. То была низкая площадь между двумя холмами, некогда просто болото, ныне осушенное. Неправильной формы, вся загроможденная в полном беспорядке расположенными строениями и старыми изваяниями, она должна была произвести самое удручающее впечатление на эллина, привыкшего к стройности и величию греческих площадей.
Над Форумом высился Капитолий, высокий крутой холм, римский акрополь. Сюда поднимаются триумфаторы, а на самом верху стоял храм Юпитера Всеблагого и Величайшего, куда весь мир отправлял дары. Это было небольшое строение, на крыше которого стояли простые глиняные раскрашенные статуи старинной этрусской работы. И это все (Strab. V, 3, 8; Plut. Marcel. 21; Cic. Agr. II, 106; Liv. XL, 5).
Правда, в некоторых храмах он увидел греческие статуи и картины, вывезенные из Эллады. Но это было еще хуже и напоминало ему о несчастьях его родины. Даже каменного театра здесь не было. Раньше, говорят, актеры разбивали подмостки прямо на улице. Семь лет назад устроили постоянную сцену (Liv. XLI, 27, 5). Здесь ставили переделки греческих пьес. Но они никак не могли заинтересовать Полибия, который видел оригинал. Кроме того, он не знал латыни. Первым поразившим нашего героя в Риме зрелищем было следующее. Люций Аниций, праздновавший триумф почти одновременно с Эмилием Павлом, устроил празднество в честь недавней победы над иллирийцами. Приглашены были знаменитейшие флейтисты и актеры Греции. Все они разом начали игру. Но вскоре выяснилось, что особого успеха они не имеют. Тогда Аниций предложил им лучше подраться друг с другом. Сначала музыканты были в полном недоумении. Но вскоре они поняли, чего от них хотят, и к величайшему восторгу зрителей устроили на сцене нечто невообразимое. Они разделились на отряды и затеяли какое-то подобие правильной битвы. Под дикую разноголосицу флейт они то сходились, то расходились, дико топая ногами, так что сцена тряслась и ходила ходуном. Они делали вид, что замахиваются друг на друга, словно боксеры. «Зрелище всех этих состязаний получилось неописуемое, – вспоминает Полибий, – что же касается трагических актеров, то мои слова показались бы глумлением над читателем, если бы я вздумал что-нибудь передать о них» (XXX, 14).
И вот в этом городе он осужден был жить месяцы, годы, может быть, всю жизнь. Впрочем, на этот счет его быстро успокоили. Заложников не оставят в Риме – их быстро развезут по италийским городам. Это, наверно, какая-нибудь провинциальная копия Рима, какое-нибудь глухое захолустье.
У него оставалась последняя надежда: вдруг им позволят вернуться? Он знал, что ахейцы отправили посольство просить об этом сенат. И ждал результатов в страшном волнении. Отказ. Герой наш так описывает свое состояние, когда он услышал роковой ответ. «Когда разнесся слух об этом… не только отозванные в Рим ахейцы пришли в уныние и совершенно пали духом, но и все эллины охвачены были как бы единой скорбью, ибо сознавали, что полученный ответ навсегда отнимает у несчастных надежду на освобождение… всеми овладело какое-то отчаяние» (XXXI, 8, 10–11).
Черная ночь окутала душу Полибия. Он признавался, что ему приходила мысль о самоубийстве (XXX, 7, 7–8).
Новые знакомые
Однажды, когда жить в Риме оставалось ему уже считаные дни, у кого-то из знакомых Полибий встретил двух юношей. Старшему было лет 20 или немногим более, младшему, как потом выяснилось, 18, но выглядел он моложе своих лет и показался Полибию совсем подростком. Старший был приветлив, вежлив и разговорчив; младший застенчив, молчалив и явно дичился Полибия. С изумлением Полибий услыхал их имена. То были сыновья Эмилия Павла, отданные им в усыновление, последние, которых оставила ему злая судьба. Старшего звали Квинт Фабий Максим, младшего – Публий Корнелий Сципион. Какое имя! Сципион Африканский, «самый знаменитый человек всех времен» (X, 2, 1), победитель Ганнибала и Антиоха Великого, за которым толпами ходили люди в Элладе, принимать которого за честь для себя почитал Филипп Македонский, величайший полководец, о котором уже написаны горы книг!.. Мальчик оказался его приемным внуком. Полибий был поражен и смущен. Он понял, что перед ним настоящие принцы крови. Впрочем, одеты они были просто и держались просто и дружелюбно.
«Знакомство началось с передачи нескольких книг и разговора о них» (XXXII, 9, 4). Видимо, Полибий не сумел взять в Италию всю свою библиотеку, а жить без книг не мог. А у братьев нужные книги оказались. Полибий высказал свое мнение о прочитанном. Как истинный эллин, он очень любил поговорить на отвлеченные темы. Мальчики смотрели на него широко открытыми глазами. Никогда еще они не встречали такого блестящего и интересного собеседника. Фабий пригласил его в гости.
Вскоре новые друзья с торжеством сообщили, что никуда он не уедет. Они уже бегали к претору и упросили оставить Полибия в Риме. Что ж, это уже был удачный поворот судьбы. Тут грек узнал много удивительных вещей. Оказывается, Эмилий Павел из всех сокровищ Македонии взял только царскую библиотеку и подарил Фабию и Сципиону, которые страстно любили эллинские науки. И теперь мальчики глотали книгу за книгой. Выяснилось также, что заботами отца они получили самое изысканное греческое образование. Их окружали лучшие учителя и наставники, выписанные из Эллады. Обучали их разнообразным, подчас довольно необычным предметам. Не только грамматике, риторике, философии, но ваянию, живописи, верховой езде, искусству ухаживать за собаками, охоте (Plut. Paul. 6). Ha это их отец тратил все свои деньги. Когда недавно после своей великой победы он приехал в Афины, то первыми его словами были, не могут ли афиняне порекомендовать ему философа и художника для обучения детей (Plin. N. H. XXXV, 135){39}.
Юноши казались Полибию удивительно симпатичными. Особенно сошелся он с Фабием, подолгу с ним разговаривал и расспрашивал. Сципион по-прежнему больше молчал, только внимательно глядел на Полибия. А греку он по-прежнему казался ребенком. Уже Полибий радовался, что познакомился с такими милыми людьми. Уже он надеялся, что знакомство это перерастет в настоящую дружбу. И вот однажды, ничего не подозревая, вышел он из дома, чтобы, как обычно, навестить своих юных приятелей. Между тем он стоял у второго крутого поворота судьбы своей. Всего через несколько часов жизнь его должна была резко измениться.
Он зашел к Фабию, они поболтали немного, а потом хозяину надо было идти по делам. Мы все втроем вышли из дома, вспоминает наш герой. Фабий повернул к Форуму, а Полибий и Сципион пошли в другую сторону. Вот тут-то это и случилось.
Неожиданно «Публий тихим, мягким голосом, с краской в лице спросил меня:
– Почему, Полибий, когда мы с братом вместе, ты всегда говоришь только с ним, его обо всем расспрашиваешь, ему все объясняешь, а на меня не обращаешь внимания? Ясно, что и ты обо мне такого же мнения, как все римляне. Я слышал, что кажусь всем безвольным и вялым, а так как я не занимаюсь ведением дел в судах, то совсем лишенным римских черт характера и римской энергии. Они говорят, что не такой глава нужен дому, откуда я родом, а совсем противоположный мне человек. Это мучит меня больше всего.
Полибия поразили уже первые слова Публия, на которого он доселе привык смотреть как на ребенка. Он сказал:
– Ради богов, Сципион, не говори и не думай таких вещей! Я делаю это не потому, что осуждаю тебя или не обращаю на тебя внимания, совсем нет. Просто твой брат старше. Вот я и начинаю разговор с ним и в конце обращаюсь тоже к нему, и свои мысли и советы высказываю ему, уверенный, что и ты с ним согласишься. С восхищением услыхал я сейчас, как мучает тебя мысль, что у тебя не такой деятельный характер, какой должен иметь представитель твоего дома. Эти слова показывают высокий дух. Я бы с радостью сделал все, что в моих силах, чтобы помочь тебе говорить и действовать достойно своих предков. У вас – и у тебя, и у твоего брата – не будет недостатка в людях, готовых помочь в науках, которыми вы, как я вижу, сейчас с таким увлечением занимаетесь. Я вижу, толпы таких людей прибывают сюда сейчас из Эллады. Но в том деле, которое, как ты признался, тебя так мучает, я думаю, ты не мог бы найти более подходящего товарища и помощника, чем я.
Полибий еще не кончил, как Публий схватил обеими руками его руку и, с жаром сжимая ее, сказал:
– Если бы дожить мне до того дня, когда ты оставишь в стороне все прочие дела, посвятишь свои силы мне и станешь жить со мной вместе. Тогда, наверно, я сам скоро нашел бы себя достойным и нашего дома и наших предков».
Полибия, по его словам, охватили смешанные чувства. Его тронула горячая любовь мальчика, и он сам потянулся к нему всей душой. Но в то же время он был смущен, ибо понимал, какая бездна их разделяет. Он вновь вспомнил о «высоком положении дома Сципионов и о могуществе его представителей». Но Публий, казалось, меньше всего об этом думал.
Полибий еще не понимал тогда всего значения этого разговора. Конечно, он был сразу очарован и заинтересован своим юным другом. Но он и не подозревал, как сильно суждено ему было его полюбить. Уже вскоре они привязались друг к другу так, «словно между ними существовали отношения отца к сыну». Отныне этот мальчик, человек из чужого народа и чужого мира, стал ему дороже всего. Даже голос Полибия меняется, когда он говорит о своем воспитаннике. В нем звучит нежность, восхищение и гордость. Он без меры гордился каждым его успехом. Гордился и любовью Сципиона. «Дружеские отношения между Полибием и Сципионом сделались настолько близкими и прочными, что молва о них не только обошла Италию и Элладу, но об их взаимных чувствах и постоянстве дружбы знали и весьма отдаленные народы», – говорит он (XXXII, 9, 3–10; 11, 1).
Итак, Полибий переехал в дом Сципиона, где суждено было ему прожить много лет{40}.
В доме римского патриция
Дом Сципиона, который неожиданно стал родным домом для Полибия, не поражал ни богатством, ни роскошью. Сын Эмилия Павла не любил роскоши. И богатства особого не было. «Для римлянина он был человек среднего состояния» (Polyb. XVIII, 35, 10). Да и не только для римлянина. Этолянин Александр имел состояние в 200 талантов, а Эмилий Павел – 60[33]33
Для сравнения скажу, что такую сумму Арат обещал братьям-сирийцам в случае удачи операции с Акрокоринфом.
[Закрыть] (XXI, 26; XXXII, 14, 3). В ахейских домах Полибию, вероятно, случалось видеть и более дорогую посуду, и более роскошную мебель. Однако в простом платье и за простым столом Сципион казался ему еще более принцем крови, чем если бы был в золоте и жемчугах. Полибий знал, что Корнелия, младшая сестра его отца-усыновителя, обменивается подарками со всеми царями, а Назика, муж старшей сестры, со многими из них связан гостеприимством. Любой царь мира счел бы за честь принимать Сципиона. Клиентами Эмилия Павла были целые страны и народы, а у Сципиона в одном Риме их было столько, что он мог составить из них целый отряд (Арр. Iber. 84). Это был другой мир, не тот, к которому привык грек на родине.
Первое, что увидел Полибий, когда из вести´була, маленькой прихожей, вошел в просторный главный зал, атриум, – небольшой деревянный храмик. Стоял он на самом видном и почетном месте – сразу видно было, что это главная святыня и главная гордость дома. Полибий был слишком любопытен, чтобы пройти мимо. Он подошел, стал внимательно осматривать храмик и, разумеется, засыпал своего юного друга вопросами. Вместо статуй богов он увидал там восковые маски. Ему тут же объяснили, что это маски предков Сципиона[34]34
Из дома Сципионов, но не Эмилиев Павлов.
[Закрыть]. Они точно воспроизводили не только черты лица, но даже цвет кожи. Такие храмики стояли, оказывается, в доме каждого знатного римлянина. Сами римляне говорили, что желают всегда иметь эти изображения перед глазами: в трудную минуту один взгляд на их великих предков поддерживает в них силу духа и мужество. «Изображения предков вместе с подписями к ним по обычаю помещались в передней части дома, чтобы потомки не только читали о их доблестях, но и подражали им» (Val. Max. V, 8, 3; ср.: Cic. Pro Mur. 66).
Полибий мог узнать, рассматривая маски, что все предки его воспитанника были знаменитыми людьми. Но однажды он увидал зрелище, которое потом не мог забыть никогда. Предки ожили. Ему довелось присутствовать на похоронах знатного римлянина. За гробом, рассказывает он, следовали люди, наиболее схожие с предками видом и ростом, надев их маски. «Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консул или претор… или в шитые золотом, если он был триумфатор… Сами они едут на колесницах, а впереди несут пучки прутьев, секиры и прочие знаки отличия». Все это странное шествие медленно двигалось к Форуму. У Ростр оно остановилось. «Предки» сошли с колесниц и уселись вокруг в креслах из слоновой кости. Покойного подняли на Ростры и поставили на ноги, лицом к площади. Сын умершего поднялся за ним на Ростры и произнес речь, где восхвалял подвиги умершего. «Предки» внимательно его слушали. Затем он обратился к «предкам» и стал прославлять каждого из них, одного за другим, напоминая все, что они вынесли ради Рима. Народ слушал в благоговейном молчании, и в памяти всех воскресали деяния далекого прошлого и недавнего настоящего.








