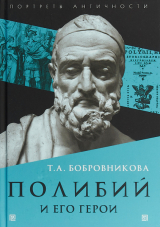
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 36 страниц)
Теперь мы яснее сможем понять, что подразумевает под пользой истории Полибий. Очевидно, она должна сделать нас счастливее и прекраснее в нравственном отношении, т. е. лучше. Действительно, во-первых, она дает читателю непреходящие уроки и учит, как избежать ошибок в будущем. «Каковы бы ни были удачи в настоящем, никто из здравомыслящих людей не может ручаться с уверенностью за будущее. По этой причине, утверждаю я, ознакомление с прошлым не только приятно, но еще более необходимо». Только изучив историю, мы поймем, кто наши настоящие союзники, с кем традиционно мы всегда были связаны и к кому в трудную минуту обратиться за помощью. «Деяния прошлого, проверенные самым ходом событий, указуют подлинные мысли и чувства каждого народа. И все это представляет величайшие выгоды» (III, 31, 3–10). Еще важнее другое. События нашего времени часто для нас не ясны и туманны. Но в прошлом мы находим аналогии с современностью и начинаем понимать смысл происходящего. «Сближая положения сходные с теми, какие мы сами переживаем, мы получим опору для предвосхищения и предвиденья будущего» (XII, 25, 3).
У наших современников подобные слова вызывают скептическую улыбку. XX в. слишком хорошо показал нам тщетность подобных мечтаний, и мы твердо уверены, что никакие уроки прошлого никогда не удержат человечество от новых безумств. Но Полибий, как истый эллин, свято верил в силу человеческого разума. Более того, он придерживался странного для нас взгляда, что человеку можно объяснить, где истина, и даже – это уж совсем невероятно! – доводами разума заставить этой истине следовать! (Об этом мы поговорим подробнее позже.) И тут неоценимую пользу приносит познание прошлого.
Все это может сделать нас счастливее. Но действительно ли история может сделать нас лучше? Да, и это неизмеримо важнее. История способствует нравственному исправлению людей, ибо «лучшей школой для правильной жизни служит нам опыт, извлекаемый из правдивой истории событий» (I, 36, 9–10). И Полибий настойчиво стремится достигнуть этой цели – нравственного воспитания читателя. Цель эта красной нитью проходит по всей его книге.
Место автора
Пожалуй, самый интересный пример тому относится к событиям времен Клеоменовой войны. Рассказывая о ней, историк Филарх, говорит Полибий, как будто нарочно, с тайным удовольствием останавливается на описании всяких кровавых сцен.
«Поступает он таким образом во всей истории, постоянно стараясь рисовать ужасы перед читателем… По его мнению, задача истории состоит в изложении несправедливых деяний. Напротив, о великодушии мегалопольцев[56]56
Речь идет о том, как бежавшие из своего города мегалопольцы отказались принять условия Клеомена и изменить Ахейскому союзу.
[Закрыть] …он не упоминает вовсе, как будто исчисление преступлений важнее для истории, чем сообщения о благородных, справедливых действиях, или же как будто читатели исторического сочинения скорее могут быть исправлены описанием противозаконных поступков, а не прекрасных и достойных соревнования». Таким образом, Филарх «закрывает глаза на дела прекраснейшие и вниманию историка наиболее достойные» (II, 56–61).
Какая сильная и какая красивая мысль! Очень отрадно сознавать, что как историк Полибий не унизился до взгляда тех, кто видит в истории нагромождение бессмысленных ужасов. А как человек он, живя в эпоху жестокую, полную преступлений и убийств, не утратил светлого взгляда на людей.
Однако бросается в глаза одна странность, одна удивительная черта. В чем, собственно, обвиняет Полибий Филарха? Может быть, он скрыл благородный поступок мегалопольцев? Ничего подобного. Он весьма подробно и внятно описывает, как бежали они в Мессену, как пришел к ним вестник с соблазнительными предложениями Клеомена и как его встретили градом камней. Но тогда в чем же его ошибка? «То, что… собственно составляет предмет истории, он опустил, а именно: похвалы мегалопольцам и лестное упоминание о достойном настроении их» (II, 61, 6). Иными словами, отсутствует авторское суждение, авторская оценка.
Это, по-моему, поразительные слова. Значит, подробное и добросовестное изложение фактов еще не есть история. Черта, отделяющая историю от летописи, еще не перейдена. Когда же черта эта преодолена? Ответ поистине ошеломляющ. Когда появляется автор-наблюдатель. Рассказ строится не по принципу «факты-читатель», а «факты-автор-читатель». Иными словами, между фактами и читателем должен стоять автор, который эти факты показывает и комментирует. Мы видим все факты через его глаза. Безликие факты без наблюдателя не образуют истории. Это напоминает мне художников Возрождения. Они очень часто изображали себя на своих картинах. Обычно они стоят сбоку, но на первом плане, как Боттичелли в сцене поклонения волхвов. Он обернулся лицом к нам, как бы показывая открывающееся действо. Он зритель, участник и наблюдатель. Но без него картина не картина. Таким зрителем, участником и наблюдателем должен стать историк согласно Полибию.
Однако не противоречит ли это провозглашенному самим Полибием принципу полной объективности? Не говорил ли он, что историк должен забыть все человеческие чувства – дружбу, любовь, ненависть – и видеть перед собой одну истину. Разве объективность не требует полной бесстрастности и отрешенности? А тут, оказывается, историк должен всегда сообщать свое отношение к происходящему. Разве это не явное противоречие? Нет. Историк должен отрешиться от своих симпатий, но не от нравственных критериев. Он должен глядеть не на людей, а на дела их. Подчас ему придется сурово осудить лучшего друга и вознести похвалой смертельного врага. Но ни в коем случае не должен он, как пушкинский летописец, добру и злу внимать равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Нет, зло должно вызывать гнев, ненависть, омерзение, добро – любовь и восхищение.
Видимо, это тоже какой-то совершенно новый взгляд. Полибий говорит, что его предшественники помещали некоторые краткие замечания подобного рода в предисловии. Но он решил сопровождать своей оценкой и суждениями каждое событие (X, 26, 9–10).
Вот почему изложение Полибия при всей своей точности, скрупулезности, научности гораздо дальше от того, которое принято в наше время, чем истории его предшественников Фукидида и даже Ксенофонта, который далеко не так тщательно проверял и взвешивал факты и великим историком никогда не считался. Они пишут как бы нарочито сухо, без всяких эмоций, сознательно устраняя себя из повествования. Полибий же, как мы видели, сознательно вводил себя в историю. Такой безличный стиль мы и считаем теперь научным. Опять-таки мысль моя будет яснее на примере.
Речь пойдет об одном событии начала Пелопоннесской войны, описанном Фукидидом. Против Афин восстала Митилена, крупный город на о. Лесбос. Восстание было подавлено и стали думать, как поступить с мятежниками. Клеон, вождь демократии, бессмертие которому подарил его великий враг Аристофан, убедил афинян показать высшую меру суровости. Всех мужчин казнить, женщин и детей продать в рабство. Афиняне были вполне убеждены его доводами и уже послали триеру с этим мрачным приказом. Но тут слово взял другой оратор – Диодот.
«Дело идет… не о преступлении митиленян, но о разумности нашего решения, – так начал он. – Если даже я докажу, что митиленяне совершили весьма противозаконные действия, то отсюда я еще не стану требовать казни для них, коль скоро она не полезна для нас».
И оратор приводит следующие соображения. Во-первых, смертная казнь не сможет удержать союзников от мятежей. Во-вторых, поголовное уничтожение врагов отнимает у мятежников надежду на помилование. А это значит, что защищаться они будут отчаянно. А «разве для нас не убыточно тратиться на продолжительную осаду только потому, что о примирении нет речи, получить, в случае взятия города, город разрушенный и лишиться доходов от него на будущее время… Нам следует быть не столько строгими судьями виновных во вред себе, сколько обращать внимание на то, каким образом, применив умеренное наказание, мы можем на будущее время утилизовать государства, которые обладают значительными денежными средствами… Теперь подумайте, какую ошибку вы сделали бы, последовавши совету Клеона». Наконец, наказанием всех без разбору – и виновных, и невинных – афиняне оттолкнут от себя своего исконного союзника, демократическую партию каждого города. И что еще хуже – толкнут демократов в объятия олигархии.
«Поймите же, что мой совет лучше (Клеонова. – Т. Б.), и не давайте предпочтения ни состраданию, ни снисходительности; ведь я не рекомендую вам руководствоваться этими чувствами» (III, 37–49).
Провели новое голосование. Небольшим перевесом голосов прошло предложение Диодота.
Эта речь должна глубоко изумить тех, кто привык к римским речам. Любой римский оратор говорил бы о гуманности, которая всегда была и должна оставаться основой римского общества. Он рисовал бы страшные картины убийств. А в заключение воззвал бы к состраданию. Но, видимо, аттические ораторы использовали иные приемы убеждения. Ни слова не сказано было о нравственной стороне вопроса. Но для нас сейчас важно другое. Сам Фукидид тоже молчит об этом. Мы совершенно не знаем, как относится он к происходящему. Согласен ли он с Диодотом, а если согласен, нет ли у него соображений более высокого порядка, чем выгода, деньги и желание «утилизовать богатые государства».
Такое было бы совершенно невозможно в рассказе Полибия. Уж мы бы точно знали, как относится он и к восставшим, и к Клеону, и к речи Диодота. И вот для сравнения другой эпизод, рассказанный уже Полибием. Как помнит читатель, во время Союзнической войны этоляне разорили македонские святыни, а Филипп в отместку разорил этолийские. Филипп и его друзья, говорит Полибий, были совершенно уверены, что поступили прекрасно, ибо они «воздали равной мерой этолянам… Я держусь противоположного мнения». Тут он напоминает о великодушии прежних царей Македонии, Александра и отца его, которые прощали поверженных врагов. Всю свою жизнь Филипп «с особым старанием выставлял на вид родство свое с Александром… но вовсе не подумал о том, чтобы соревноваться с ним в добродетели… Врачуя одно зло другим, Филипп соревновался с этолянами в кощунстве и был уверен, что не совершает никакого нечестия… Для людей доблестных задача войны состоит не в гибели и уничтожении провинившихся… ни в том, чтобы истреблять вместе с виноватыми ни в чем не повинных, но скорее в том, чтобы спасать и сохранять от гибели вместе с невиновными и тех, которые почитаются виновниками неправды. Дело тирана – творить зло, властвовать с помощью страха… быть предметом ненависти для своих подданных и самому ненавидеть их. Напротив, царю свойственно творить всем добро, стяжать себе любовь добрыми делами и милосердием».
Чтобы понять заблуждение, в котором находился Филипп, достаточно представить себе, что почувствовали бы этоляне, если бы царь поступил с ними не как они сами, а великодушно и благородно. «Я полагаю, они испытали бы прекрасное чувство благожелательности. Памятуя свой собственный образ действий… они ясно видели бы, что Филипп имеет право поступить с ними по своему усмотрению, не опасаясь прослыть несправедливым даже в случае самой жестокой расправы с ними; однако по своей мягкости и великодушию предпочитает не подражать им». Этоляне чувствовали бы, что нравственная победа на стороне простившего их Филиппа. А ведь «прекраснее победить врага благородством и справедливостью, чем оружием» (V, 9, 6–12, 4).
Мы видим совсем иные доводы, чем у Диодота, и совсем иные методы, чем у Фукидида.
Полибий убежден, что рассказ историка обладает великой нравственной силой. Он может вдохнуть мужество не только в отдельного человека, но и в целый народ. Например, он описывает вторжение галлов в Италию и страшные битвы их с римлянами. В заключении же объясняет, что так подробно останавливается на этом событии, чтобы дать эллинам урок и научить их не дрожать перед варварами, а следовать примеру римлян. «Я убежден, что писатели, сохранившие память о нашествии персов на Элладу… оказали в борьбе за общую свободу эллинов великие услуги». Стоит только представить себе со всей живостью изумительные события тех дней, вспомнить, сколько десятков тысяч варваров шли против эллинов и как они были разбиты немногими, но «действовавшими со смыслом и искусно». Разве после этого эллины могут «в борьбе за родную землю остановиться перед напряжением последних сил?» (II, 55).
Беседы с Полибием
Таким образом, удивительная особенность истории Полибия в том, что мы все время видим ее автора. Постепенно мы чувствуем, что он один из главных героев своей книги. И дело тут совсем не в том, что он сам появляется на страницах своего сочинения. Ведь и Фукидид один из героев своей истории, притом героев важных. Он был афинским стратегом и командовал войском. Однако дочитав последнюю страницу его «Истории» и закрыв книгу, мы должны признаться, что знаем об ее авторе не больше, чем, когда в первый раз ее открыли. Что это был за человек? Чем жил? Чему поклонялся? Для нас это окутано тьмой. С другой стороны, если бы Полибий и вовсе не появлялся в своей книге, мы все-таки хорошо бы его представляли и считали одним из главных героев.
Только пусть читатель не подумает, что Полибий похож на тех словоохотливых и тщеславных людей, которые все разговоры сводят к себе и к месту и не к месту рассказывают случаи из своей жизни. Как раз этого-то у Полибия совсем нет. О себе он ничего не рассказывает. Мы не знаем ни о его детстве, ни о ранней юности, не знаем, где он учился, кто были его наставники и приятели, уж не говорю об увлечениях и романах. Для иллюстрации своей мысли он действительно любил приводить случаи из жизни, примеры смелого и трусливого, разумного и глупого поведения. Но ни разу это не были примеры из его собственной жизни. И уж менее всего он склонен выставлять себя читателю как образец для подражания. Лишь однажды он обращается к воспоминаниям. Я имею в виду его рассказ о юности Сципиона. Но нужен он для характеристики самого Сципиона, а отнюдь не автора. Полибий ни разу не поддался естественному искушению и не намекнул, что это его благотворному влиянию юноша обязан своими успехами, что это он надоумил своего воспитанника раздать наследство. Нет. Сципион, утверждает Полибий, действовал под влиянием собственного великодушного сердца.
Итак, Полибий не пытается навязать читателю рассказ о себе самом вместо рассказа об исторических деятелях. Но он показывает нам события и обсуждает их с нами. В результате мы узнаем его взгляды на добро и зло, на богов и будущую жизнь, на государственное устройство и философию.
Это придает необыкновенное своеобразие его стилю. Вот, например, он повествует о кровавых событиях Союзнической войны. В городе Кинефа только что прощенные изгнанники после торжественных клятв и трогательного примирения открыли ночью ворота этолянам, а те перерезали своих союзников, а город спалили. И Полибий делает такой комментарий. Кинефяне, говорит он, понесли кару за свою жестокость. И эта жестокость кажется тем удивительнее, что родом они аркадцы, а все аркадцы славятся по всей Греции своим добродушием. Почему же кинефяне так непохожи на сородичей? Потому что они не занимаются музыкой. А «занятие музыкой полезно всем людям, а аркадцам оно совершенно необходимо». Дело в том, что климат в Аркадии горный, суровый, и нравы жителей должны были бы быть суровы. Вот почему мудрые законодатели приучили аркадцев к музыке, которая смягчила их души, а кинефяне забросили эти спасительные уроки, что и привело к роковым последствиям. Но самое замечательное в конце. Все это я говорю, заключает Полибий, для того, чтобы аркадцы никогда не пренебрегали музыкой, а сами кинефяне, «если когда-либо божество будет милостиво к ним, постарались облагородить себя… музыкой, ибо этим только способом они могут избавиться от одичания» (IV, 19, 13–21, 1–2).
В другом месте он укоряет военачальника за непродуманные действия и замечает, что полководцу нужно знать математику. И тут же, увлекшись, начинает объяснять, как определить высоту стены, построив два подобных треугольника. Или о площади и периметре городов. Или какую геометрическую фигуру нужно использовать для построения войска, чтобы оно казалось меньше? Или больше? Кроме того, полководцу еще нужно разбираться в астрономии, чтобы представлять длину дня и ночи в разное время года и уметь определять время по звездам. И тут же сообщает начальные сведения о зодиаке. Или рассуждает, какими должны быть лестницы для взятия городов штурмом и как следует их правильно ставить (IX, 14–20).
И вот на протяжении почти 40 книг мы можем наслаждаться беседой с этим ярким интересным человеком. О Полибии можно сказать то, что сам он говорит об Александре: «Ум этого человека превосходил нормальный человеческий, об этом спора нет». Но в Полибии поражает не только ум. Поражает эта оригинальность мысли, неожиданный взгляд на самые привычные вещи, остроумие, замечательная убедительность и разительность доводов. Все продумано и изложено так ясно, с такой подкупающей простотой, что читатель не только верит ему безусловно, нет, ему даже в голову не приходит, что может быть как-то иначе. Постепенно мы все более и более подпадаем под его влияние. Моммзен с негодованием говорит о пошлости религиозных взглядов Полибия и тут же в точности повторяет все его положения о Сципионе Старшем, построенные как раз на этих «пошлых» религиозных взглядах. Мы начинаем понимать, какой могучей властью над умами обладал этот человек. Понятна восторженная влюбленность сыновей Эмилия Павла!
Беседы с Полибием имеют прелесть необычайную. Они придают удивительное своеобразие и непосредственность его стилю и позволяют нам хотя отчасти проникнуть во внутренний мир этого замечательного человека.
Изобретатель
Из бесед этих мы узнаем, между прочим, любопытную вещь. Оказывается, Полибий с напряженным вниманием следил за всеми научными открытиями своего времени и был в курсе всех достижений естествознания. Так, он подробнейшим образом перечисляет все направления современной ему медицины и дает очень дельную характеристику этих направлений (XII, 25d). Но особенно интересовала его, по-видимому, математика, математическая география и астрономия. Кроме того, он до страсти увлекался различными инженерными изобретениями. Например, любой гуманитарий, повествуя об осаде Сиракуз, ограничился бы уверением, что город столько месяцев держался благодаря замечательным машинам Архимеда, которые топили вражеские корабли и метали в войска снаряды. Но Полибию этого мало. Он описал эти машины так ясно, подробно и точно, что по его рассказу их сейчас реконструировали. Все последующие античные историки переписывали Полибия, несколько украшая его. Они рисовали захватывающие душу, но совершенно фантастические картины: тут и крючья, спускающиеся с неба, и страшные клювы, неприятельские же корабли летают прямо по воздуху. Для того чтобы описать изобретения Архимеда так, как Полибий, нужен интерес. И не просто интерес. Нужно понимание. Мало этого. Здесь нельзя было положиться на воспоминания очевидцев. Тут уж действительно будут крючья, спускающиеся с неба, и корабли летающие по воздуху. Я вижу только одно объяснение. Очевидно, Полибий говорил с учениками Архимеда, а может быть, смотрел его чертежи. В другом месте он со всеми подробностями описывает огнеметатель, примененный родосскими флотоводцами (XXI, 7).
Но Полибий не только интересовался чужими изобретениями. Он и сам был изобретатель, и ум его работал непрерывно. Нам в подробностях известно одно его изобретение – телеграф.
Уже давно в военном деле применялась простейшая система огненных знаков. Она описана еще Эсхилом. Когда Агамемнон ушел под Трою, его жена Клитемнестра, оставшаяся в Микенах, хотела тотчас же знать о падении Трои. И вот на всем пути от Микен до побережья Геллеспонта она расставила стражу. Последний стражник был уже на холме против Трои. Когда ночью город Приама загорелся, страж тоже зажег огонь; его заметил второй страж и в свою очередь зажег огонь; и так огненная волна докатилась до Микен. И впоследствии прибегали к такого рода сигналам. Но употреблять можно было только некоторые заранее оговоренные знаки. Если, скажем, осажденные ждали помощи с моря, то можно было условиться, что такой-то знак факелом означает, что корабли идут, а другой – что они задерживаются. Но система эта, говорит Полибий, очень несовершенна. Ведь чаще всего надо подать весть как раз о неожиданных и непредвиденных событиях – измене, внезапно вспыхнувшем восстании и т. д. Ты ждешь немедленной помощи и совета. Но как сообщить об этом союзникам?
Над этой задачей ломали себе голову многие инженеры. И Полибий со свойственной ему ясностью дает краткий очерк всех их открытий и поисков. А потом переходит к собственному своему изобретению.
Здесь я представляю слово специалисту по античной технике, немецкому ученому Дильсу.
«Знаменитый историк и стратег Полибий дал нам точное описание одного сигнального телеграфа, изобретенного александрийскими инженерами Клеоксеном и Демоклетом и усовершенствованного самим Полибием. Станции отправления и назначения приспособлены только для действия ночью. На каждой станции устанавливаются две стены с зубцами (деревянные, сбитые из досок. – Т. Б.), имеющие по 5 промежутков между зубцами на расстоянии 2 футов один от другого. При помощи факелов, выставляемых в эти промежутки, можно подавать сигналы станции, расположенной напротив. Далее, каждая станция имеет код, содержащий 24 буквы греческого алфавита в следующем порядке:
I – α, β, γ, δ, ε
II – ζ, η, θ, ι, κ
III– λ, μ, ν, ξ, ο
IV – π, ρ, σ, τ, υ
V – φ, χ, ψ, ω
(т. е. в каждой таблице по пять букв, кроме последней, где их четыре. – Т. Б.).
Телеграфируют же следующим образом: пусть, например, надо передать такое сообщение: „Критян дезертировало 100“. Прежде всего передается буква к. Она находится во второй таблице. Следовательно, в промежутке между зубцами левой стены, назначенной для указания номера таблицы, выставляется два факела. Станция назначения отмечает это у себя. Затем на стене справа выставляется пять факелов, так как к является 5-й по порядку буквой во второй таблице. (Стена справа предназначена для указания последовательности отдельных букв в каждой из пяти групп, сигнализируемых со стены слева.) Станция назначения отмечает буквы р, и, т и следующие»{73}.
Другой исследователь античной техники, немецкий ученый Рипль, пишет: «То, что описывает здесь Полибий, не что иное, как, в сущности, наша нынешняя телеграфия. Клеоксен и Демоклет – первые изобретатели телеграфа, Полибию же принадлежит честь его первого усовершенствования. Правда, мы не знаем, в чем именно это усовершенствование состояло. Все предшественники Полибия бились по большей части напрасно над передачей знаками в лучшем случае около полудюжины заранее предусмотренных и заранее условленных сообщений. Полибий же мог своим способом передать на всякое расстояние при помощи знаков любое даже не предусмотренное заранее событие, факт, указание или вообще совокупность мыслей, могущих быть выраженными словесно и письменно»{74}.
Можно сказать, что система эта слишком сложна. Полибий предвидит такие возражения, но, рассуждает он, сначала и обычная жизнь довольно сложна. Например, человеку неграмотному покажется настоящим чудом, если он увидит, как ребенок без запинки читает длинные тексты, сразу мгновенно охватив всю фразу, в то время как для неграмотного слушателя тайна, как можно запомнить сами буквы. Значит, тут дело навыка и привычки.
«Вычислено, что вышеупомянутое сообщение: „Критян дезертировало 100“ потребует для передачи до 200 сигналов факелами и что это может быть проделано в течение около получаса. При удовлетворительном обслуживании время, наверно, могло быть еще значительно сокращено»{75}. Но если даже взять максимальную величину, то это, конечно, немного. Хуже то, что факелы нельзя видеть издалека. Это считалось главным недостатком полибиева телеграфа. Но, во-первых, в крайнем случае можно было употребить промежуточные станции. А во-вторых, у Полибия находим совсем уже поражающее сообщение. Он говорит, что к его изобретению необходимо приложить еще некий инструмент, а именно зрительный прибор, судя по его описанию, имевший форму бинокля. В одну трубку должна была быть видна только левая, в другую – только правая сторона. Вполне возможно, что в трубки были вставлены линзы, вроде знаменитого изумрудного монокля императора Нерона (X, 43–46).
И это лишь одно изобретение Полибия. А мы вскоре увидим, что их было немало.
Око правды
Но вернемся к нравственным проблемам, которые так занимали нашего автора. Я думаю, читатель уже понял, каковы были моральные принципы Полибия. Труднее понять другое: что, по его мнению, должно заставлять человека этим принципам следовать. Ведь путь добра тяжел и тернист.
Я напомню то место, где Полибий говорит о зарождении у людей, тогда еще образующих первобытное стадо, нравственных понятий. «Если человек помогает каждому в беде, выдерживает опасности за других и отражает нападения сильнейших зверей, такой, наверно, удостоится у народа знаков благоволения и участия, равно как поступающий противно этому – презрения и хулы. Весьма вероятно, что отсюда, в свою очередь, образуется у большинства людей некоторое понятие того, что подло и что прекрасно, чем отличается одно от другого и тогда как одно ради приносимой им выгоды возбуждает к соревнованию и подражанию, другое становится предметом отвращения» (VI, 5, 4–6, 10).
В другом месте Полибий рассуждает о судьбе предателей. «Всем ведомо, что никто из них никогда не стяжал себе ни корысти настоящей, ни почести, что они своими действиями уготовали себе печальную долю. Поэтому не без удивления можно спросить, какую цель имеют эти люди или какими соображениями они руководствуются, когда повергают себя в такое несчастье». Ведь даже те, кто воспользовался услугами предателя, спешат поскорее отделаться от своего недостойного орудия. А если они и избегнут этой участи, им не уйти от мщения тех, кого они предали. Но не это даже самое страшное. «Везде, где только есть люди, ходит за предателями мстительница-молва, которая денно и нощно создает перед ними всевозможные ужасы, то воображаемые, то действительные, которая… не дает предателю забыться от своего преступления даже во сне и привносит в сновидения всякого рода козни и несчастия, ибо предатель сознает свою отчужденность от всех и общую к себе ненависть» (XVIII, 15, 5–4).
Из этих слов можно как будто сделать вывод, что, по мнению Полибия, честность и добродетель приносит человеку ощутимую пользу, и именно ради этой пользы следует держаться нравственных принципов. Но вывод этот, конечно, совершенно неверен. Не мог же Полибий серьезно думать, что людей заставляет быть добродетельными выгода. Не был же он столь слеп, чтобы не видеть, что творится кругом. Яд, вероломство, предательство – вот обычные орудия, с помощью которых в его время делали себе карьеру. Он собственными глазами видел, как процветали его приятель Калликрат и эпирский Хароп. Ну, спускали люди воду, в которой плавал Калликрат, ну, выгнали Харопа Эмилий Павел и Лепид, чуть ли не в глаза назвали подлецом, чуть ли не в лицо плюнули. Ну и что? Как говорит Гоголь, «да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу!.. Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь тут же в кармане, взял да и вытер». Зато они богаты, сильны, благоденствуют у себя на родине, а Полибий со своими прекрасными нравственными принципами жалкий изгнанник, и, может быть, никогда не увидит родины. И потом, разве не бывает злодея, о преступлениях которого никто не догадывается? Который действует скрытно, словно на нем волшебное кольцо-невидимка Гигеса? И вот он поднимается по трупам друзей и благодетелей все выше, иногда даже на трон?
И Полибий это прекрасно понимал. Он даже признает, что польза и благородство нечасто идут рука об руку. «Благородство и выгода редко совпадают, и лишь немногие люди способны совместить их и примирить между собой. Большей частью благородство, как нам известно, исключает минутную выгоду, а выгода исключает благородство» (XXI, 41, 1–3). И он повторяет вслед за греческим поэтом Симонидом: «Трудно быть благородным». Ибо «иметь добрые побуждения и отдаваться им до известной степени легко; напротив, очень трудно не изменить себе и при всяких обстоятельствах сохранять твердость духа, ставить превыше всего честь и правду» (XXIX, 26, 1–2).
Далее. Разве Полибий не требует, чтобы человек предпочел смерть бесчестью? А спрашивается, какая ему от этого выгода, раз он умрет и чувствовать-то ничего не будет?
Существует древний очень красивый миф. Величайший герой Геракл в ранней юности колебался, какую дорогу в жизни ему выбрать. И вот на распутье повстречал он двух женщин, и каждая звала его за собой. Одна была весела, красива, а одежды ее сверкали золотом. «Мое имя Наслаждение, – сказала она, – иди за мной и будешь жить богато, привольно, в неге и роскоши». Вторая была строга и сурова, одета бедно и просто. «Мое имя Доблесть, – сказала она, – иди за мной по дороге, где ждет тебя бедность, лишения и тяжкий труд ради других». И Геракл пошел за ней и всю жизнь в поте лица трудился, очищая землю от зла, не зная ни отдыха, ни награды. Как всегда в мифе, здесь дан некий архетип. Рано или поздно, в той или иной форме такой выбор встает перед любым из нас. В бурное же и страшное время Полибия он вставал перед человеком на каждом шагу. Позор или смерть; власть, богатство или предательство? Где же отыскать опору для правильного выбора?
Европейская цивилизация ответила, что опору эту следует искать в загробном мире. Достоевский сформулировал это так: «Если Бога нет, все позволено». Еще резче выразился христианский богослов Лактанций: «Без надежды на бессмертие, которое Бог обещает своим верным, было бы величайшим неразумием гоняться за добродетелями, которые приносят человеку бесполезные страдания и труд» (Inst. div. IV, 9).
Но мы уже видели, что Полибий с презрением отвергает эту опору. Такая узда, загробный кнут и пряник, годится только для черни, говорит он. Но для человека мудрого это не подходит. Но что же тогда? Что будет ему наградой за все муки и страдания настоящего? Ответ Полибия прост и величествен. Наградой будет сам прекрасный поступок. Этот взгляд разделяли с Полибием многие античные мыслители. Даже те из них, кто верил в бессмертие души, как Цицерон, все-таки считали, что добродетельным надо быть ради самой добродетели{76}. Римляне, друзья и ученики Полибия, видимо, придерживались той же веры. У Цицерона Лелий начинает сетовать, что герой, спаситель республики, не получил никакой награды от отечества. И слышит суровый и спокойный ответ Сципиона:








