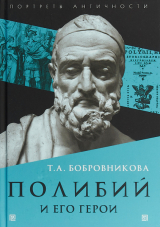
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
Есть несколько гипотез и толкований того, что понимает под прагматической историей Полибий{97}. Я не буду сейчас углубляться в полемику. Один пункт ясен – это история современности. Большинство ученых считает, что Полибий имеет в виду историю чисто политическую и военную и в приведенном месте явно заявляет себя наследником Фукидида{98}, который тоже говорит, что собирается без басен и прикрас излагать реальные события (I, 22, 4).
Однако когда читаешь книгу Полибия, с изумлением видишь, что рассказ его ничуть не похож на фукидидовский. Фукидид действительно написал чисто политическую историю. Военные кампании, речи и выступления политиков – и более ничего. Но у Полибия нечто совсем иное. Когда мы читаем, что царь Прусия ничего не знал, не прочел ни одной книги, что он вползал в сенат на четвереньках и называл римлян богами, что он падал ниц перед алтарями богов, рыдал и молил их о помощи, а потом грабил эти же алтари этих же богов (XXXVII, 7, 5–7; XXX, 19; XXXII, 27, 7–9); когда мы читаем, как Дикеарх по приказу Филиппа воздвигал алтари Нечестию и Беззаконию, а потом попал в руки Аристомена, который возвысился, между прочим, тем, что назвал дочь именем публичной женщины, пользовавшейся большим влиянием при дворе, и этот Аристомен в припадке благочестия велел замучить Дикеарха; когда мы читаем, как Деметрий Фалерский сделал гусеницу, которая плевалась, и гусеница эта возглавляла праздничные шествия (XII, 13, 11), a y Набиса была пыточная машина, имевшая вид его жены; когда мы читаем, что за несколько талантов в Спарте можно было купить родословную от Геракла, а в Этолии продавалось все решительно; когда мы читаем, как Дейнократ плясал на пиру в женской одежде, а царь Антиох совсем без одежды (XXXI, 4); когда мы читаем, как афинские философы рассуждали о том, могут ли они чувствовать сейчас запах яичницы, жарящейся в Пелопоннесе, – когда мы читаем эти и сотни подобных мест, то, как в зеркале, видим всю жизнь того времени. Только у Полибия мы узнаем, как знаменитый спортсмен говорил со своими болельщиками и как наряжались римские дамы для праздничного шествия.
То рассказывая вставные новеллы, то вдруг останавливаясь на какой-нибудь, казалось бы, ничего не значащей подробности, то нанизывая на нить своего повествования блестящие бусины воспоминаний, он постепенно лепит портрет всей своей эпохи, как лепит он портреты отдельных людей. Он показывает все стороны мира, в котором жил. Его книга словно дверь в прошлое. Раскрыв ее, ты будто бредешь вслед за автором, как за гидом, по улицам древних городов, а Полибий то и дело останавливается и показывает тебе то театр, полный пестрой толпой, то спортивный стадион, звенящий от криков болельщиков. Он знакомит тебя с прохожими – то это наглый щеголевато одетый этолийский наемник, то долгобородый философ, то царь в диадеме и порфире, то заехавший на Восток гордый и властный римский уполномоченный.
Глава III. КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ БОРЬБЫ
Бой идет за все.
Эсхил. Персы
Когда Полибий много лет назад только-только приехал в Рим и начинал свою книгу, мог ли он думать, что два основных узла его истории будут развязаны при его жизни? Причем развязаны с драматической стремительностью, развязаны одновременно? И случится это не только на его глазах, а он станет одним из главных героев этих роковых событий? Произошли волнения неожиданные, которые он сравнивает со страшными явлениями разгневанных стихий; они стремительно налетели, изменили все планы Рима и картину мира.
И первый узел был Карфаген…
Карфаген
На тропе, по которой движется человечество, встречаются обрывы, резкие повороты и развилки. Эти-то поворотные точки и определяют дальнейшую историю на много веков вперед. Таким поворотным моментом были греко-персидские войны – великое столкновение Востока и Запада, когда гигантская Персидская деспотия едва не задавила юную Элладу, где рождался совершенно новый, невиданный строй, совершенно новая блистательная культура и совершенно новый взгляд на человека. Такой поворотной точкой был тот момент, когда Константин решил принять новую веру – христианство. Такой поворотной точкой было время Пунических войн, т. е. страшной, не на жизнь, а на смерть борьбы между Римом и Карфагеном, продолжавшейся более ста лет. Борьба эта, по выражению современников, должна была решить: Рим или Карфаген будет диктовать законы вселенной. Между тем взгляды римлян и карфагенян на законы, государство, человеческую жизнь, божество, на добро и зло были не просто разными, а зачастую прямо противоположными. Вот почему победа той или другой стороны должна была определить судьбы европейского человечества на много столетий вперед.
Великий Карфаген, город на северо-западном берегу Африки, был основан в конце IX в. финикийцами, западносемитским народом. К III в. Карфаген был мощной и грозной державой. Он владел всей Ливией – по словам Страбона, пунийцы подчинили себе 300 городов (XVII, 7, 15), – Сардинией, почти всей Сицилией, а Гамилькар Барка, герой Пунической войны, завоевал золотую Испанию. Карфаген был исполинским по тем временам городом. Он насчитывал 700 тысяч жителей (Ibid.). Для сравнения скажу, что в Риме накануне войны с Ганнибалом жили около 270 тысяч человек. Богатства Карфагена были поистине сказочными, знатные люди жили среди невиданной роскоши, словно восточные цари. Главными источниками этого богатства была, во-первых, торговля, в основном транзитная. На своих быстрых кораблях карфагеняне развозили в далекие земли греческие, египетские и этрусские товары. Во-вторых, они занимались пиратством и работорговлей, за что имели недобрую славу в древности. Третьим источником дохода была огромная дань, которой Карфаген обложил подвластные народы. По свидетельству Полибия, ливийцы отдавали им половину своего урожая.
Пунийцы, по словам Аристотеля, принадлежали к тем немногим варварам, у которых не было царской власти. Карфаген был республикой, но республикой купеческой, наподобие Венеции. Там была плутократия, т. е. власть богатства. Всем правил совет, состоявший из богатейших людей. Во времена Полибия места в совете продавались. «У карфагенян для получения должности открыто дают взятки, у римлян это самое наказуется смертью» (VI, 56, 2–3). Кроме того, было народное собрание. В чем заключались его полномочия, из дошедших до нас источников не совсем ясно. Но известно, что к III в. оно приобрело большую власть. Собрания проходили бурно, часто они кончались тем, что неугодного политика разрывали на куски. Совет также раздираем был взаимными распрями – знатные семьи ненавидели друг друга, и ненависть эта передавалась по наследству. Внутренняя жизнь Карфагена полна была раздоров, говорит историк Юстин (XVIII, 6, 10).
Очень интересной и необычной была армия в Карфагене. Граждане не сражались в войске, как в Греции и Риме. Солдаты покупались. В Карфагене сражались одни только наемники. Жизнь на Востоке ценилась дешево; и вот в короткий срок, затратив буквально гроши, пунийцы снаряжали огромные армии из негров, ливийцев, балеров, галлов. Часто бывало, что противник их буквально истекал кровью. А карфагеняне не несли никаких потерь. Они считали, что в этом великая сила их государства. Но в этом же была и его великая слабость, говорит Полибий. Римляне все свои надежды всегда возлагают на самих себя, карфагеняне же на наемников. Но защищая свою родину, честь и семью, не охладеют к борьбе, наемники же будут сражаться, только пока это выгодно (VI, 52, 2–7). Военные кампании карфагенян порой напоминали торговые операции: они воевали, пока члены совета не находили, что средств на войну затрачено чересчур много. Тогда они временно прекращали военные действия.
Идолом Карфагена были деньги. Они открыто, не чинясь, поклонялись им. «Для карфагенян нет постыдной прибыли», – пишет Полибий (VI, 56, 2). Корыстолюбие он считал главной чертой характера пунийцев (например, IX, 11).
Внутренняя жизнь этого великого города окутана непроницаемой тьмой. Пунийцы не занимались науками и искусствами, греков же, которые описали жизнь всего Средиземноморья, они не любили и старались не допускать в свой город. Но нам, к счастью, известна одна, пожалуй, самая яркая часть их культуры – их религия. Она поразила соседние народы, и они оставили подробные ее описания. Боги финикийцев отличались большой свирепостью и ненасытностью, они требовали человеческих жертв. Ежегодно в жертву богу Мелькарту сжигали человека; в жертву приносили самых красивых из пленных (Plin. N. Н. XXXVI, 39; Diod. XX, 65, 1; Sext. Emp. Hypotyp. 3, 208, 221). Но самой страшной жертвы требовал Баал-Хаммон. Каждая семья (реально каждая знатная семья) должна была отдать богу первенца, младенца мужского пола. Вот несколько описаний этого обряда. «Карфагеняне принесли в жертву двести детей, публично выбранных из числа первой знати… У них есть медная статуя Кроноса (так греки звали Баала-Хаммона. – Т. Б.); она протягивает свои полые руки, наклоненные к земле таким образом, что помещенный на них ребенок скатывается и летит в чрево, полное огня» (Diod. XX, 14, 4–6). «Карфагеняне во время своих великих молений влагали ребенка в руки Кроносу… сооружался медный Кронос с протянутыми вперед руками, под которыми была жаровня, где затем и поджаривали младенца» (Suid. Sardanios gelos; ср. Schol. Plat. R.P. I, 337; Sil. It. IV, 768). Карфагеняне, говорит Плутарх, «приносили в жертву собственных детей. Бездетные покупали младенцев у бедняков, чтобы закласть их как ягнят или птенцов. Мать стояла тут же без единой слезы, без единого стона. Если бы она заплакала, если бы застонала, на нее легло бы бесчестье, а дитя все равно принесли бы в жертву. Перед идолом выли флейты и тимпаны, чтобы не слышно было воплей и криков» (De superst. 13). О том, что родители ни в коем случае не должны были плакать, известно и из других источников (Dracont. Сarm. V, 148–50). Видимо, слезы вообще оскорбляли ревнивого бога. Один автор так описывает жертвоприношение: «Родители приносят в жертву детей, успокаивая их ласками и поцелуями, чтобы они не плакали, и жертва не умерла бы в слезах» (Minucius Fel. Octav. XXX, 3).
Этот страшный бог, который пожирал детей, именуется в Библии Молохом. Яхве грозит страшной карой людям, которые отдают детей своих Молоху (Lev. XX, 4; ср.: IV Reg. 23, 10). Места сожжения детей назывались тофетами. В Библии читаем: «И устроили высоты Тофета… чтобы сожигать сыновей и дочерей своих» (Jer. VII, 31).
Сообщения древних оделись для нас теперь плотью. Сейчас раскопано огромное число тофетов. Остатки сожженных складывали в урны. В Карфагене тофет был в районе Саламбо близ Котона. Это обширное закрытое пространство с часовенкой, рядом в маленьком дворике алтарь. Раскопки обнаружили тысячи урн с детскими костями{99}. В некоторых урнах останки одного младенца, в других – кости нескольких детей, иногда же детские кости смешаны с костями жертвенных животных. Фрагменты височных костей и остатки зубов позволяют определить возраст жертв. Очень многие из них принадлежат грудным детям; встречаются зубы двух-трехлетних детей{100}. В тофете найдены многочисленные стелы с ритуальными надписями, говорящими о детских жертвах. На одной стеле изображен обнаженный ребенок, которого держит жрец с поднятой правой рукой{101}.
Этот кровожадный обычай почти исчез уже в Тире, карфагенской метрополии. В Карфагене же он с годами все разрастался. До VII в. в тофете находят в основном кости жертвенных животных. Но потом их почти полностью вытесняют обожженные детские кости{102}. Именно в Карфагене детские жертвоприношения расширились до размеров невиданных. Сжигались целые гекатомбы младенцев. А в случаях опасности число их доходило иногда до полутысячи (Diod. XX, 14[59]59
Найдена надпись из Константины, т. е. древней Цирты Нумидийской: родители принесли в жертву старшего больного мальчика после рождения второго. Если они были нумидийцами, это говорит о распространении пунийского обычая вширь (Leglay М. Saturne Africain. Histoire. P., 1966. P. 321–322).
[Закрыть]).
Жертвы эти ужасали всех соседей. Дарий Персидский требовал от карфагенян их прекращения (Just. XIX, 1, 10). Гелон Сиракузский, разбив пунийцев в битве, заявил, что заключит с ними мир «не иначе, как при условии, что они прекратят приносить детей в жертву Кроносу» (Plut. De ser. num. vindict. 6; Reg. et imp. apophegm. Gelo, 1). Римляне были глубоко убеждены, что этими жертвами карфагеняне вызвали ненависть богов и в них-то причина всех их бед (Justin. XVIII, 6, 11–7, 1). И когда пунийцы сделались их подданными, они строжайше запретили им человеческие жертвы. Однако раскопки показывают, что они мало преуспели. Археологи по-прежнему находят сосуды с сожженными детьми. Тертуллиан, сам уроженец Африки, пишет, что император Тиберий, застав однажды жрецов, приносящих детей в жертву, в гневе велел повесить их на деревьях, осенявших святилище. «Но и теперь тайно продолжают совершать это преступное жертвоприношение», – говорит он (Apol. IX, 2–3). равным образом в карфагенских и финикийских городах Испании римляне никак не могли искоренить человеческие жертвоприношения. Цезарь в 61 г. запретил жителям Гадеса «какие-то „варварские“ обряды. Зная об обычной веротерпимости римлян, можно полагать, что это были именно ритуальные убийства людей. При принесении человеческой жертвы осужденного сжигали живым»{103}. Подробности о том, что это были за «варварские» обряды, мы можем узнать из письма Азиния Поллиона. Несколько лет спустя он был в Испании, где тогда хозяйничал один финикиец, клеврет Цезаря. Финикиец этот был набожен и предан отеческим обычаям. Поллион рассказывает, как он принес в жертву человека. «Он закопал его и заживо сжег… Вот с каким чудовищем я имел дело» (Fam. X, 32, 3). Эту же форму жертвоприношения подробно описывает как очевидец Катон Старший. Карфагеняне, говорит он, «зарывали людей по пояс в землю, раскладывали вокруг огонь и так их умерщвляли» (ORF2, fr. 193).
Женское божество Астарта не требовала крови. Она желала другой жертвы. Во время празднеств богини потоки пунийских женщин текли в Сикку, где был ее храм, и там занимались священной проституцией{104}.
Тураев пишет: «Карфагенская религия отличалась вообще мрачным характером и не могла иметь нравственного влияния на народ, остававшийся жестоким, корыстолюбивым, недоверчивым и не внушающим доверия»{105}. Действительно, отзывы современников о карфагенянах крайне неблагоприятны. Греки называли их алчными и властолюбивыми, римляне – жестокими и вероломными. «Мрачные, злобные, – пишет Плутарх, – они покорны своим правителям, невыносимы для своих подданных, бесчестнейшие в страхе, дичайшие во гневе, они упорно отстаивают любые свои решения; грубые, они не восприимчивы к шуткам и тонкостям» (Praecept. ger. rei publ. 799 C-D).
С давних пор пунийцы мечтали о мировом господстве. «История [Карфагена], – пишет великий русский востоковед Б. А. Тураев, – есть история этой борьбы, распадающейся на два периода: греческий (до III в. до н. э.), из которого Карфаген вышел победителем, и римский, окончившийся его гибелью»{106}. Ареной греческого этапа борьбы стала Сицилия, плодородный и богатый остров, где издавна столкнулись финикийские и греческие колонисты. В то самое время, как персы напали на материковую Грецию, с другой стороны, с запада, на греческий мир обрушились карфагеняне. Предание говорит, что и там, и здесь решительное сражение разыгралось одновременно, даже в один и тот же день, и окончилось одинаково: и при Саламине, и при Гимере Сицилийской варвары потерпели страшное поражение. Геродот считал, что финикийцы разбиты окончательно. Но он ошибся. Через 70 лет борьбу возобновил Ганнибал, внук Гамилькара, погибшего при Гимере. В 409 г. он высадился в Сицилии и осадил Селинунт. После непродолжительного сопротивления город пал. Карфагеняне ворвались и перерезали поголовно всех жителей, около 16000 человек, не щадя ни возраста, ни пола. Со страшной быстротой они двинулись дальше. Пунийцы были уже у Гимеры, когда на выручку подоспел маленький отряд из Сиракуз. Было ясно, что горстка смельчаков не сможет противостоять огромным полчищам варваров. Они попытались лишь перевести население в безопасное место. Но и это не удалось: часть жителей не успела эвакуироваться. Они были убиты или захвачены в плен. Пленников, числом 3000, Ганнибал принес в жертву духу своего деда Гамилькара. Город был сравнен с землей, место, где он стоял, превращено в пустыню.
Так началась эта борьба, продолжившаяся 160 лет. Сицилийские тираны Дионисий и Агафокл всю жизнь отдали борьбе с Карфагеном. Плутарх даже считает, что этой героической борьбой они отчасти искупили свои грехи. Само божество, говорит он, продлило жизнь тирану Дионисию. «Если бы Дионисий понес кару в начале своей тирании, то Сицилия была бы опустошена карфагенянами и в ней не осталось бы ни одного грека» (De ser. num. vindict. 7). Но все их усилия были напрасны. Пунийцы захватывали у них кусок за куском. К 70-м гг. III в. Карфаген безраздельно господствовал на Западе. Иноземные корабли, вступившие без его ведома в сицилийские воды, карфагеняне топили, опасаясь торговой конкуренции. По словам Полибия, весь остров уже был в их власти, оставались одни Сиракузы. И в 264 г. карфагеняне решили, наконец, овладеть столицей. Но тут в дело вмешался новый народ, римляне (I, 10, 7–8).
Когда союзники римлян в Сицилии попросили их помощи против пунийцев, сенаторы долго колебались. Они, разумеется, очень хорошо сознавали, как могуч и страшен Карфаген. Но они, по свидетельству Полибия, ясно поняли и другое: Карфаген стал владыкой всего Запада, он постепенно окружает Италию кольцом и еще немного, и Рим ждет судьба Сицилии (I, 10, 6–9). Однако Рим в то время еще не был великой империей. Он был первой среди италийских общин. Казалось, что ему не под силу тягаться с грозным Карфагеном. И сенат не решился начать войну с пунийцами. Но народ оказался смелее: он заявил, что хочет воевать. Жребий был брошен. Двадцать четыре года без отдыха и без перерыва боролись римляне и карфагеняне на суше и на море. Наконец пунийцы были разбиты. Их вождь Гамилькар Барка попросил мира. Но прошло всего 23 года и Ганнибал, сын Гамилькара, вторгся с армией в Италию.
Римляне терпели поражение за поражением, Италия предана была огню и мечу. Несколько раз пунийцы подходили к самому Риму; жизнь его висела на волоске. Но римляне продолжали бороться. Они навязали Ганнибалу свой план войны. Сражаться приходилось за каждую деревню, за каждую пядь земли. Так проходил год за годом. И вот у римлян появился новый блистательный полководец, Сципион Старший. Он отвоевал у пунийцев Испанию, высадился в Африке, наконец, разбил в битве самого Ганнибала и поставил Карфаген на колени. Ганнибал капитулировал. Сципион продиктовал побежденному врагу неожиданно очень мягкий мир. Карфаген не должен был иметь оружия, армии и боевого флота, но в остальном оставался совершенно свободным и независимым государством, сохранял исконную территорию и не платил дани. Виновник войны Ганнибал продолжал спокойно жить в Карфагене.
Прошло 50 лет. И Карфаген, некогда униженный и побежденный, снова пышно расцвел. Никогда еще он не был так богат{107}.
Но незаметно над землей сошлись новые тучи, предвестники страшного урагана…
Третья Пуническая война
Мы смотрим на прошлое словно с птичьего полета. 25, 30, 50 лет для нас как один шаг. Поэтому нам кажется, что Третья Пуническая война неизбежно и логично следовала за Второй и римляне задумали ее чуть не в тот самый момент, как подписывали договор после разгрома Ганнибала. Между тем прошло полвека, сменились три поколения людей. За все эти 50 лет римлянам ни разу не приходила мысль о новой войне. Ни разу какой-нибудь беспокойный и честолюбивый консул, жаждущий лавров и триумфов, не призывал народ стереть с лица земли ненавистный город. Ни один политик не говорил об этом в сенате. Самое удивительное, Катон, впоследствии столь непримиримо требовавший разрушения Карфагена, все эти годы молчал. Мало того, после падения Македонии в 167 г. он даже говорил, что сохранение Карфагена полезно Риму (Арр. Lib. 65). Складывается впечатление, что война эта налетела на мир нежданно. Похоже, что не римляне руководили событиями, а события подхватили их. Вот почему Третья Пуническая война представляет настоящую загадку. Что произошло? Что заставило старого цензора так внезапно взять новый курс? И не только его, но и весь сенат?
Ближайшим соседом карфагенян была Ливия. Царство это было делом рук Сципиона. Он освободил подданных Карфагена и объединил под властью первого местного царя Масиниссы. При жизни Сципиона Масинисса, видимо связанный данной ему клятвой, сидел смирно и не обижал соседей-пунийцев. Но Сципион умер, и руки у Масиниссы были развязаны. Он стал совершать набеги на карфагенян и отнимать кусок за куском их землю. По условию договора карфагеняне не имели права владеть оружием. Им оставалось одно – апеллировать к римлянам. В ответ на их жалобы Масинисса с видом оскорбленной невинности клялся и божился, что пунийцы нагло лгут в глаза: эта земля его кровная вотчина и принадлежала еще его дедам. Римляне, как обычно, отправляли уполномоченных разбирать все на месте. Все наши авторы согласно утверждают, что уполномоченные эти судили не по справедливости и всегда держали сторону Масиниссы. Удивляться не приходится. Даже самые справедливые и мудрые люди – а я далеко не уверена, что все римские послы были такого рода людьми – так вот, даже самые справедливые и мудрые люди не могут быть вполне объективны, если спорят их смертельный враг и лучший друг. А ведь Масинисса единственный остался верен Сципиону до конца в самые страшные дни. Кроме того, Масинисса был поставлен Сципионом как страж, наблюдавший за Карфагеном. Ни в коем случае нельзя было отталкивать его от себя. Наверняка многие римляне в душе радовались, что набеги Масиниссы ослабляют опасного врага.
Масинисса прекрасно понимал свое положение и отлично им пользовался. Он был лукав, коварен, изворотлив. Он умел дать понять квиритам, что Карфаген может в любую минуту взяться за старое, и искусно раздувал страхи римлян. Почувствовав свою безнаказанность, Масинисса наглел не по дням, а по часам. Он продолжал свои разбойничьи нападения. Но при этом царь Ливии преследовал тайную цель. Масинисса был человек масштабный. Его прельщала вовсе не перспектива немного пограбить или несколько расширить свои владения. Нет, он мечтал присоединить к себе сам Карфаген и стать хозяином огромной империи, объединяющей всю Северную Африку. Но римляне не могли допустить создания финикийско-ливийской державы. Они знали, что Масинисса уже стар, его дети получили пунийское воспитание, в его столице уже начали приносить детей в жертву по пунийскому обычаю, и вскоре окажется, что не Карфаген завоеван ливийцами, а пунийцы вновь присоединили к себе потерянную и теперь объединенную Ливию. А тогда – римляне убеждены были в этом твердо – Риму конец. Надо было что-то срочно предпринимать.
В сенате шли обсуждения и споры. Но вдруг на римлян обрушилась такая новость, которая заставила разом забыть о Масиниссе. В 157 г. очередное посольство принесло известие: карфагеняне строят военный флот! (Liv. ер. XLVII). Сенат был вне себя от ярости. Посольство за посольством отплывало в Африку. Обстановка все более накалялась: из Карфагена доходили новые и новые тревожные слухи – карфагеняне собрали огромное количество оружия, карфагеняне собрали огромное войско – и все это вопреки договору (Liv. ер. XLVIII). В конце концов, смятение настолько усилилось, что в 153 г. в Африку выехал сам 86-летний Катон. Вернулся он потрясенным (Арр. Lib. 69). Он сказал, что увидел город, который достиг высшего могущества, переполнен всеми видами оружья и совершенно готов к войне. Выжидает только минуты, чтобы нанести верный удар.
– Теперь не время заниматься делами нумидийцев и Масиниссы и улаживать их, – продолжал он. – …Если римляне не захватят город, исстари враждебный им, а теперь озлобленный и невероятно усилившийся, они снова окажутся перед лицом такой же точно опасности, как и прежде (Plut. Cat. mai. 26).
Сохранился фрагмент его подлинной речи о карфагенянах.
– Карфагеняне уже наши враги, ведь тот, кто приготовил все против меня, чтобы начать войну в любое удобное для него время, уже мне враг, хотя бы еще и не поднял оружия (ORF2, fr. 195).
Но что же так поразило Катона? Быть может, в душе его поднялся гнев, а то и зависть, когда он увидал, что заклятый враг Рима процветает и благоденствует? Но Плутарх и особенно Аппиан ясно говорят нам, что то был не гнев, а страх (Арр. Lib. 69). Что же так напугало старого цензора? Богатство города? Но Рим знал об этих богатствах давно. Очевидно, было что-то новое. Катон ясно увидел, что у власти партия реванша и все готово к войне. Действительно, чудовищные приготовления Карфагена не могли быть случайностью. Карфагеняне впоследствии выдали больше 200 тысяч вооружений и 2 тысячи катапульт (Polyb. XXXVI, 6, 7; ср.: Арр. Lib. 78–80). Причем выдали они, конечно, далеко не всё. Город действительно напоминал мастерскую войны. Во внутренних помещениях городских стен были камеры: внизу стояли 300 боевых слонов, а рядом огромный склад пищи для них. Над ними были лошадиные стойла, вмещавшие 4 тысячи коней, закрома для продовольствия, а дальше казармы для 20 тысяч пеших и 4 тысяч всадников. «Столь значительные военные приготовления были сделаны ими еще раньше в одних только стенах», – говорит Аппиан. В гавани стояли 220 кораблей, а рядом в складах хранилось все необходимое для их оснащения (Арр. Lib. 95–96).
Но главное, у кормила правления стали новые люди. Нельзя не согласиться с И. Ш. Шифманом, который пишет: «К началу 50-х годов II в. в Карфагене, где к этому времени накоплены были ресурсы, достаточные, как полагали, для войны и против Масиниссы, и против Рима, возобладала демократическая „партия“, и она со своей стороны повела дело к новому конфликту»{108}.
С того дня, как он вернулся, Катон стал заканчивать каждое выступление в сенате словами:
– Я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен (Plut. Cat. mai. 27).
И сейчас же со своей скамьи вскакивал Назика и говорил:
– А я полагаю, что Карфаген должен существовать!
Карфаген был злейшим врагом Рима, Карфаген был для греков и латинян воплощением всего земного зла, Карфаген стоил римлянам тысячи хлопот и тревог, Карфаген не мог любить ни один италиец, не мог любить его и Назика. Почему же он так упорно и так страстно его защищал и боролся за него с Катоном до последнего? Дело в том, что Карфаген был не просто городом, а символом – символом римской гуманности. Сколько бы раз потом ни возникал вопрос о том, что делать с тем или иным городом или племенем, согрешившим против римлян, всегда можно было сказать: посмотрите на Карфаген. Есть ли во всей вселенной город, который совершил против нас больше преступлений, который был бы более страшным врагом нашего государства? И все-таки он стоит, мы даже не лишили его самоуправления, не обложили данью, и он живет и благоденствует. А вы за незначительный проступок хотите наказать несчастных галлов или иберов! Назика был племянником Великого Сципиона, его зятем и считал себя наследником его политики. Он боялся, что гибель Карфагена может стать началом крутого поворота в римской политике и отказа от принципа гуманности, провозглашенного Сципионом Старшим, и от его идей об управлении миром{109}.
Можно себе представить, какие яростные битвы ежедневно разыгрывались в сенате. В конце концов каким-то чудом верх взял Назика, и в Карфаген отправилось посольство, чтобы установить мир и справедливость. Но как раз в то время по злой иронии судьбы в пунийском совете окончательно победили демократы во главе с Гасдрубалом и Гесконом. Решено было начать войну. Гасдрубал даже не удостоил римлян аудиенции. На их глазах он отправился во главе войска против Масиниссы, тем самым окончательно порвав в клочья договор Сципиона. Мосты были сожжены (Liv. ер. XLVII–XLVIII).
Но все случилось совсем не так, как предполагал Гасдрубал. Навстречу ему выехал девяностолетний Масинисса и в пух и прах разбил силы демократов. Только теперь карфагеняне осознали весь ужас своего положения. Они разбиты. А они уже объявили войну Риму!.. Всю вину немедленно свалили на демократов. Разъяренная толпа растерзала бы их на куски, но Гасдрубал с товарищами успел бежать. Их заочно приговорили к смерти. Гасдрубал собрал вокруг себя людей, сделался разбойником и стал грабить поля Карфагена (Арр. Lib. 62).
Подумав, пунийцы решили, что у них есть только одно средство к спасению – пасть к ногам римлян и, рыдая и бия себя в грудь, униженно умолять о милости. Они очень хорошо помнили, что это средство всегда действовало на Сципиона Старшего, и, что бы они ни сделали, им все сходило с рук. И вот они послали посольство в сенат. Увы! Они глубоко заблуждались. Как только Гасдрубал объявил войну римлянам, в их душе проснулся вековой страх. Проснулась и старинная ненависть, которая всегда тлела в их душе, как засыпанный пеплом костер. Вот они, их смертельные исконные враги! Правда, теперь они плачут и ползают у их ног. Но римляне придавали очень мало значения этим слезам. За сто лет знакомства они успели хорошо изучить карфагенян. Они прекрасно знали, что те «в несчастье умоляют, а когда добиваются своего, вновь преступают договоры» (Арр. Lib. 62). Сенаторы были убеждены, что сейчас карфагеняне просто хотят выиграть время. И когда пунийцы объявили, что приговорили к смерти виновника войны Гасдрубала, сенаторы сухо спросили, почему же он приговорен не до войны, а после поражения, и выслали карфагенян вон.
И тут Утика, финикийский город, соседствующий с Карфагеном, его надежнейший оплот, который прикрывал пунийцев при Сципионе, открыто перешла на сторону римлян. Эта измена окончательно сразила пунийцев. Они решились на последнее средство: отдать себя на милость римлян. О смысле этого выражения мы уже говорили. Оно значит, что они отдают себя самих и все свое имущество в полную власть римлян. Те могут даже всех их продать в рабство. Гарантируют им только жизнь. Итак, пунийцы выбрали рабство, но жизнь.
С изумлением услыхали римляне роковые слова. И тут у них появился план, как сделать Карфаген абсолютно неопасным, в то же время не проливать римской крови и сохранить принцип гуманности. Увы! Ничему из этого не суждено было случиться.
Сенаторы выслушали карфагенян, похвалили их за мудрое решение, и объявили, что оставят карфагенянам свободу, самоуправление, все их имущество и всю территорию, но прежде они должны выполнить ряд требований консулов, которые уже отплыли в Африку. Карфагеняне были обрадованы ответом римлян, но в то же время их терзала мучительная тревога, ибо они очень хорошо заметили, что сенаторы, говоря о милостях пунийцам, не произносят одного слова «город» (Polyb. XXXVI, 4, 4–9). Но отступать было уже поздно.








