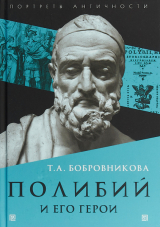
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Первым заговорил Сципион:
– Ну, Фамея, ты видишь, куда зашли дела карфагенян. Почему бы тебе не позаботиться о собственном спасении, раз ты ничего не можешь сделать для общего?
– А какое может быть мне спасение, – угрюмо отвечал пуниец, – когда карфагеняне в таком положении, а римлянам я сделал столько зла?
– Тебе будет спасение и прощение от римлян, и даже благодарность. Даю тебе в этом честное слово, если только ты считаешь меня человеком надежным и достойным доверия, – сказал Публий.
Фамея разом оживился. Его уныние как рукой сняло. Он пылко воскликнул, что слова Сципиона для него больше, чем достаточно, и исчез.
– Я подумаю и дам тебе знать, когда смогу, – крикнул он на прощанье.
Прошло несколько дней. О Фамеи не было ни слуху, ни духу. Вдруг один нумидиец принес Сципиону письмо. Публий, не распечатывая, отдал его консулу. Тот вскрыл его и прочел: «В такой-то день я буду в таком-то месте. А ты приди с кем хочешь, а страже скажи, чтобы они приняли того, кто придет ночью». Ни адреса, ни подписи, ни какого-нибудь опознавательного знака. Консул вертел в руках странное послание. Наконец, он вопросительно посмотрел на Сципиона. Тот сказал, что уверен – это весточка от Фамеи. Манилий пришел в ужас. Он горячо доказывал, что идти чистейшее безумие, что это явная ловушка, что пунийцы хотят заманить в западню лучшего римского офицера, что Фамея – первый мастер по части засад. Увы! Речи его пропали даром. Как только стемнело, Сципион отправился на свидание.
Можно себе представить, какую ночь провел консул. Он с тоской спрашивал себя, вернется ли живым этот отчаянный человек, которого просто несет на всякие опасности. Но вот наконец настал день. И появился Сципион, а с ним сам грозный Фамея со своими всадниками!
После разговора с Публием великий партизан созвал начальников своих отрядов и обратился к ним с краткой и сильной речью:
– Если родине еще можно помочь, я готов действовать вместе с вами. Но если положение ее таково, как сейчас, мне кажется, надо подумать о себе. Я уже получил твердую гарантию для себя и для тех из вас, кого сумею убедить. Самое время и вам взвесить, что для вас выгоднее.
И он поскакал к римлянам, а за ним очень многие его воины.
Когда римляне заговорили о гарантиях безопасности, он решительно оборвал их и сказал, что не нужны ему больше никакие гарантии; только еще раз напомнил, что сдался под честное слово самого Публия Сципиона.
Воины кинулись навстречу пришедшим и устроили нечто вроде маленького триумфа: ходили по улицам лагеря и пели песни в честь Публия (Арр. Lib. 107–108). Консул был счастлив. Он искренне любил Сципиона и всю дальнейшую жизнь они оставались друзьями. Кроме того, Манилий считал, что эта блестящая операция смоет с него позор последних месяцев. Теперь он мог смело возвращаться в Рим. Как ни как, ему удалось переманить знаменитого карфагенского партизана.
Несколько слов о судьбе этого замечательного человека. Вернувшись в Рим, Сципион прежде всего ввел Фамею в сенат. Отцы подарили ему очень дорогие пурпурные одежды с золотой застежкой, коня с золотой сбруей, полное вооружение, палатку с полным оборудованием и увесистый мешок с деньгами. Они сказали, что он получит еще столько же, если будет теперь действовать против карфагенян. Фамея рассудил, что родину ему все равно не спасти, а деньги нужны всегда, а потому согласился. Дальнейшая судьба этой героической личности нам неизвестна (Арр. Lib. 109).
Весной в лагере узнали, что Манилию не продлят полномочия и вскоре приедет его преемник. Манилий решил послать вперед себя Сципиона с Фамеей, чтобы придать своему возвращению некоторый блеск. Итак, Сципион уезжал. Воины уныло провожали его до самой пристани. Это отчаянное, суровое и веселое существо стало душой лагеря. Без него он казался тоскливым и мертвым. Они успели привязаться к нему всем сердцем. С ним рядом они не боялись ничего. Сейчас же вдруг они почувствовали себя одинокими и беспомощными, как дети в темном лесу. Душу их свинцовым кольцом сжимали тяжелые предчувствия.
Сципион был уже на палубе и последний раз махал рукой товарищам. И вдруг они разом закричали:
– Возвращайся к нам консулом! (Арр. Lib. 109).
Полибий стоял на палубе рядом со Сципионом. Он покидал Африку вместе с ним.
Манилия сменил Кальпурний Пизон. При нем все пошло резко хуже. Консул явно боялся Гасдрубала, избегал столкновений с ним, вместо этого он безрезультатно осаждал мелкие окрестные городки. Но ничего он не достиг, а карфагеняне сожгли все его машины. Пунийцы совсем осмелели. Гасдрубал, по выражению Аппиана, уже не думал о чем-нибудь незначительном. Теперь он всерьез мечтал сокрушить Рим. Всю Ливию силой и угрозами он вновь объединил под властью карфагенян. «Он отправил послов… к независимым маврусиям, призывая их на помощь… Других послов он отправил в Македонию к тому, кто считался сыном Персея[81]81
То есть к Лжефилиппу, самозванцу, который поднял в то время восстание в Македонии. О нем речь пойдет в следующей главе.
[Закрыть] и вел с римлянами войну, обещая, что у него не будет недостатка ни в кораблях, ни в деньгах из Карфагена» (Арр. Lib. 111). Словом, он создавал антиримскую коалицию. К Гасдрубалу перебежал нумидиец Бития с 800 всадниками. Этим ясно было продемонстрировано, что дело римлян в Африке все считают проигранным.
В довершение бед исчез Гулусса. Он вел себя словно дикий зверь, привязавшийся к какому-то человеку, но вовсе не к роду людскому в целом. Пока друг его близко, он ластиться и виляет хвостом. Но, как только друг уходит, пропадает и он. Пока Сципион был в лагере, нумидиец был лучшим другом и помощником римлян. Сципион уехал. И сразу же пропал и Гулусса.
Поздней весной или в начале лета Гостилий Манцин, легат и командующий флотом, задумал совершить нечто великое. Он заметил слабое место Карфагена. Стена у моря, выходящая на крутые утесы, никем не охранялась. Улучив минуту, Манцин подплыл туда и некоторые солдаты сумели перелезть стену. Поднялся крик, как при победе. «Манцин вне себя от радости, будучи и в остальном быстрым и легкомысленным… с криками устремился к стене». Это было чистейшее безумие. Крошечный отряд остался один на один со всей карфагенской армией. Их вновь отбросили на скалы. Карфагеняне осадили их. Оставшиеся на берегу слали гонца за гонцом к консулу и в дружественную Утику. Ответа не было. Спустилась ночь. Положение римлян стало безнадежным. Ясно, что помощи ждать было неоткуда. К утру оставалось одно – прыгать на острые камни, чтобы живыми не попасть в плен к карфагенянам, участь, которую не пожелаешь и злейшему врагу. Шла последняя стража ночи. До рассвета оставалось несколько часов. И вдруг они увидали, что к ним несется корабль, «в стремительном беге подымая волны». На палубе стояли вооруженные легионеры. Далее все развивалось с молниеносной быстротой. Вновь прибывшие стремительно атаковали пунийцев и отбросили их от скалы. Воины спустились со злополучного утеса и… увидели Сципиона в палудаментуме, пурпурном плаще главнокомандующего. Он подозвал к себе пленных и сказал, что отпускает их домой.
– Передайте Гасдрубалу, – прибавил он, – что приехал Сципион{118} (Арр. Lib. 113–114).
Стратег Публий
Чем темнее и мрачнее были известия из Африки, тем больше окутывало Рим уныние, черная тоска, наконец, ужас. Это был тот самый metus punicus – пунийский страх, о котором столько говорят римляне. Три поколения выросли в страхе перед пунийцами. Не было семьи, которая не потеряла бы отца, деда, близкого родственника. От старших ровесники Сципиона слышали страшные рассказы о войне. «Ганнибал рвал на куски и терзал италийскую землю», – говорил Катон (ORF2, fr. 187). «Италия была истерзана Ганнибалом, ибо невозможно придумать такого бедствия, такого свирепого или бесчеловечного поступка, которой она в то время не вытерпела бы» (Gell. II, 6, 7). «Кто так часто нарушал клятвы? Карфагеняне. Кто вел войну с такой ужасной жестокостью? Карфагеняне. Кто искалечил Италию? Карфагеняне», – говорил другой современник (Heren. IV, 20). Все грядущие беды своего города – роскошь, гражданские распри – римляне приписывали падению Карфагена и прекращению этого гнетущего страха, когда дверь к радости широко перед ними распахнулась (Vell. II, 1; ср.: Plut. Cat. Mai. 27). Это, конечно, легенда, но она говорит о многом. Значит, этот страх висел над римлянами как дамоклов меч. Он отравлял всю ту чашу бытия, которую они подносили к своим губам, не отпускал их ни днем, ни ночью. Терзал, даже когда они победили Македонию и мир лежал перед ними, а враг их был сломлен, обезоружен, унижен (Арр. Lib. 65). Они не верили этому унижению. Каждую минуту они ждали, что он сбросит ветхую личину и явится таким, каким отцы их видали его при Каннах. И час настал. Карфаген восстал из праха, он громил римские легионы и грозил самому Риму. Призрак Канн стоял перед ними…
Среди таких настроений настали дни выборов на 147 г. Сципион выставил свою кандидатуру в эдилы. Но едва он пришел на Марсово поле, народ немедленно выбрал его консулом. Сенаторы вышли к народу и стали объяснять, что так делать нельзя, что по Виллиеву закону Сципион должен прежде занять другие магистратуры. Но народ кричал, что еще по Ромулову закону они могут выбирать кого хотят. Наконец сенаторы смирились и сказали:
– Пусть сегодня спят законы.
Назначив своими легатами Гая Лелия и Серрана, Публий отплыл в Утику. За ним из личной дружбы последовали греческие корабли из Памфилии, жители которой были чрезвычайно искусны в морском деле (Арр. Lib. 112, 123; Diod. XXXII, 9а; Liv. ер. L; Vel. 1, 12, 3; Val. Max. III, 15, 4).
Сципион прибыл в Утику глубокой ночью. Конечно, он намеревался заночевать в городе и на рассвете отправиться в римский лагерь. Но в городе ему рассказали, что римское войско сидит где-то там на скале у Карфагена и, кажется, к утру им конец. Не медля ни минуты, он «тотчас же велел трубить поход». Сципион снял римлян со скалы, посадил Манцина на корабль и велел немедленно отправляться в Рим, потому что здесь он ему не нужен, вслед за ним он отправил и консула (Арр. Lib. 113–114).
Итак, чудо, о котором молились воины, свершилось. Сципион вернулся консулом. Но, когда он вошел в лагерь, вид у него был далеко не ласковый. Дело в том, что солдаты, которые и при Манилии чувствовали себя довольно свободно, при Пизоне и вовсе распустились. Они уходили и приходили, когда вздумается. Сами нападали на карфагенян и захватывали добычу. В лагере была масса пришлого люда, особенно торговцев.
Новый консул созвал их и, взойдя на высокий трибунал, в краткой и энергичной речи напомнил им о воинской дисциплине. Он сказал, что краснеет, видя, во что они превратились. Они больше похожи на торгашей на базаре, чем на воинов. Они разбойничают, а не воюют. Они хотят жить в роскоши, забывая, что они римские солдаты.
– Если бы я думал, что виноваты вы, я бы немедленно вас наказал. Но я считаю виновником другого и поэтому прощаю вам то, что вы делали доселе.
После этих слов он немедленно выгнал из лагеря всех лишних людей, запретил воинам готовить дорогие кушанья, велев есть самые простые, и напомнил, что будет считать дезертиром всякого, кто отойдет от лагеря дальше, чем слышен звук трубы (Арр. Lib. 115–117).
Мы уже знаем, что Сципион умел заставить себя слушаться. Уж ему никто не посмел бы и заикнуться, что бросит меч, если он сделает так, а не иначе, как говорили бедняге Манилию. Впрочем, на сей раз приучение войска к дисциплине прошло быстро и гладко, не то, что много лет спустя под Нуманцией. Воины еще не закоснели в грехах. Они были без памяти рады, что приехал Сципион, герой их мечты. Они верили ему всей душой и сейчас весело и с охотой ему повиновались.
И сразу случилось радостное событие. Как только Сципион приехал под Карфаген, Гулусса как ни в чем не бывало вернулся в римский лагерь.
Прежние главнокомандующие не имели никакого общего плана кампании. Все кончалось случайными стычками. Сципион приехал с уже разработанным до мельчайшей подробностей планом. Сейчас он приступил к его осуществлению. Главный принцип стратегии Сципиона был очень неожиданный и оригинальный. Он часто делился своими мыслями с друзьями и офицерами. Многие записывали его слова. Они передают, что Публий уподоблял полководца врачу. Как врач делает операцию только в крайнем случае и операция эта должна быть одна, так и полководец должен идти на битву в крайнем случае и стараться, чтобы битв было как можно меньше (Арр. Iber. 87; Gell. XIII, 3, 6; Val. Max. VII, 2, 2). «Того же, кто вступит в сражение, когда в этом нет необходимости, он считал полководцем никуда негодным» (Арр. Iber. 87). Главное для него, как римского военачальника, было не уничтожить побольше врагов, а сохранить своих.
– Я предпочитаю спасти одного гражданина, чем убить тысячу врагов, – говорил он (Hist. August. Ant. Pius, 9, 10).
И так как полководец ответственен за жизнь сотен людей, он должен обдумать все до последней детали. Малейшая его ошибка – это преступление, которое не простится ему ни божескими, ни человеческими законами. «Сципион Африканский утверждал, что в военном деле позорно говорить: „Я об этом не подумал“, – ибо он считал, что можно действовать мечом только после того, как план тщательно с величайшим расчетом продуман: ведь непоправима ошибка там, где в дело вступает жестокий Марс» (Val. Max. VII, 2, 2){119}.
Стало быть, полководец должен навязать врагам такую тактику, при которой римляне по возможности несли бы меньше жертв. И он придумал такую тактику. Он два раза был консулом и оба раза использовал один и тот же совершенно необычный прием. Впервые применил он его под Карфагеном.
В короткий срок он навел страх на Гасдрубала, выбил его из укрепленного лагеря возле Карфагена, загнал в город, а лагерь сжег. После этого-то консул приступил к исполнению своего плана. Воины вооружились лопатами, кирками и ломами и приступили к строительным работам. Они трудились 20 суток, не прекращая работы ни на час: ни днем ни ночью, причем на них непрерывно нападали карфагеняне, так что они должны были и работать и сражаться одновременно. Но они разделены были на небольшие отряды и по очереди строили, воевали, или отдыхали. Через три недели работа была готова. Как помнит читатель, Карфаген находился на полуострове и от материка его отделял перешеек около 4,6 км шириной. И вот римляне прокопали весь этот перешеек и воздвигли могучую крепость, которая пересекала весь полуостров и тянулась от моря до моря. Высота стены достигала 4 м, не считая зубцов и башен, толщина – 2 м. Ее защищали кроме того частокол и ров. В середине стены Сципион соорудил мощную каменную башню, а над ней еще четырехэтажную деревянную, откуда можно было наблюдать за всем, что происходило в Карфагене. Кончив работать, полководец ввел свое войско в этот импровизированный замок. Теперь римляне жили в настоящей крепости. Набеги карфагенян их больше не страшили. А главное Сципион локализовал войну в одном городе и блокировал его, совершенно отрезав от суши. Ни воины, ни оружие, ни продовольствие не могли проникнуть через укрепление Сципиона.
Герой наш, разумеется, был в лагере. Все эти дни он находился в невероятном возбуждении. Он всем интересовался, за всем наблюдал, во все вмешивался и еще постоянно давал советы главнокомандующему. Кроме всего прочего, его окрыляла мысль, что теперь-то наконец, когда его сын стал консулом, он сможет применить все свои познания в стратегическом искусстве, а главное, все свои замечательные изобретения, начиная с телеграфа и кончая машинами. Для Сципиона это было тяжким испытанием. Голова у него была занята совсем другим, а ему нужно было поминутно испытывать все новые гениальные открытия учителя: воздвигать телеграфные башни, посылать кому-то сигналы и пр. А ведь мысль у Полибия работала непрерывно, прямо-таки била фонтаном. Сципион однако не только не роптал, но даже делал вид, что совершенно беспомощен без советов Полибия. Греческие писатели с удовлетворением замечают: «Сципион имел удачу всякий раз, как следовал совету Полибия; напротив, не удавались ему дела, в которых указания Полибия он оставлял без внимания» (Paus. VIII, 30, 9){120}. Значит, Публий сделал действительно все, чтобы не обидеть названного отца.
Главнокомандующим карфагенян был, как уже знает читатель, Гасдрубал, тот самый пламенный патриот и демократ, который некогда поднял родное государство на борьбу с Римом. Недавно произошли следующие события. На одном заседании совета кто-то выступил против Гасдрубала. Сторонники Гасдрубала вскочили, набросились на оратора и убили его скамейками. С этого дня Гасдрубал стал фактически диктатором Карфагена (Арр. Lib. 111). Два года Гасдрубал наводил страх на римлян. Но вот приехал Сципион, и стало ясно, что время его миновало. Теперь он боялся высунуться из города.
Однажды в римском лагере увидали, что карфагеняне воздвигают какой-то деревянный помост. Римляне с любопытством присматривались. Пунийцы сколотили высокое сооружение, что-то вроде огромной сцены, римляне с интересом ожидали актеров. И актеры прибыли. На сцену вывели всех римских пленных. Их поставили так, чтобы из лагеря все было видно хорошо. После этого «Гасдрубал… стал кривыми железными инструментами у одних вырывать глаза, языки, тянуть жилы и отрезать половые органы, у других подсекал подошвы, отрубал пальцы или сдирал кожу со всего тела и всех еще живых сбрасывал со стены» (Арр. Lib. 118). Ни копье, ни дротик из римского лагеря до помоста не долетали. Что сделалось тогда со зрителями, этого дошедшие до нас источники не сообщают{121}.
Через несколько дней Гулуссе подбросили записку. Она была от Гасдрубала. Он звал нумидийца на свидание. Полибий был большим приятелем с Гулуссой. Он узнал о записке Гасдрубала, как узнавал всегда обо всем на свете. И тут же загорелся страстным желанием увидеть диктатора карфагенян. Видно, он каким-то чудом упросил Гулуссу взять его с собой. Во всяком случае, все дальнейшее он описывает как очевидец. Зрелище ему предстало действительно редкое. Из-за вала показалась торжественная процессия. Впереди шествовал Гасдрубал «в полном вооружении[82]82
Это было вопиющим нарушением всех международных обычаев, требовавших, чтобы на переговоры являлись безоружными.
[Закрыть], в пурпурном плаще, застегнутом на груди». За ним следовало десять оруженосцев-телохранителей. Он сделал несколько шагов вперед и кивком головы подозвал царя. «Хотя подходить-то следовало ему. Во всяком случае, Гулусса подошел к нему один, в простой одежде по обычаю нумидийцев и… спросил, кого это он так боится, что пришел сюда в полном вооружении. Когда тот ответил, что боится римлян, Гулусса продолжал:
– Оно и видно, иначе бы ты без всякой нужды не дал запереть себя в городе. Но что ты хочешь от меня, в чем твоя просьба?
– Я прошу тебя, – отвечал Гасдрубал, – будь послом к главнокомандующему и от нашего имени обещай выполнить все его требования. Только пощадите наш злосчастный город.
– Ну что за детский лепет, мой милейший! – возразил Гулусса. – Еще в начале войны, когда римляне стояли под Утикой, ваши послы не сумели добиться этого, какими же словами ты хочешь убедить их дать эту милость сейчас, когда ты заперт с моря и суши и, кажется, потерял всякую надежду на спасение?
Гасдрубал возразил, что Гулусса сильно заблуждается, что он возлагает большие надежды на иноземных союзников… что сами карфагеняне не теряют веры в собственные силы, а главное, рассчитывают на богов и на их содействие». И еще раз настойчиво просил сходить к стратегу Публию, как они называли Сципиона.
С тем они и расстались, условившись встретиться через три дня.
Гулусса без всякого энтузиазма отправился к консулу. Тот слушал очень внимательно, пока не дошло до богов. Тогда он рассмеялся и сказал:
– Я так понимаю, ты обдумывал эту просьбу, когда совершал такое ужасное нечестие над нашими пленными, и ты еще надеешься на богов, когда попрал даже человеческие законы?
Однако через некоторое время он смягчился и велел передать Гасдрубалу, что выпустит из города его самого, его семью и еще десять семей по его выбору и позволит взять десять талантов. О том же, чтобы сохранить город, теперь не могло быть и речи. Сципион знал, что его соотечественники считают, что Рим и Карфаген больше не могут вместе существовать под солнцем. Такой ответ и понес Гулусса Гасдрубалу.
Опять они с Полибием вышли из ворот и стали поджидать пунийского главнокомандующего. Тот опять подходил «медленной поступью, в пышной багрянице и в полном вооружении, так что был гораздо торжественнее театральных тиранов. От природы человек плотного сложения, Гасдрубал имел теперь огромный живот; цвет лица его был неестественно красный, так что, судя по виду, он вел жизнь не правителя государства, к тому же удрученного неописуемыми бедами, но откормленного быка, помещенного где-нибудь на рынке… Гасдрубал подошел к царю и, выслушав предложения римского военачальника, несколько раз ударил себя по бедру, потом, призвавши богов и судьбу в свидетели, объявил, что никогда не наступит тот день, когда бы Гасдрубал смотрел на солнечный свет и вместе на пламя, пожирающее родной город, что для благомыслящих родной город в пламени – почетная могила.
Доверяя речам, продолжает Полибий, можно было удивляться мужеству Гасдрубала и его душевной доблести; но при виде поступков нельзя было не поражаться его подлостью и трусостью… когда прочие граждане умирали от голода, он устраивал для себя пиры с дорогостоящими лакомствами и своею тучностью давал чувствовать сильнее общее бедствие». В самом деле, нам описывают Карфаген как сказочно богатый город. В стенах находились огромные склады с продовольствием. Судя по всему, город мог выдержать много месяцев осады. И если он так рано стал испытывать муки голода, то виной тому Гасдрубал, который захватил все продовольствие и распределял только между своими близкими, не обращая внимания на трупы, которые уже валялись на улицах города (Арр. Lib. 118; 120). А так как карфагеняне, мучимые голодом, стали массами перебегать к неприятелю, он установил террор. Чуть не ежедневно кого-то терзали и остатки вывешивали на площади. «Издевательствами над одними, истязаниями и казнями других он держал народ в страхе и этими средствами властвовал над злосчастной родиной, как едва ли позволил бы себе тиран в государстве благоденствующем» (XXXVIII, 1–2).
В пламени
Ибо решила судьба, что падет Илион…
…………………………………..
Пел он о том, как ахейцы разрушили город высокий,
Чрево коня отворивши и выйдя из полой засады;
Как по различным местам высокой рассыпались Трои,
Как Одиссей, словно грозный Арес, к Деифобову дому
Вместе с царем Менелаем, подобным богам, устремился,
Как на ужаснейший бой он решился с врагами…
Гомер. Одиссея. VIII, 511–519
Ранней весной 146 г. римляне двинулись на приступ Карфагена. Сципион, по-видимому, разделил армию на две части – половину отдал Лелию, половину взял сам. Штурм начался со стороны открытого моря, там, где находилась гавань Котон. Первым стену перелез Лелий со своим отрядом. Но, кажется, Сципион попал в город даже раньше. Но не через стену. А благодаря одной безумно смелой операции. Аммиан Марцеллин рассказывает: «Сципион Эмилиан с историком Полибием Аркадцем и тридцатью воинами с помощью подкопа овладел воротами Карфагена… Эмилиан подошел к воротам под прикрытием каменной „черепахи“. Пока враги оттаскивали каменные глыбы от ворот, Эмилиан никем не замеченный и в безопасности проник в покинутый город» (XIV, 2, 14–17)[83]83
Место это не вполне ясное. Аммиан Марцеллин не рассказывает об этом событии, а только упоминает, предполагая, что оно всем известно. Он говорит, что император Юлиан Отступник, сам хороший полководец, хотел повторить этот прием Сципиона, но у него ничего не вышло, и он отступил «с краской в лице».
[Закрыть].
Их крохотный отряд оказался совершенно один среди вражеского города. Над ними вздымался исполинский кремль. Сципион внимательно смотрел вперед. Вдруг к нему подбежал Полибий. Сразу было видно: его осенила новая гениальная идея. Указывая на неглубокий морской рукав, отделяющий их от кремля, он сказал, что нужно немедленно взять гвозди, гвозди эти вбить в доски, доски побросать в воду и тогда враг не сможет их атаковать. Сципион выносил все предложения Полибия с ангельским терпеньем. Но сейчас – один единственный раз – сорвался. Он не выдержал и воскликнул: «Это смешно!» Впрочем, он тут же взял себя в руки, принял серьезный вид и стал объяснять греку, что нельзя же, завладевши стенами и находясь внутри города, избегать всеми силами сражения с неприятелем (Plut. Reg. et imp. apophegm. Sc. Min. 5).
Внутри Карфаген разделен был на три части: кремль Бирса; площадь, лежавшая между этим холмом и гаванью; и пригород Мегара. Каждая часть была окружена внутренней стеной и каждую надо было брать как отдельную крепость (Polyb. I, 73, 4–5; Арр. Lib. 95){122}. Ночь римляне провели на площади с оружием в руках. Здесь некогда бушевали народные собрания, носилась толпа, держа на копьях головы растерзанных вельмож, здесь распинали неугодных полководцев, и сейчас еще здесь висели остатки казненных, которых Гасдрубал имел обыкновение развешивать в назидание подданным{123} (Diod. XX, 44, 3; Justin. XXII, 7, 8; Liv. XXX, 24, 10). Совсем близко от них был тофет с часовенкой, где рядами лежали урны с обгорелыми детскими костями.
С первыми лучами солнца римляне ринулись к Бирсе. Они оказались в лабиринте узких кривых улочек. Как утесы, высились тесно прижатые друг к другу огромные шестиэтажные небоскребы. Из окон и с крыш на них дождем сыпались камни, копья, дротики. Римляне стали залезать на крыши. Они перебрасывали доски между домами и сражались высоко на этих мостах. Тем временем бой кипел и внизу. То и дело с головокружительной высоты с воплем падали люди. Наконец, вспыхнул пожар. Все кругом превратилось в горящий ад. Улицы звенели от криков, дома с грохотом падали. Шум, грохот, звон, огонь, страшное напряжение и ужасные зрелища делали людей безумными и равнодушными.
«В таких трудах прошло у них шесть дней и шесть ночей, причем отряды постоянно сменялись, чтобы не устать от бессонницы, трудов… и ужасных зрелищ. Один Сципион без сна непрерывно находился там, был повсюду, даже ел мимоходом, между делом, и лишь иногда, устав, и выбрав удобный момент, садился на возвышении, наблюдая происходящее» (Аппиан). Но даже тут, в этом пылающем аду, Полибий не отходил от главнокомандующего ни на шаг, боясь упустить хотя бы одну деталь. Видно, и он забыл про сон и еду.
На седьмой день карфагеняне сложили оружие. Только отряд перебежчиков, которым нечего было ожидать милости от Сципиона, и семья Гасдрубала продолжали сопротивление. В центре города поднималась высокая отвесная скала. На ней была крепость, кремль Карфагена, Бирса. Ее окружала стена с узкими воротами; к ним вела тесная улочка, вившаяся между стенами. А на самой вершине высился исполинский храм Эшмуна с лестницей в 60 ступеней (Арр. Lib. 130; Strab. XVII, 3, 14). Там и заперлись последние защитники Карфагена. Они дали друг другу страшную клятву сгореть, но не сдаваться римлянам. Легионы окружили храм. Вдруг дверь распахнулась, из храма выскочил Гасдрубал, галопом устремился к Сципиону и сел у его ног. Римляне остолбенели.
После явления Гасдрубала перед ними мелькнуло несколько видений. На крыше храма появилась толпа перебежчиков. Они стали умолять Сципиона на несколько минут прекратить бой. Тот решил, что они хотят сообщить ему что-то важное, и дал своим знак остановиться. Но они, подбежав к самому краю крыши, стали поносить Гасдрубала последними словами. Высказав все, они исчезли. И тут же храм вспыхнул: они подожгли его изнутри. И тогда на крыше среди языков пламени поднялось второе видение. Полибий увидал величавую женщину в пышной одежде. Она держала за руки двух мальчиков в коротких туниках, которые испуганно жались к матери. Это была жена Гасдрубала. Прежде всего она обратилась к Публию:
– На тебя, римлянин, не падет божья кара. Ты сражался против враждебной страны.
И она «горячо благодарила главнокомандующего, который сделал все, чтобы спасти жизнь не только ей, но и ее детям». Затем она повернулась к мужу и громко окликнула его по имени. Но он молчал и совсем распластался на земле, не покидая, однако, спасительного положения у ног Сципиона. Она спросила, как решается он с оливковой веткой сидеть у ног римлянина на глазах людей, которым столько раз клялся, что никогда не наступит день, когда глаза его будут глядеть на солнечный свет и пожар Карфагена? И она осыпала его страшными проклятиями и язвительными упреками, называя трусом и предателем. Она призывала на его голову мщение всех богов и демонов Карфагена и заклинала Сципиона воздать ему сторицей. «Произнеся эти оскорбительные слова, она зарезала детей, бросила их в пламя и кинулась туда сама». Здание с грохотом рухнуло, погребая под собой последних защитников. Гасдрубал продолжал сидеть у ног Сципиона (Арр. Lib. 127–131; Polyb. XXXIX, 4).
* * *
Город превратился в море огня. Гигантские уродливые здания, узенькие улочки, сверкающие золотом храмы и огромные медные идолы, в которых столько лет сжигали детей, чтобы отвратить неминуемую гибель от Карфагена, – все это потонуло в пламени. Полибий и Сципион стояли на холме и смотрели на пожар. Полибий был упоен победой. Он обернулся к другу, чтобы поделиться с ним своими чувствами и вдруг увидел, что Сципион плачет. Полибий глазам своим не верил. «Сципион при виде окончательной гибели города заплакал и громко выразил жалость к врагам. Долго стоял он в раздумье о том, что города, народы, целые царства подобно отдельным людям неизбежно испытывают превратности судьбы, что жертвой ее пали Илион, славный некогда город, царства ассирийское, мидийское и еще более могущественное персидское, наконец, так недавно ярко блиставшее македонское царство» (Аппиан). И слезы текли по его лицу. Он произнес строки из Гомера:
Будет некогда день, и погибнет священная Троя.
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Затем, продолжает Полибий, обернувшись ко мне, он сжал мою руку, – таким точно жестом, как двадцать лет назад, когда мальчиком просил его дружбы! – и сказал:
– Полибий, это великий час. Но мне страшно при мысли, что некогда другой кто-нибудь принесет такую же весть о моей родине{124}.
Полибий онемел. Он много раз видел падшие и гибнувшие города. В Элладе привыкли к подобным зрелищам. Иногда победитель глумился над поверженным. Иногда бывал сдержан и достоин. Но, чтобы победитель плакал над горем врагов… И тогда именно он понял, что названый сын его великий человек. «На вершине собственных удач и бедствий врага памятовать о своей доле со всеми ее превратностями и вообще ясно представлять себе непостоянство судьбы – на это способен только человек великий и совершенный, словом, достойный памяти истории» (Polyb. XXXIX, 5; Арр. Lib. 132).
Шестнадцать дней горел Карфаген. На 17-й день Публий Сципион провел плугом по еще тлеющим развалинам и произнес страшное древнее заклятие, обрекающее это место подземным богам и демонам. Никто из людей не должен был здесь селиться.








