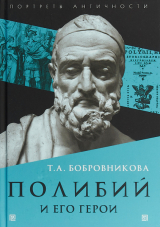
Текст книги "Полибий и его герои"
Автор книги: Татьяна Бобровникова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Нечто подобное, продолжает Полибий, было и здесь. Персей вызывал симпатии как более слабый противник. Но если бы кто-нибудь, подобно Клитомаху, «образумил тогда эллинов смелым вопросом: неужели они желают предоставить такой перевес силы одному человеку, хотели бы выносить господство самодержавного, вполне безответственного владыки, я уверен, они одумались бы… Если бы еще при этом напомнить им, хоть в немногих словах, те тягости, которые они претерпели от царственного дома македонян, и те блага, которые принесло им с собой римское владычество, они тотчас глубоко раскаялись бы в своем поведении… Я вынужден был остановиться на этом, – заключает Полибий, – чтобы кто-либо по незнанию человеческой природы… не стал укорять эллинов в неблагодарности» (XXVII, 9–10).
Увы! «Образумить» эллинов было некому. Поэтому дело, конечно, не ограничилось одним сочувствием. Многие греки состояли в тайных сношениях с Персеем и готовились предать римлян при первой возможности.
Лидеры партии Ликорты сошлись на тайное совещание. Их было десять человек, включая самого престарелого Ликорту и Полибия. Стали думать, что делать. Ликорта настаивал на полном нейтралитете и, «прозревая непомерное могущество будущего победителя, говорил, что содействовать тому или другому из воюющих грозило бы гибелью всем эллинам». Но Архон возражал, что это чересчур опасно. Надо вести себя с сугубой осторожностью и приноравливаться к обстоятельствам. Иными словами, если римлянам придется очень плохо, разумеется, не помогать им. И вообще стараться помогать как можно меньше, но явно им не перечить и даже показывать вид рвения. Это тонкое и деликатное дипломатическое поручение должен был исполнить молодой Полибий. В стратеги решено было провести Архона, того самого политика, который восхищал Филопемена своим виртуозным искусством коварно лгать. Он еще при Филопемене прославился тем, что необыкновенно убедительно доказывал римлянам, что спартанцы перебиты для их же пользы. На свои выборы Архон и истратил почти все деньги. А начальником конницы, «вице-президентом», решили сделать Полибия (XXVIII, 6). Роковое для него решение!
Эмилий Павел
Уже три года велась война. Три консула один за другим терпели поражения. Вот тогда-то римляне вспомнили об Эмилии Павле.
Люций Эмилий Павел происходил из знатнейшего патрицианского рода, был человеком долга и чести, славился благородством и исключительным даром полководца. Но он был суров, горд и презирал чернь. Не мог он, как другие соискатели должностей, ходить по улицам, расточать улыбки и пожимать руки{31}. Народ был обижен. И солдаты его не любили за непреклонную суровость. Это ему, пожалуй, простили бы. Римские воины не сердились на строгость и требовательность, если военачальник держался дружелюбно, жил их жизнью, работал рядом с ними и сидел рядом с ними вечером у костра. Но Эмилий Павел никогда не был с солдатами запанибрата. На войне он вел себя, «как жрец каких-то страшных таинств», посвящал в них лишь немногих и «грозно карал ослушников и нарушителей порядка… считая победу над врагом лишь побочною целью рядом с главной – воспитанием сограждан» (Plut. Paul. 3).
Его стали обходить почестями. Не в характере Эмилия было выпрашивать милости или напоминать о своих заслугах. Он удалился от общественных дел и жил гордо, печально, достойно. Ему было уже под шестьдесят, когда народ неожиданно вспомнил о нем.
Все вдруг прониклись убеждением, что спасти честь Рима может только Эмилий. Его просили быть консулом. Он холодно отвечал, что не намерен более занимать высших должностей. Народ умолял его; что ни день, люди подходили к его дверям. Наконец он смягчился, появился на площади и сразу же был выбран консулом на 168 г. После своего избрания консул всегда благодарит народ за оказанную честь. Но Эмилий Павел остался верен себе. На собрании он объявил народу, что ему их благодарить не за что. Не он просил, его просили. Не ему нужна была должность, им нужен был полководец. Это они должны благодарить его за то, что он согласился. Взамен он требует одного, чтобы они не вмешивались в его действия и не вздумали, чего доброго, руководить им и давать советы. Потому что у римлян, продолжал он, есть эта скверная привычка – гуляя по площади, они любят обсуждать действия своих военачальников, критиковать их и поучать. С собой так обращаться он не позволит. Если им недовольны, пусть едут вместо него. А если нет, то пусть помнят, что полководец он (Plut. Paul. 10–11; Polyb. XXIX, 1). После этих суровых слов Эмилий отбыл к театру военных действий.
Еще в Риме он напряженно «дни и ночи думал о македонской войне» и уже там, видимо, составил план действий (Liv. XLIV, 18, 1). Действительно, новый консул повел войну с молниеносной быстротой. Каждый шаг его был точен и продуман. Царя оттеснили к Пидне. Всего через несколько месяцев после приезда Эмилия война должна была решиться одной битвой.
Между тем Персей делал ошибку за ошибкой из-за всегдашней своей нерешительности и еще более из-за всегдашней своей жадности. Например, он привлек к себе на службу воинственное германское племя бастарнов. К нему явилось 10 тысяч всадников и 10 тысяч пехотинцев – грозная сила! То были огромного роста люди, профессиональные наемники, один вид их наводил ужас. При виде их македонцы воспрянули духом, воспрянул духом и сам царь. Уже он совсем ободрился, уже преисполнился надежд, но… тут бастарны потребовали по тысячи золотых на каждого начальника. «Мысль об этой груде золота помутила взор скупца» (Плутарх). С негодованием царь отказался от услуг бастарнов, и они ушли (Paul. 12).
Персей совершил и еще более удивительный поступок. Долго переманивал он на свою сторону иллирийского царька Гентия. Собственно, это была долгая и нудная торговля. Наконец Гентий согласился за 300 талантов. Персей на глазах иллирийского посла отсчитал и опечатал деньги. «Когда же Гентий, уверившись в том, что получит свою плату, решился на гнусное и страшное дело – задержал и заключил в тюрьму прибывших к нему римских послов, – Персей, рассудив, что теперь нечего тратить на Гентия деньги, поскольку он… своим бессовестным поступком уже втянул себя в войну, лишил несчастного его 300 талантов, а немного спустя равнодушно глядел на то, как претор Люций Аниций с войском изгнал Гентия вместе с женой и детьми из царства, как сгоняют птицу с насиженного гнезда» (Plut. Paul. 12–13). А между тем теперь после приезда Эмилия Павла судьба его висела на волоске. Это было просто какое-то наваждение свыше, замечает Полибий (XXVIII, 9).
Оба войска сошлись в горах у Пидны. Не стану описывать эту страшную битву. Вместо того скажу несколько слов о впечатлении, которое она произвела на римлян. Мы узнаем об этом из любопытнейшего источника – письма одного молодого римского офицера Назики, впоследствии крупного полководца. Сначала, говорит он, появились фракийцы, великаны с ярко блистающими щитами, в сияющих поножах, все в черном. Высоко над головой они поднимали тяжелые железные мечи. За фракийцами шли наемники. А за наемниками Назика увидал самих македонцев в пурпурных одеждах и позолоченных доспехах. А потом из-за укреплений показались воины с медными щитами. «И равнина, – продолжает он, – наполнилась ярким блеском железа и сиянием меди, а горы загудели от крика» (Plut. Paul. 18).
Сам же Эмилий Павел часто рассказывал друзьям, что не видал ничего грознее и ужаснее македонской фаланги, хотя уж он-то на своем веку повидал битвы (Polyb. XXIX, 17, 1). Эта страшная, ощетинившаяся копьями машина стремительно катилась на римлян. Эмилий видел, что первые ряды его смяты, видел, как италийцы отчаянно рубятся своими короткими мечами против сарисс; как они хватают сариссы голыми руками и пытаются пригнуть их к земле, но сариссы пронзают римские щиты и панцири, словно бумажные (Плутарх). Фаланга летела прямо на Эмилия. Он понял, что все решают считаные минуты. Либо победа, либо гибель. Но никто не мог бы заметить в нем ни малейших признаков волнения – лицо его было спокойно, даже весело. Он объезжал свое войско и ободрял воинов. Он улыбался и шутил. А между тем зорко следил за боем, ища слабое место врага. И он нашел его и стремительно ударил македонцам во фланг.
Персей же, по словам Полибия, в самом начале битвы оробел и ускакал. Правда, он сказал, что едет помолиться Гераклу. Но, как ядовито замечает Полибий, «этот бог не принимает жалких жертв от жалких трусов» (XXIX, 17, 5). Впрочем, один грек, который, по его словам, сражался бок о бок с царем и тоже оставил воспоминания, взялся защищать Персея. Накануне, говорит он, Персея лягнула лошадь и ушибла лодыжку. И все-таки царь мужественно решил участвовать в битве. Кругом свистели тучи копий и дротиков. И вот одно копье угодило в Персея. К счастью, оно его не ранило, а только порвало одежду. Но на боку виден был довольно большой синяк. Тут уж Персей не выдержал и ушел (Plut. Paul. 19; Liv. XLIV, 38–42).
Бой длился недолго. Македонцы были разбиты и обращены в бегство. Персея окружала горстка друзей. Чтобы его не узнали, он скинул багряницу, а корону нес в руках. С каждым шагом друзей становилось все меньше. Кто-то отстал, чтобы напоить коня, кто-то остановился, чтобы завязать обувь… Но ни один не возвращался назад. Персей был всеми брошен и всеми покинут. Но македонцы боялись вовсе не римлян, а… самого царя. Он имел ужасное обыкновение во всех бедах непременно находить козла отпущения и сваливать на него все неудачи. И они уже чувствовали, что будут виноваты в сегодняшнем поражении. И верно, когда ночью он добрался наконец до своего дворца, то немедленно умертвил двух вельмож, которые вышли к нему навстречу. Тут уж разбежались все.
Царь укрылся пока в Амфиполе. Он хотел было поднять дух граждан и произнести перед ними речь. Взошел на ораторское возвышение, но не смог вымолвить ни слова. Едва он открывал рот, как начинал плакать и всхлипывать. Наконец он махнул рукой и удалился к себе рыдать, а говорить с народом поручил критянину Евандру, наемному убийце, состоявшему у него на службе. Но у того тоже ничего не получилось. Озлобленный народ вопил:
– Убирайтесь, нас и так уже мало – не хотим из-за вас гибнуть! (Liv. XLIV, 45, 1–11; XLII, 15).
Возле царя осталось только несколько критян. Остались вовсе не из преданности. Словно мухи к меду, они липли к царскому золоту (Плутарх). Персей был так напуган и убит, что разрешил им взять несколько золотых чаш. Сам же поспешно собрал сундучок с золотом, взял семью и бежал, охраняемый критянами. Но вскоре царь одумался и затосковал. Мысль о чашах, которые он так легкомысленно отдал критянам, свербила его мозг. Наконец он не выдержал и стал говорить, что чаши – это семейная реликвия. Из них пил сам Александр Великий. Он заклинал критян отдать чаши, а сам клялся и божился, что выплатит их стоимость деньгами. Некоторые поверили, вернули и остались в дураках. Ничего он им не отдал, а еще выклянчил у друзей 30 талантов на дорогу, отплыл на Самофракию и припал к алтарю Диоскуров.
Римляне, стоявшие там с флотом, прекрасно его видели. Но не могли же они вломиться в святилище. Оставалось только следить, чтобы царь не бежал дальше. А Персей тем временем нашел еще одного критянина, владельца небольшого судна, и уговорил увезти его ночью. Условились, что сначала критянин положит пожитки царя, а в следующую ночь возьмет его самого вместе с семьей. Ночью Персей протиснулся сквозь узкую щель в святилище. За ним вылезли жена и дети. Они побежали на берег. И тут набережная огласилась душераздирающим воплем – корабль исчез! Критянин давно уплыл, уплыл вместе с сундучком! Царь метался по берегу и ломал руки. Но тут стало светать, и он стремглав бежал в свое укрытие. Детей же передал Иону. Этот Ион был некогда его любовником, поэтому царь ему верил. Но он оказался бессовестным негодяем и выдал детей римлянам. Последний удар добил несчастного. «Это главным образом и вынудило Персея отдаться в руки врагов – ведь даже дикий зверь покорно склоняется перед тем, кто отобрал у него детенышей» (Плутарх). Персей положил сдаться непременно Назике, который славился великодушием. Но Назика был далеко. У царя не было выбора, и он сдался начальнику флота. Оттуда его отправили в ставку главнокомандующего (Plut. Paul. 23–26).
Когда Эмилию пришла весть, что к нему везут Персея, который «в один час из царя стал пленником» (Валерий Максим), он созвал своих легатов и офицеров. Среди них были два его сына Квинт Фабий и Публий Сципион, совсем еще юноши, но отличившиеся уже на войне исключительной отвагой. Сам консул сел на почетное место, остальные уселись вокруг. Главнокомандующий строго внушал, что нет ничего подлее, чем издеваться над поверженным врагом. Поэтому, боже их упаси, словом, жестом или взглядом выразить глумливое торжество. И вот они увидали Персея. Без короны и багряницы, в рубище, совсем один брел он по дороге. Эмилий Павел встал и, сделав знак остальным не двигаться, поспешил ему навстречу. Подойдя к Персею, он протянул ему руку, но тот вдруг с жалобным воплем простерся перед ним ниц. С отвращением глядел Эмилий на царя, валявшегося у него в ногах. На минуту презрение заглушило в нем все чувства жалости и сострадания. Но римлянин овладел собой, поднял пленника, усадил его на почетное место и ласково заговорил с ним по-гречески. На все лады он пытался хоть немного успокоить и ободрить несчастного. Он говорил, что совершенно уверен – жизни царя не угрожает опасность. Римляне никогда не казнили царей. Сам же он сделает все возможное, чтобы облегчить его участь. В заключение он просил царя сделать ему честь и отобедать с ним. С тех пор Персей и его семья жили в ставке полководца как самые почетные гости.
Рассказав о том приеме, который Эмилий оказал пленному Персею, римский писатель Валерий Максим говорит, что римляне колеблются, не зная, когда их полководец был достойнее уважения – в битве ли при Пидне или сейчас? Ибо «конечно, великолепно повергать врагов, но не менее достойно хвалы и уметь пожалеть несчастного» (Polyb. XXIX; 27; Plut. Paul. 27; Val. Max. V, 1, 8; Liv. XLV, 35, 7–8; 28).
Когда царь удалился в палатку, Эмилий некоторое время сидел в глубокой задумчивости. Лицо его было торжественно и печально. Наконец он заговорил уже на латыни. Он говорил о том, как хрупко и бренно человеческое счастье, как непостоянна и ненадежна судьба. В один миг она бросила к ногам римлян наследие Александра, но «неужели после всего этого вы станете утверждать, что наши удачи нерушимы перед лицом времени?» И он настойчиво внушал, чтобы они никогда не зазнавались в счастье и «ни с кем никогда не поступали нагло и беспощадно». Казалось, он ощущал себя орудием судьбы, и роль эта представлялась ему грустной (Polyb. XXIX; 20; Plut. Paul. 27).
После победы Эмилий дал воинам отдых, а сам отправился смотреть чудеса Эллады, о которых столько слышал и вот только теперь на старости лет смог посмотреть. Он проехал всю страну с севера на юг. Эмилий не утратил способности изумляться и на все глядел с детским восхищением. Он был и в Дельфах, и в таинственной пещере Трофония, и в Авлиде, где Агамемнон принес в жертву родную дочь. Подымался на Акрополь и осматривал Спарту. И изумление его не убывало, а час от часу возрастало. Больше всего путешественнику понравилась Олимпия. Там стояла знаменитая статуя Зевса работы Фидия. Паломники толпами текли сюда, чтобы только взглянуть на нее. Они с восторгом рассказывали, что забывали все свои печали и заботы, глядя на милостивый лик бога. Эмилий Павел был человек глубоко религиозный. Все эти изображения были для него не просто красивыми статуями. Они вызывали у него молитвенное и благоговейное чувство. Сейчас ему показалось, что он въявь узрел божество. Он стоял пораженный. «Зевс потряс его до глубины» (Ливий). Наконец он медленно произнес, «что, по его мнению, один Фидий верно воспроизвел гомеровского Зевса, ибо действительность превзошла даже высокое представление, которое он имел об этом изображении» (Polyb. XXX, 10, 3–6; Liv. XLV, 28, 5). Эмилий видал в Элладе много чудес. Но остался верен Фидию. Он привез в Рим много статуй. Но одну взял себе. То была Афина работы Фидия. Однако Эмилий Павел не внес ее в свой дом, не украсил ею свой кабинет или внутренний садик. В его доме, говорит Цицерон, обитали слава и доблесть, статуй и картин, вывезенных из завоеванных стран, у него не было (Verr. II, 1, 55). Он посвятил Афину в храм Фортуны Сего Дня, маленькую часовенку, которую он основал в честь своей победы (Plin. N. Н. XXXIV, 54)[28]28
В афинском Акрополе стояли две огромные статуи богини Афины. Речь идет не о них, а о какой-то небольшой статуе работы Фидия, его школы или, быть может, копии, сделанной для полководца.
[Закрыть].
Вернувшись, Эмилий, к своему изумлению, не нашел Персея в лагере. На его тревожные вопросы ему объяснили, что царственного пленника отпустили погулять, очевидно, боясь, что он впадет в депрессию. Сопровождает ли его охрана? Разумеется, нет. Ведь это может обидеть несчастного. С пленником, когда он воротился, Эмилий был по обыкновению очень ласков, ни словом не упомянул о его странной отлучке, но зато самым суровым образом отчитал офицера за то, что он отпустил царя бродить по только что покоренной стране. Тут увидал он новое диво: хорошую черепицу. Солдаты весело таскали ее к своим палаткам. Эмилий спросил, что это такое. Оказывается, солдаты ободрали черепицу в соседнем городе и собирались укрепить ею свои зимние квартиры. Эмилий резко повернулся к офицеру и сказал, что нельзя же до такой степени распускать войско. Затем приказал солдатам немедленно идти обратно, вернуть черепицу и не просто вернуть, а починить все дома да побыстрее (Liv. XLV, 28, 9–11).
Велика была победа Эмилия. И тем страннее казался оказанный ему в Риме прием. В Македонии одновременно было трое военачальников – Эмилий Павел, Октавий и Аниций; эти последние вели себя как подчиненные консула. Но «посредственности зависть не угрожает – она поражает вершины. Триумф Октавия и Аниция не оспаривался, а Павел, с которым те двое и сами постыдились бы равняться стал жертвой злобной ревности» (Liv. XLV, 35, 5). Повторилась всегдашняя история. Воины невзлюбили консула, и этим воспользовался один ловкий демагог, личный его враг. Они взбаламутили народ. В триумфе Эмилию решено было отказать.
Триумф был высшей наградой полководца, и римляне не так-то легко от нее отступались. Они боролись до последнего. Но Эмилий Павел сделан был из другого теста. Всем ясно стало, что он сурово и презрительно выслушает приговор и, ни слова не говоря, удалится. На это-то, видимо, и рассчитывал демагог. Но тут о происходящем узнали сенаторы. Они были возмущены этой неслыханной несправедливостью. Все спрашивали, что в конце концов хотят – чтобы военачальник умел льстить и заискивать перед толпой или командовать армией? А один знатный человек, старый воин, вскочил и бросился в народное собрание, крича, что хочет посмотреть в глаза этим неблагодарным мерзавцам. Он ворвался на сходку и произнес сильную и гневную речь. Народ устыдился. Триумф был разрешен (Plut. Paul. 31).
Великолепен и торжествен был въезд Эмилия Павла. Последний раз увидели римляне грозные сариссы, которые провозили на повозках. Увидели и груды македонского золота, над которым так дрожал несчастный Персей. Но более всего поразил римлян вид царских детей. Они шли, окруженные целой толпой воспитателей, «которые плакали, простирая к зрителям руки, и учили детей тоже молить о сострадании. Но дети… по нежному своему возрасту не могли еще постигнуть всей тяжести и глубины своих бедствий. Тем большую жалость они вызывали простодушным неведением свершившихся перемен, так что на самого Персея почти никто уже и не смотрел – столь велико было сочувствие, приковавшее взоры римлян к малюткам. Многие не в силах были сдержать слезы, и у всех это зрелище вызывало смешанное чувство радости и скорби» (Plut. Paul. 32–33).
И все-таки все ликовали. Все, кроме триумфатора. А его постигло лютое горе. У Эмилия было четыре сына. Все четверо исключительно одарены от природы. Поэтому Эмилия называли счастливейшим отцом. Двух старших он отдал в усыновление в знатнейшие патрицианские дома, младшие жили с ним как его наследники. И вот после его возвращения заболел старший из них, пятнадцати лет. Он умер на руках отца за пять дней до триумфа. Отменить священную церемонию было невозможно. Прямо с похорон поднялся Эмилий на триумфальную колесницу. Молча, с каменным лицом выдержал он пытку, которая продолжалась три дня! Когда же он вернулся, то увидел, что младший сын, двенадцати лет, лежит при смерти. Через три дня мальчик последовал за старшим братом. Теперь, сказал старый полководец, он стал неизмеримо несчастнее Персея – тот, хотя и побежденный, остался отцом, а он осиротел.
Через несколько дней Эмилий Павел, по обычаю, произнес перед народом речь о Македонской войне. Он говорил, что большое счастье всегда вызывало у него недоверие и страх. Вслед за ними он предчувствовал небесный гром и горе. А в последней войне удача неизменно сопровождала его, как попутный ветер.
– В зените нашего счастья, квириты, я боялся, что судьба замыслила нам зло. Я молился Юпитеру Всеблагому и Величайшему, Юноне Царице и Минерве, чтобы, если какая-нибудь беда грозит римскому народу, они целиком обратили ее против моего дома. Теперь все хорошо: они услышали мои молитвы. И вы скорбите над моим горем, а не я плачу над вашим[29]29
Эти слова являются подлинным отрывком из речи Эмилия Павла.
[Закрыть] (ORF2, р. 100–101, fr. 1).
Говорят, если бы он убивался и плакал, римляне не были бы так поражены и тронуты, как теперь (Plut. Paul. 37; Val. Max. V, 10, 2; Liv. XLV, 35–42).
Эмилий не забыл своего обещания и делал все возможное, чтобы помочь Персею. Правда, от него мало что зависело. Несчастного царя отвезли в городок Альбу на берегу Фуцинского озера. Его не лишили ни свиты, ни домашних вещей (Liv. XLV, 42). Там он и окончил жизнь государственным пленником. Из троих детей Персея зрелости достиг лишь один. Он жил в Италии, выучил латынь и прославился как искусный резчик по дереву и писец (Plut. Paul. 37).
* * *
Полибий заканчивает рассказ о Персеевой войне следующими словами.
«Очень часто приходится мне вспоминать изречение Деметрия Фалерского; желая показать людям в своем сочинении о судьбе нагляднейший пример ее неустойчивости, он останавливается на том времени, когда Александр разрушил персидскую державу и говорит следующее: „Нет нужды нам брать бесконечно долгое время, ни даже огромное число поколений; достаточно оглянуться назад не более чем на пятьдесят лет, чтобы познать жестокость судьбы. Думаете ли вы, что персы или царь персидский, македонцы или царь македонский поверили бы божеству, если бы за пятьдесят лет до того оно предсказало будущую судьбу их, что к нашему времени не останется самого имени персов, которые были тогда господами чуть ли не всего мира; что надо всей землей будут властвовать македонцы, самое имя которых до сего времени не существовало. Однако безжалостная к нам судьба, которая все перестраивает наперекор нашим расчетам… научает всех людей, как я думаю и теперь, когда счастье персов перешло на македонцев, что им она предоставила такие блага в пользование до тех пор, пока не примет другого решения“… Это и произошло при Персее… Будучи очевидцем этого события, я решил не молчанием обойти его, но заключить повесть о нем подобающим суждением» (XXIX, 21).
Таково надгробное слово, которое он произносит над великой Македонией.
Катастрофа
Однако вернемся назад, к тем дням, когда Эмилий был еще на Балканах. Римлянам предстояло решить, как поступить с поверженной лежащей у их ног страной и с греками.
Солнечная романтическая эпоха Сципиона и Тита была полна самых радужных, самых светлых надежд. Римляне упивались собственным великодушием и восхищались великой Элладой. Они надеялись дать измученной Греции покой и мир, не захватывая земель и не порабощая народы. Но вот пришла новая эпоха, трезвая и холодная. Эллинофилы имели вид человека, который внезапно пробудился от сладостных ночных грез и увидел, что наступило хмурое зябкое утро. Печальная действительность обступила их со всех сторон.
В Греции по-прежнему царил полный хаос и неразбериха. Яркий пример – беотийцы. Некогда, при Эпаминонде, величайший народ, гегемон Эллады, ныне они впали в полное ничтожество. В государстве их остановилась вся жизнь. Не собиралось народное собрание, не издавались законы. Даже суд закрылся. Причина тому, говорит Полибий, один «несчастный обычай». Люди бездетные, умирая, оставляли наследство не ближайшим родственникам, но завещали на пиры и спиртное. Потом уже и люди, имеющие детей, стали завещать большую часть наследства обеденным клубам. В результате у беотийцев «бывало более обедов в месяц, чем дней» и вся жизнь их проходила в попойках и дегустации деликатесов (XX, 6, 1–6).
Но хуже всего были непрерывные склоки греков, которые буквально сводили римлян с ума. Стоило жителям двух городов повздорить между собой, как послы их, обгоняя друг друга, вихрем неслись в Рим; каждый старался опередить соседа, чтобы прибежать первым и успеть облить его грязью перед отцами. И римляне должны были собирать сенат и, отложив все дела, отказав послам великих держав, часами слушать доносы греков друг на друга. Иногда от одного города выступало по несколько партий. Вспомним Спарту: старые изгнанники, новые изгнанники, умеренные граждане, радикально настроенные граждане… И все они бурно требовали у римлян немедленного решения. В такие минуты римляне, вероятно, думали то же, что Александр Македонский, который, когда ему доложили в Персии о греческих делах, говорят, с усмешкой сказал: «Похоже, друзья, что в то время, как мы побеждаем Дария, в Аркадии идет война мышей» (Plut. Ages. 15). Но греки этого не подозревали. Они привыкли считать себя солью земли, им и в голову не могло прийти, чтобы римляне думали о чем-то, кроме их дел. И если римляне отвечали рассеянно и невпопад, они усматривали в этом утонченное коварство, хитрый план. Даже Полибий убежден, что сенаторы, затаив дыхание, слушали захватывающие саги о том, как один сосед угнал у другого стадо свиней.
В ответ на все жалобы и претензии римляне, как мы знаем, слали уполномоченных, которые должны были во всем разобраться на месте. Но уполномоченные эти сталкивались с невероятными трудностями. Греки мешали им всеми силами и на каждом шагу ставили им палки в колеса. Обе стороны выходили из себя и кричали до хрипу. Наконец, уполномоченные разражались угрозами и вне себя от возмущения покидали Элладу. Но греки давно поняли, что за этими угрозами ровно ничего не последует. Однажды, например, после одной совсем уж некрасивой сцены ахейцы не на шутку встревожились и спешно отправили посольство в Рим, чтобы оправдаться. И что же? Вместо страшных угроз сенаторы устало посоветовали ахейцам быть повежливее с римлянами, ведь римляне всегда вежливы с ахейцами (Polyb. XXII, 15–16). Поэтому греки с полным равнодушием наблюдали ярость Аппия и величественный гнев Метелла. Недаром мудрый Ликорта поучал своих неопытных друзей и объяснял им, что на требования римлян не нужно обращать внимание. Тот день, когда Тит отплыл от Навпакта, оставив без помощи спартанских изгнанников и предоставив ахейцам и мессенцам истреблять друг друга, продемонстрировал всю степень бессилия римлян.
В то же время ахейцы очень оскорбились, когда однажды римляне заявили, что уже сделали для Пелопоннеса все возможное и больше не желают мешаться в его дела (XXIII, 9).
Впрочем, такого рода резкие ответы ничуть не обескураживали греков. Напротив. Они с еще большим энтузиазмом начинали штурмовать слух римлян. Слали посольство за посольством, пока не добьются своего. Слушать-то их римляне слушали, но что думали при этом, видно из одного разговора, который передает Цицерон. Младший из собеседников просит у старшего совета, но он стесняется и боится, отнять у него время.
«– Приставать к тебе я не буду, – говорит он, – я не хочу, чтобы мое поведение показалось тебе бестактным.
– Верно, – отвечает тот, – …из всех латинских слов это слово казалось мне по смыслу особенно важным… Кто не считается с обстоятельствами, кто не в меру болтлив, кто хвастлив, кто не считается ни с достоинством, ни с интересами собеседника и вообще кто… назойлив, про того говорят, что он бестактен. Этим пороком особенно страдает самый просвещенный народ – греки. Но сами греки не сознают силу этого зла».
У них, продолжает он, даже нет слова, обозначающего бестактность. И это при таком удивительном богатстве языка! Потому что это понятие органически чуждо греческому уму.
Тут вмешивается еще один собеседник, горячий эллинофил. Он пытается защитить греков, но защита его весьма любопытна.
«– Однако, – возражает он, – …те греки, которые некогда были знамениты и велики в своих городах… нисколько ведь не походили на этих греков, которые жужжат нам в уши» (De or. II, 17–19).
Кроме того, система, которую придумал Сципион, а Тит применил к Греции, была безумно трудна. Она держалась на людях. Но в 80-е гг. II в. произошла смена поколений на политическом небосклоне Рима. В 184 г. после гонений и преследований удалился из города сам творец этой политики Сципион Африканский. Видимо, около 180 г. ушел из жизни Тит{32}. И дело не только в том, как обыкновенно говорят, что с уходом Сципиона политика Рима стала жестче. Просто ни Тита, ни Сципиона некем было заменить. И преемники их далеко не всегда обладали необходимой мудростью и терпением.
А положение в Греции все ухудшалось. В Этолии делалось что-то страшное. «Если уже раньше в междуусобной войне не было жестокости, перед которой они остановились бы, то теперь… этоляне были способны на все и так одичали, что даже правителям своим не давали собираться на совещание. Посему безначалие, насилия и убийства наполняли Этолию» (Polyb. XXX, 11). Временами казалось, что все племя их сгинет бесследно. Наконец, они как будто немного одумались. Решено было помириться. Объявлена была всеобщая амнистия. Изгнанники вернулись. Их торжественно встретили первые люди государства. Гостей обняли, облобызали… и тут же в воротах зарезали! Как с торжеством объявили лидеры правящей партии, амнистия была военной хитростью (Liv. XLI, 25, 1–4).
К этолянам приехал римский уполномоченный, но они так вопили, что понять что-нибудь оказалось невозможно. Он так и доложил сенату, что не смог понять, какая партия права, какая виновата, а потому не вынес никакого приговора, а только взял с них клятву не уничтожать друг друга (Liv. XLII, 5). На собрания теперь приходили с камнями и забивали противников до смерти (Polyb. XXVIII, 4).








