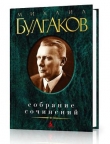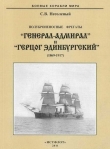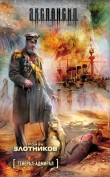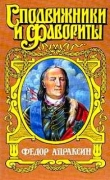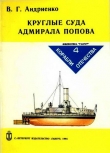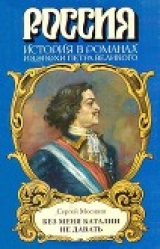
Текст книги "«Без меня баталии не давать»"
Автор книги: Сергей Мосияш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
14
Завидно любознателен
Так и пошло. С утра Пётр с мастером Полем определяли, что нужно сделать за этот день – что вытесать? где выдолбить? где зарезать? что сплотить? куда вбить? Расставляли волонтёров, и начиналась работа. Причём Пётр старался сделать так, чтоб каждый поработал и топором, и пилой, и долотом. Поскольку самого Петра помимо верфи ждали и другие дела, он старался не терять ни минуты, делая редкие и короткие передышки. От него ни в чём не отставал Меншиков, тоже отлично владевший всеми плотницкими инструментами. И когда Петра отвлекали для других дел, именно Меншиков оставался за него, и работа нисколько не замедлялась, а, казалось, ускорялась ещё более.
– Давайте-ка, братцы, порадуем бомбардира, – говорил Алексашка волонтёрам, и все понимали, что это значило. Надо как можно больше сделать до возвращения Петра, чтоб, воротившись, он мог воскликнуть:
– Ого, славно работнули, друга.
Для Меншикова это было лучшей наградой – порадовать «мин херца».
К вечеру все уматывались так, что, поужинав в харчевне, едва добравшись до квартиры – домика канатного мастера, – валились и засыпали почти мгновенно.
А Пётр, как правило, в это время садился разбирать почту, приходившую из России, Вены, Берлина и из Польши. И почти на каждое письмо старался ответить. Ложился он уже далеко за полночь. Для восстановления сил ему хватало четырёх-пяти часов сна.
И когда в последний день августа на верфи появился Витзен и сообщил Петру, что назавтра они отправляются в Утрехт на встречу с королём, он не проявил особой радости, хотя ещё в Москве мечтал увидеться с Вильгельмом Оранским.
Ведь именно его победе над французским флотом в 1692 году Пётр салютовал из пушек на Переяславском озере, где строил тогда свой первый флот.
– Ну что ж, с королём так с королём, – сказал Пётр, всаживая топор в бревно.
– Чем-то недоволен, Пётр Алексеевич?
– Закладка затягивается, – вздохнул Пётр. – Вот уж две недели потеряли.
– Ничего себе «потеряли», – сказал подошедший Поль, – наворочали столько, что другим в месяц не управиться.
– Значит, неплохо трудятся наши гости? – спросил Витзен.
– Куда уж лучше.
– А когда действительно заложите корабль?
– Я думаю, через неделю. И если так же будут трудиться, я не удивлюсь, если в декабре спустят на воду готовое судно.
– Там поглядим, – сказал Пётр с оттенком упрямого несогласия.
Однако когда на следующий день Пётр и бургомистр ехали на свидание с королём, он был оживлён и всю дорогу выпытывал у Витзена, как осуществляется управление таким большим городом, как Амстердам. Бургомистр, насколько мог, удовлетворял это любопытство.
Перед выездом Пётр побрился, скинул рабочую одежду, пропахшую потом и смолой, надел новый камзол, купленный ему накануне Лефортом, белые чулки и новые блестящие туфли с серебряными пряжками.
– Мин херц, ты – картинка, – молвил удовлетворённо Меншиков, осматривая Петра в этом наряде.
– Ты лучше проследи, чтобы лапы зарубали с припуском небольшим, чтобы при стыковке не хлюпали, а входили плотно.
– Не беспокойся, мин херц, сделаем впритирку.
– Если припуск будет большой, расколете лапу.
– Да ладно, бомбардир, а то я не знаю. Далась тебе та лапа. Лепш о короле думай.
И хотя Пётр просил, чтобы встреча с королём была неофициальной, частной, всё равно камергер и церемониймейстер Вильгельма настояли на соблюдении некоего придворного этикета и протокола: «Вы должны дойти до середины залы и там встретиться с его величеством, поклониться учтиво, и если он подаст вам руку...»
Все эти наставления Пётр тут же отмёл, едва увидел короля, вступившего в залу с другой стороны. Пётр, зашагав широченными шагами, промчался через всю залу, мигом преодолев не только свой путь, отмеренный ему протоколом, но и королевский участок.
– О-о, ваше величество, как я рад! – искренне воскликнул Пётр, обнимая Вильгельма.
Ошарашенный такой бесцеремонностью, но не теряя самообладания, король молвил негромко, увы, тоже нарушив этикет:
– Я тоже, мой друг.
Церемониймейстер едва не упал в обморок. Однако король, сбитый с толку этим русским верзилой, и дальше продолжал не по-королевски. Взяв Петра под руку, повернул назад, шепнув:
– Идёмте ко мне, мой друг.
И они ушли едва не в обнимку. В зале все остались в некоем онемении от случившегося. Только Витзен, плотно сжав губы, беззвучно смеялся, и смех его выдавал лишь трясущийся живот да лучившиеся весельем глаза.
Вильгельм, предупреждённый Витзеном о том, что царь подчёркнуто настаивал на неофициальной встрече, называл Петра просто «мой друг», и именно это обращение более всего импонировало бомбардиру.
И когда они уселись в королевском кабинете на диван, Вильгельм, как хозяин, первым спросил гостя:
– Как вы нашли Голландию, мой друг?
– О-о, ваше величество, страна ваша прекрасна! – вполне искренне воскликнул Пётр. – А флот! А море! Ведь у меня моря-то почти нет. А у вас, ваше величество, такое раздолье.
– Да, чего-чего, а воды нам хватает, – улыбнулся король. – Иной раз хотелось бы поменьше этого раздолья.
– Ну что вы, ваше величество, это счастье иметь столько моря.
– Вы так считаете, мой друг?
– Конечно, – не задумываясь сказал Пётр. – Нам за море драться приходится. С великими трудами и кровью пробились к Азовскому, теперь, пока на Чёрное море выйдем, сколь сил понадобится. Вы счастливый монарх, ваше величество. Да, да. Обладаете двумя морскими державами – Англией и Голландией.
– Мой друг, вы считаете это счастьем?
– А как же? Монарх, владеющий армией, силён, но владеющий ещё и флотом – вдвойне сильнее.
– У вас есть сын, мой друг?
– Да.
– Сколько ему?
– Уже семь лет.
– Вот вы, мой друг, действительно счастливый человек.
– Я?
– Да, вы. Вы молоды, в два раза моложе меня, и имеете наследника. А я старая бесплодная смоковница.
– Неужели у вас нет сына, ваше величество?
– Нет, мой друг, ни сына, ни дочери, – вздохнул Вильгельм. – И жены нет.
– Как? – удивился Пётр.
– Вот так, мой друг. Жена моя Анна умерла два года назад, и остался я один как перст.
– Но можно ж ещё было б.
– В вашем возрасте, мой друг, можно б было, но не в моём уже. Мне пора к встрече с Всевышним готовиться, ответ держать.
– Да, – сочувственно вздохнул Пётр и умолк.
Петру и впрямь стало жалко старика, и он не знал, как это выразить да и нужно ли выражать. Вильгельм Оранский, известный прославленный воин, ещё оскорбится этим сочувствием.
Поймав взгляд Петра, скользнувший по картинам, висевшим на стенах, король спросил:
– Вам нравятся картины?
– Да как сказать, – пожал Пётр плечами. – Вроде ничего.
И тут взгляд его упал на какой-то механизм, стоявший на столике в углу кабинета.
– Что это за прибор? – спросил Пётр.
– Это механизм для определения направления и силы ветра.
– Да? – Пётр вскочил и направился туда. – Вот это интересно.
Вильгельм, поднявшись с дивана, пошёл следом за гостем. И стал объяснять несложное устройство:
– Вот видите, эти неподвижные штанги указывают стороны света.
– Да, да, да. А вот эти короткие – промежуточные румбы, – догадался Пётр.
– Совершенно верно. И когда дует ветер, вот эти оперения поворачивают стрелу навстречу ему.
– Так, так. – Пётр повертел прибор. – Это очень интересно. Ворочусь домой, обязательно сделаю такой же. Эту деталь выточу на токарном, эту откую в кузнице. Всё, ваше величество, я запомнил. Сделаю такой же обязательно.
– Я верю, – усмехнулся снисходительно король. – Мне говорили, что вы владеете многими ремёслами.
– Да. А разве это плохо?
– Ничуть, мой друг, ничуть. Но для монарха, увы, не это главное. Не это, мой друг.
– Я понимаю, что вы имеете в виду, ваше величество. Но это если у вас в стране отличные строители, моряки, мастера. А если у меня нет ни того, ни другого, что прикажете делать? Как я могу заставлять подданных строить корабль и плавать на нём, если сам не овладею и его постройкой, и управлением на море? Нет. Я считаю, сперва я должен освоить мастерство, а потом уж и требовать этого же с подданного. А он возьмёт да и скажет: «А сам-то умеешь ли?» Что я отвечу?
Вильгельм улыбнулся, слушая своего юного гостя, в глубине души завидуя ему, его молодости, любознательности. И одновременно осуждая: «Какой же он царь? Матрос! Плотник! Но только не монарх».
Уже Пётр с бургомистром готовились отъезжать, стояли у кареты, когда Витзена потребовали к королю.
– Я вас очень прошу, господин директор, всюду сопровождать его. Этот молодой человек завидно любознателен. Удовлетворяйте его любопытство насколько возможно, пожалуйста, – сказал Вильгельм.
– Хорошо, ваше величество.
– Когда его посольство намерено отправляться в Гаагу и приступать к переговорам?
– Наверно, где-то в сентябре.
– А в чём задержка?
– В нём же.
– Не понял вас.
– Ну, послы хотят дать ему от души потрудиться на верфи.
– A-а, – улыбнулся Вильгельм. – Ну что ж, ладно. Пусть трудится. Вы думаете, у них получится корабль?
– А как же, ваше величество. Мастер Поль ими доволен, говорит, что построят раньше срока.
– Ну что ж, дай Бог, дай Бог. Вы свободны, Витзен. Езжайте. Не забудьте о моей просьбе, пожалуйста.
15
Драка в харчевне
Из Архангельска и Холмогор прибыло ещё пополнение русских учеников для изучения «морского хода». Их было двадцать три человека, все незнатных фамилий, но они обрадовали Петра тем, что прибыли в Амстердам морем, а главное, в пути были не просто пассажирами, а матросами.
– Эти хлеб даром есть не будут, – говорил о них Пётр с удовольствием.
Оно и действительно, все они были из поморов, море для них было не в диковинку, и в Амстердаме им предстояло усвоить только голландские приёмы мореплавания. Некоторые из них встали на квартиры у голландцев, но большинство жило в палатках, разбитых у русского посольского двора. Кормовое содержание получали от посольства, но поскольку деньги были невелики, многие из них подрабатывали – портняжили, скорняжили.
Таким образом, с приездом поморов в нашем полку прибыло. А потому ближайшая от посольского двора харчевня не бедствовала, имея таких молодых и прожорливых посетителей. Ели они всё, что подавали, а в воскресные дни и пили вполне исправно, нередко упиваясь до бесчувствия, что среди русских считалось делом обычным.
Господин бомбардир сие не осуждал, потому как и сам был в свободное время привержен Ивашке Хмельницкому, как изящно именовал он попойки, о которых регулярно мимоходом сообщал своим московским корреспондентам даже в деловой переписке, получая и от них обстоятельные отчёты о выкрутасах Мельницкого в Москве.
И вот в один воскресный день среди перепившихся русских волонтёров и солдат началась в харчевне драка. После того как прозвучал известный клич: «Наших бьют!» – она переросла в мамаево побоище. А поскольку там все были «наши», то нейтральных не случилось. Изрядно досталось и хозяину харчевни, пытавшемуся спасти посуду и мебель от погрома. Даже окна не уцелели.
Господин бомбардир узнал о случившемся в своей клетушке в домике канатного мастера, где корпел над чертежами фрегата, намечая работу на понедельник. И поскольку запахло международным скандалом, так как харчевня была амстердамская – не московская, Пётр тут же отправился на место побоища.
Хозяин харчевни с синяком под глазом и с шишкой на лбу всё допытывался у верзилы-бомбардира:
– А за что меня? А? Я-то чем виноват?
Бомбардир знал, чем виноват голландец (не лезь под горячую руку), но более отмалчивался, осматривая «поле битвы» и в уме прикидывая, в какую копеечку это влетит Великому посольству. И поскольку он не привык откладывать никаких дел, тут же приступил к расследованию, по-московски – к розыску.
Помогал ему Адам Вейде[43]43
Адам Вейде (1667—1720) – военачальник, генерал от инфантерии. В 1696—1697 гг. изучал военное и морское дело во Франции, Австрии и Англии. В 1698 г. составил воинский устав, который в течение нескольких лет служил руководством в русской армии.
[Закрыть], в силу своего офицерского звания не опустившийся до злополучной харчевни, а потому бывши трезв, как и сам бомбардир. Адам притаскивал очередного участника потасовки, которому рассвирепевший Пётр задавал один и тот же вопрос:
– Кто начал?
И хорошо, что бомбардир пошёл по свежему следу, не дав протрезветь драчунам. Отложи он розыск до понедельника, вряд ли нашёл бы концы. У пьяных язык не на привязи, таиться не умеют.
Всё сходилось на том, что начал архангелогородец Агафон Кокорин, «врезавший» сразу двум – Ваське Золотарёву и Митьке Лучину. Те на него «вдвох», а это «рази по правилам»? Поскольку за Агафона вступились земляки, то и московские не отстали. С того и пошло.
Уже ночью, при свечах, предстал перед Петром главный виновник Агафон. Бомбардир уже несколько поостыл и, зная поморов как людей обстоятельных и серьёзных, начал догадываться, что Кокорин не напрасно «врезал» сразу двум москвичам. Поэтому начал издали:
– Ты откуда сам, Агафон?
– Холмогорский я, господин бомбардир, – налегая на «о», отвечал Кокорин.
– Хорошие у вас места, – сказал Пётр.
– Хорошие, – согласился Агафон.
– И люди тоже хорошие.
– Тоже хорошие, – подтвердил Кокорин.
Далее оказалось и море «хорошее», и зима, и бури, и промысел, и рыба, всё «хорошее». Пётр уже прикидывал в уме, сколько плетей всыпать этому «хорошему» Агафону, но решил полюбопытствовать:
– А за что ж ты, хороший человек, избил двух своих хороших товарищей?
– За дело, господин бомбардир. Да и какие они мне товарищи?
– И всё же, за что ж ты избил их, Агафон?
– Не избивал я их, господин бомбардир.
– Целовал?
– Ещё чего? Я их взял за шкирки и лбами стукнул: не турусьте что не надо.
– Что они турусили?
– Царь, мол, наш не делом занят. Честь, мол, свою царскую роняет, топором махая, вместо того чтоб на троне сидеть.
– Ага, – прищурился хищно Пётр, и голова его дёрнулась. – Так ты их за это?
– За это, господин бомбардир, истинный Христос. За тебя обидно стало. Экие шкентеля на грот тявкают.
Петру особенно поглянулась последняя фраза холмогорца, выдававшая настоящего моряка, сравнившего шкентель с гигантом гротом.
– Ну что ж, правильно сделал, Агафон. Дал бы я тебе золотой за это, да боюсь, завтра вы все харчевни погромите. Ступай.
– Адам, – сказал Пётр Вейде. – Лучина с Золотарёвым оковать, объявить вину и готовить к отрублению головы.
– Как? – поперхнулся Адам Адамыч. – За драку?
– Не за драку, Адам. За поношение царского имени. За это ране на костре сжигали, но мы, чай, не язычники, без огня обойдёмся.
Вейде думал, что бомбардир пошутил, однако ошибся. Назавтра же, в понедельник, распределив волонтёров по работам, Пётр сказал Меншикову:
– Пойдём, Алексаха, выберем подарок князю Ромодановскому.
– Топор, – догадался Меншиков.
– Угадал.
В лавке недалеко от порта, где продавался разный инструмент, попросил у продавца самый большой топор.
– Для чего это господину? – справился продавец.
– Головы рубить.
– Вы серьёзно? – удивился тот.
– Нет, шучу, – отвечал серьёзно Пётр.
– У нас есть только для разделки мяса. Вот на выбор.
Он выложил три топора с широченными лезвиями.
Пётр подержал топоры в руках, взвесил:
– Легковаты. А нет ли чего потяжелее и покрасивее?
– Есть хромированный сверху, но он дорогой.
– Давайте дорогой.
Пётр взял блестящий топор с какими-то знаками, оттиснутыми на нём.
– Как, Алексашка?
– По-моему, хороший подарок. Только наточить надо и топорише подлиннее сладить.
– Ну это мы на верфи быстро сотворим. Сделаем бритву из него.
Весть о том, что Лучина и Золотарёва оковали и что за поношение государя их ждёт обезглавливание, мигом распространилась по посольству и какими-то неведомыми путями достигла ушей бургомистра Витзена. Он приехал на верфь и, отозвав в сторону бомбардира, спросил: правда ли это?
– Да, – отвечал Пётр. – Это наши подданные и должны отвечать за свои деяния.
– Но какое же это деяние, если парни в пьяном виде наболтали глупостей.
– Дорогой Николай Корнеевич, но по нашим законам за хулы на царя смерть полагается. А если богохульство, то и сожжение.
– Пётр Алексеевич, вы ныне в государстве, где без суда нельзя казнить человека. Понимаете?
– Понимаю, Николай Корнеевич, – вздохнул бомбардир. – Но что делать, коли мои люди кроме жесточи ничего не понимают?
– Очень прошу, Пётр Алексеевич, отменить решение. Отрубив здесь без суда головы, вы очень навредите самому себе. С вами многие не захотят знаться, и я в том числе.
– Ладно. Разве, что ради вас. Но вы уж никому не сказывайте о нашем разговоре. Казнить и миловать я сам должен. Пусть потрусятся, ожидаючи топора, портки пообмарают.
Вечером после ужина, когда волонтёры улеглись спать, а Пётр, как обычно, принялся за почту, Ментиков, вошедши со двора, сказал:
– Мин херц, там какой-то татарчонок господина бомбардира видеть хочет.
– Что ещё за татарчонок?
– Да, кажись, из прислуги посольской.
– Зачем я ему?
– Не говорит. Только господину бомбардиру. Может, турнуть? Дня ему мало.
– Ладно. Выйду покурю на воздухе. Послушаю.
Пётр набил табаком трубку, приобретённую уже в Голландии, прикурил от свечи и, попыхивая, вышел на крыльцо.
Там, увидев его в растворе двери, упал у крыльца на колени щупленький паренёк.
– Господин бомбардир.
– Ну что там? Ты чей? Кто?
– Я Курман, господин бомбардир, слуга Василия Золотарёва.
– A-а, этого злыдня, – пыхнул Пётр дымом. – С чем пожаловал?
– Прости его, господин бомбардир, не руби головы. Его срубишь, мне тоже на Москве секир башка будет.
– А тебе-то за что?
– Его отец подьячий, отпуская меня, сказал: за Василия головой отвечаешь.
– Василию, парень, давно пора самому за себя отвечать. Постой, это не тебя ли я велел ему грамоте учить?
– Меня, господин бомбардир, – улыбнулся Курман, обрадовавшись, что Пётр узнал его, не забыл.
– Ну и научил?
– Ещё как научил. Я ему теперь все уроки переписываю.
– Какие уроки?
– А по морским наукам.
– Сегодня писал?
– Писал, господин бомбардир.
– О чём?
– Из каких полотен паруса шьются.
– Так расскажи, из каких? Ты встань, встань, чай, урок отвечаешь, а не милостыни просишь.
Курман встал, отряхнул коленки и, глядя бомбардиру в глаза, начал чеканить:
– Паруса шьются из различной парусины. Толстоту парусины определяет обширность и возвышенность паруса. Самая толстая парусина именуется канифас и употребляется для нижних парусов.
– Для каких? – вставил Пётр вопрос, даже забыв затянуться трубкой.
– Для грота, фока и бизани. Для средних парусов грот-марселя и фор-марселя идёт парусина тонее канифасу и называется карельдук и клавердук, для верхних парусов идёт ещё тонее парусина, называемая брамсельдук.
– Экий ты молодчик, – искренне похвалил Пётр. – И твой Золотарёв сие знает?
– Нет, господин бомбардир. Я это сегодня писал, а он со вчерашнего под караулом.
– Так ты ему всё и пишешь?
– Всё, господин бомбардир, надо ж науку отрабатывать.
– Какую науку?
– Но вы ж сами велели ему меня грамоте учить. Он и выучил. А сюда приехали, сказал: отрабатывай. Я и стараюсь.
Пётр крякнул, спустился с крыльца, сел на верхнюю ступеньку, сказал ласково:
– Сядь-ка, дружок, вот около.
Курман думал, что ослышался, но бомбардир повторил:
– Садись, садись, не съем.
Курман подошёл осторожно, опустился рядом, стараясь не коснуться бомбардира, но тот неожиданно обхватил его за плечи, похлопал дружески.
– Эх, милый Курман, кабы твой бездельник твою голову и сердце имел, – молвил с теплотой, мало ему свойственной. – Как твоя фамилия?
– Курман.
– Это имя, а фамилия как?
– Не знаю, господин бомбардир, сколь помню себя, всегда только Курманом был.
– Тогда решим так, – сказал Пётр. – Будет у тебя фамилия Курманов. Понял?
– Понял, господин бомбардир.
– Имя Курман, фамилия Курманов. А как отца звали? Чтоб уж и отчество было?
– Не помню, господин бомбардир, – молвил виновато татарчонок. – Я не знал его.
– А ладно, – махнул трубкой бомбардир. – Бери моё. От сего дня спросят, отвечай Курман Петрович Курманов. И отныне ты не слуга балбесу Золотарёву Ваське, а полноправный ученик по морскому делу. Передай так и Плещееву, мол, бомбардир велел. Ступай, сынок.
Курман вскочил и уж сделал несколько шагов, Пётр окликнул:
– И ещё. Курманов, ежели кончишь курс на отлично, вернёшься в Россию лейтенантом флота. Это я тебе обещаю.
– Спасибо, господин бомбардир.
– И тебе тоже, друг. Порадовал ты меня. Хоть ты порадовал.