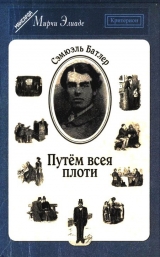
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц)
Глава XVIII
Впервые в жизни Теобальд ощутил, что сделал что-то правильно, и теперь мог ожидать приезда отца без душевного трепета. Старый джентльмен и вправду написал ему в высшей степени сердечное письмо, в котором объявлял о своём желании быть мальчику крёстным отцом – но я, пожалуй, приведу это послание полностью, уж больно хорошо оно выдает своего автора. Вот оно:
«Дорогой Теобальд,
твоё письмо доставило мне истинное и огромное удовольствие, тем более, что я уже приготовился было к худшему; шлю свои сердечные поздравления моей невестке и тебе.
Я с давних пор храню сосуд с водой из Иордана, чтобы крестить в ней моего первого внука, если бы Богу было угодно даровать мне такового. Она была подарена мне моим другом доктором Джонсом. Ты согласишься со мной, что действенность таинства не зависит от источника крещальной воды, и всё же, ceteris paribus[86]86
При прочих равных условиях (лат.).
[Закрыть], к воде Иордана испытываешь некое особое чувство, и презирать его не должно. Такого рода мелочи иногда влияют на весь жизненный путь ребёнка.Я привезу с собой своего повара; я велел ему приготовить всё необходимое к крещальному обеду. Пригласи всех своих лучших соседей, сколько уместится за столом. Да, кстати, я велел Лесьюру НЕ БРАТЬ ОМАРОВ – поезжай сам и купи их у Солтнесса (ибо Бэттерсби располагалась всего в четырнадцати-пятнадцати милях от побережья); там они лучше, по крайней мере, на мой вкус, чем где бы то ни было по всей Англии.
Я кое-что отписал твоему малышу на случай достижения им двадцати одного года. Если у твоего брата Джона так и будут рождаться одни девочки, я, может быть, смогу сделать в будущем что-нибудь ещё, но на мне много обязательств, а я не так богат, как ты, вероятно, воображаешь.
Твой любящий отец,
Дж. Понтифик».
Спустя несколько дней автор вышеизложенного письма явился собственной персоной в извозчичьей пролётке, которая доставила его из Гилденхема, что в четырнадцати милях от Бэттерсби. На козлах рядом с возницей сидел повар Лесьюр, а на крыше и везде, где только возможно, были натыканы корзины с провизией. На следующий день ожидалось прибытие семейства Джона Понтифика, Элайзы и Марии, а также Алетеи, которая вызвалась быть крёстной матерью; ибо раз уж мистер Понтифик решил собрать вместе всё счастливое семейство, то должны явиться все, и все должны быть счастливы, а не то пусть пеняют на себя. На следующий день виновника всей этой суматохи крестили. Теобальд хотел было назвать его Джорджем в честь старого мистера Понтифика, но, как это ни странно, последний это решение отменил в пользу имени Эрнест. Звучащее точно так же слово, означающее серьёзность и честность намерений, тогда как раз входило в моду, и он полагал, что это имя, так же как и крещение в иорданской воде, возымеет непреходящее воздействие на характер ребёнка и поможет ему в критические моменты жизни.
Меня пригласили быть вторым крёстным отцом, и я очень обрадовался случаю снова встретиться с Алетеей, с которой не виделся несколько лет, хотя и постоянно переписывался. С тех самых времён, когда мы вместе резвились в детстве, мы всегда оставались друзьями. Когда, со смертью её деда и бабушки, её связь с Пэлемом прервалась, я продолжал посещать Понтификов, потому что учился с Теобальдом сначала в одной школе, а потом в одном колледже, и с каждой новой встречей любовался Алетеей всё больше, видя в ней самую лучшую, самую добрую, самую умную, самую милую, самую, на мой вкус, красивую из женщин. Приятной внешностью не был обделён ни один из Понтификов; это было семейство породистых, хорошо сложенных людей; но даже среди них Алетея была редкостный цветок – даже в смысле красоты наружной; что же касается всех прочих качеств, делающих женщину привлекательной и желанной, то впечатление было такое, будто весь их запас, предназначавшийся природой всем трём дочерям – и им бы хватило сполна! – весь достался Алетее.
Я не смогу сейчас объяснить, как вышло, что мы с ней не поженились. Сами мы знали это очень хорошо – с читателя пусть будет довольно и этого. Мы с ней в совершенстве понимали и чувствовали друг друга; мы знали, что никаких иных супругов ни у неё, ни у меня никогда не будет. Я делал ей предложение раз десять или двадцать; вот и всё; я сказал достаточно; эта тема отнюдь не представляется мне необходимой для развития сюжета, и более ничего я добавлять не стану. Последние несколько лет кое-какие препятствия мешали нашему общению, так что я её не видел, хотя, как уже сказал, мы часто переписывались. Естественно поэтому, что теперь я был просто счастлив увидеться с ней снова; ей недавно исполнилось тридцать, но в моих глазах она выглядела красивее, чем когда бы то ни было прежде.
Её отец, разумеется, был львом застолья, но, видя, что все мы очень кротки и вполне готовы отдаться на съедение, на нас он не рычал, а рычал просто так. Это было впечатляющее зрелище – как он вставлял салфетку под свои цветущие подбородки, как расправлял её на своём внушительных размеров сюртуке, как отблеск пламени с большого канделябра сиял Вифлеемской звездой на шишке благосклонности его старой плешивой головы.
Суп подали настоящий черепаший; наш старый джентльмен был явно доволен. Гэлстреп стоял за спиной хозяина. Я сидел рядом с миссис Теобальд как раз напротив её свёкра и имел хорошую возможность его наблюдать.
В течение первых десяти минут, которые ушли на суп и на подачу рыбы, можно было бы подумать – если бы мнение о нём у меня давным-давно уже не сложилось, – какой замечательный старик, как должны гордиться им его дети; и вдруг, накладывая себе соус из омаров, он побагровел, лицо его омрачилось до крайней степени, и он незаметно для окружающих бросил два исполненных пламени взгляда в разные концы стола – один на Теобальда, другой на Кристину. Бедняжки, разумеется, поняли, что случилось нечто ужасное, и я тоже это понял, но что именно, догадаться не мог, пока не услышал, как старик зашипел в ухо Кристине:
– Он приготовлен не из самки омара! Что толку, – продолжал он, – называть ребёнка Эрнестом и крестить его в воде из Иордана, если его родной отец не может отличить самца омара от самки!
Это попало и в меня, ибо до самого того момента я и не подозревал, что у омаров бывают самцы и самки, безотчётно полагая, что в делах брачных омары похожи на ангелов небесных и произрастают как бы самопроизвольно из скал и водорослей.
Впрочем, к следующей перемене блюд мистер Понтифик снова впал в благодушное настроение и до самого конца обеда являл себя только в наилучшем виде. Он поведал всем нам о воде из Иордана, как её презентовал ему доктор Джонс наряду с каменными сосудами, наполненными водой из Рейна, Роны, Эльбы и Дуная, и через какие неприятности ему пришлось в связи с этим пройти на таможне, и как он намеревался сделать пунш из всех великих Европейских рек, и как он, мистер Понтифик, спас иорданскую воду, когда её просто хотели вылить в канализацию, и прочая, и прочая.
– Нет-нет, – продолжал он, – это нельзя, понимаете ли, никак нельзя; это просто безбожно; ну, мы и взяли с собой каждый по бутылке, а пунш без неё получился даже лучше. Впрочем, я тут на днях чуть было не лишился моей; пошел за ней в подвал, взять с собой в Бэттерсби, споткнулся там о корзину и упал, и будь я не так ловок, бутылка наверняка разбилась бы, но я её спас. – И всё это время Гэлстреп стоял за его спиной!
Больше ничего такого, что вывело бы мистера Понтифика из равновесия, не случилось, и мы провели дивный вечер, который часто вспоминался мне впоследствии, когда я следил за жизненным путём своего крестника.
Пару дней спустя я наведался туда снова и застал мистера Понтифика всё ещё в Бэттерсби, но прикованного к постели с приступом печени и в депрессии; в последнее время такие приступы случались с ним всё чаще и чаще. Я остался на ленч. Старый джентльмен был раздражителен и несносен; он не мог есть – не было аппетита. Кристина попыталась было ублажить его филейным кусочком бараньей отбивной.
– Как, объясните логически, можно предлагать мне баранью отбивную? – сердито воскликнул он. – Вы забываете, дорогая Кристина, что имеете дело с полностью дезорганизованным желудком! – И он оттолкнул от себя тарелку, надувши губы и насупившись, как старый капризный ребёнок.
Теперь, вооружённый знанием пришедшего после, я понимаю, что мне не следовало усматривать в этом ничего, кроме присущей миру сему болезни роста, расстройства, неотделимого от перемен, которым подвержена человеческая участь. В реальной жизни, полагаю я, и лист осенний не пожелтеет, пока не прервется его подпитка жизненными соками, чтобы сначала он не причинил родительскому древу массу неудобств своим долгим ворчанием и брюзжанием; ну разве не могла природа придумать какой-нибудь менее досаждающий способ вести дела, приложи она к этому толику старания? Почему вообще должны поколения перекрывать друг друга? Почему бы не уложить нас личинками в уютных ячеечках, запелёнутыми в десять-двадцать тысяч фунтов в билетах Английского банка, чтобы мы просыпались, как просыпается болотный слепень, обнаруживая, что его папа с мамой не только подсунули ему под бочок внушительные запасы провианта, но и были съедены ласточками за несколько недель до того, как ему предстояло начать самостоятельную сознательную жизнь.
Спустя года полтора счастье изменило приходскому дому в Бэттерсби – миссис Джон Понтифик благополучно разрешилась мальчиком. Спустя ещё примерно год Джорджа Понтифика хватил апоплексический удар, как когда-то его мать – только он не дожил до её лет. Когда вскрыли завещание, выяснилось, что первоначально назначенная Теобальду сумма в 20 000 фунтов (сверх того, что было отписано ему и Кристине при их свадьбе) была урезана до 17 500, когда мистер Понтифик отписал «кое-что» Эрнесту. Это «кое-что» оказалось двумя с половиной тысячами фунтов, предназначенными в рост в надёжных руках попечителей. Вся прочая собственность отходила к Джону Понтифику, за вычетом 15 000 фунтов для каждой из его сестер – сверх тех пяти тысяч, что каждая унаследовала от матери.
Итак, отец сказал Теобальду правду, но не всю правду. И всё же, какое право тот имел жаловаться? Ну конечно, это довольно сурово, когда тебе дают повод полагать, что ты и твоё потомство получите наследство, и пожинают честь и славу такой щедрости, а сами в то же самое время практически вытаскивают деньги из твоего собственного кармана. С другой стороны, отец, конечно, возразил бы, что никогда не обещал Теобальду вообще чего бы то ни было; что он имеет полное право распоряжаться своими деньгами, как ему заблагорассудится; что если Теобальду хочется питать необоснованные надежды, то при чём тут он, Джордж Понтифик; что на самом деле он обеспечил его весьма щедро; а взявши 2500 фунтов из теобальдовой доли, он всё же оставлял их теобальдову же сыну, что в конечном итоге одно и то же. Никто не станет отрицать, что завещатель был совершенно в своём праве; и всё же, читатель согласится со мною, Теобальд и Кристина, знай они все обстоятельства, вряд ли сочли бы крещальный обед таким уж удачным.
Мистер Понтифик при жизни установил в элмхерстской церкви памятник своей жене (мраморную плиту с урнами и херувимами, похожими на побочных детей короля Георга IV[87]87
Король Англии и Ирландии с 1820 по 1830 гг. Отличался разнузданностью нрава и расточительностью.
[Закрыть], и со всеми прочими причиндалами), внизу которого, под эпитафией жены, оставил место для своей собственной. Не знаю, написал ли его эпитафию кто-то из его детей или они попросили об этом какого-то друга, но не думаю, чтобы сквозящая в ней сатира входила в намерения автора. Я думаю, что намерением автора было показать, что только Судный день, и ничто иное, может явить миру, каким хорошим человеком был покойный Джордж Понтифик; впрочем, поначалу мне трудно было отделаться от мысли, что там всё не так просто.
Эпитафия начинается с дат рождения и смерти; потом сообщается о том, что покойный много лет был главой фирмы «Ферлай & Понтифик», а также постоянным жителем Элмхерста. Ни слова похвалы, ни слова порицания. Последние слова таковы:
НЫНЕ ОН ПОКОИТСЯ В ОЖИДАНИИ
РАДОСТНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ
В СУДНЫЙ ДЕНЬ.
ЧТО ОН БЫЛ ЗА ЧЕЛОВЕК,
ТОТ ДЕНЬ ПОКАЖЕТ.
Глава XIX
А мы, пока суд да дело, можем сказать вот что: доживши почти до семидесяти трёх лет и умеревши богатым, он, надо полагать, состоял с окружающим в отношениях совершенной гармонии. То и дело приходится слышать, что жизнь такого-то и такого-то человека была ложью – но ничья жизнь не может быть сплошной ложью; коли уж она продолжается, она должна быть – в худшем случае – на девять десятых правдой.
Жизнь мистера Понтифика не только продолжалась долго, но и была вполне обеспеченной до самого конца. Чего же больше? Пребывая в мире сём, не самая ли это очевидная наша задача – взять от него всё лучшее, наблюдать, что в нём по-настоящему способствует долгой жизни и комфорту, и поступать соответственно? Все животные, кроме человека, знают, что главное дело жизни – наслаждаться ею, и наслаждаются – в той мере, в какой человек и все прочие окружающие обстоятельства им это позволяют. Лучше всех прожил свою жизнь тот, кто сполна насладился ею; Бог сам позаботится о том, чтобы это наслаждение не было чрезмерно, нам во вред. Если в чём и можно упрекнуть мистера Понтифика, так это в том, что он не постарался есть и пить поменьше; тогда он меньше страдал бы печенью и, возможно, прожил бы на год-другой дольше.
Добродетель – ничто, если она не нацелена на старость и на обеспечение достатка. Я говорю в самом широком смысле, и exceptis excipiendis[88]88
За исключением того, что следует исключить (лат.).
[Закрыть]. Псалмопевец говорит: «Праведники не терпят нужды ни в каком благе»[89]89
Смешение цитат. В Пс 33:11 – «…ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе», а в Притч 13:25 – «Праведник ест до сытости».
[Закрыть]. Либо это просто поэтическая вольность, либо из этого следует, что тот, кто терпит нужду в каком-нибудь благе, не праведник; следуя той же логике, можно предположить, что тот, кто прожил долгую жизнь, не терпя нужды ни в каком для себя благе, и сам, с практической точки зрения, довольно-таки благ.
Мистер Понтифик никогда не терпел нужды ни в чём, чего ему сильно хотелось. Правда, он мог быть ещё счастливее, если бы ему хотелось чего-нибудь из того, чего ему не хотелось, но соль-то как раз в этом «если бы хотелось». Все мы грешны тем, что не доставляем себе столько комфорта, сколько могли бы без особого труда; но в данном конкретном случае, мистеру Понтифику просто не хотелось, и он ничего особенного не приобрёл бы, получив то, чего ему не требовалось.
Нет ничего хуже, чем метать свинство перед человеками, приукрашивая добродетель утверждениями, будто бы её истинное начало недостаточно хорошо, чтобы быть в ней самой, будто у неё должна быть некая родословная, которую наши, так сказать, духовные герольды выводят из чего-то такого, к чему она не имеет никакого отношения. Истинная родословная добродетели древнее и почтеннее всего, что только возможно для неё изобрести. Она происходит из человеческого опыта в части собственного благополучия – и пусть это не вполне непогрешимо, но это наименее «погрешимо» из всего, что у нас есть. Если система способна устоять только на лучшем фундаменте, чем этот принцип, то она уже имеет в себе такую встроенную нестабильность, что однажды опрокинется и упадёт, на какой бы пьедестал мы её не вознесли.
Мир давным-давно признал, что нравственность и добродетель суть то, что в конечном итоге приносит человеку мир. «Будь добродетелен, – твердят учебники, – и будешь счастлив». Так и есть; и если какая-то общепризнанная добродетель нас в этом смысле часто подводит, то она на самом деле – лишь замаскированный порок, а если общепризнанный порок не причиняет человеку в его преклонные годы серьёзного вреда, то не так страшен этот порок, как его малюют. К сожалению, хотя мы все одного мнения по главному вопросу, именно же, что добродетель есть то, что имеет тенденцию приносить счастье, а порок – то, что оборачивается скорбью, мы не столь единогласны в деталях, скажем, в вопросе о том, имеет ли каждый конкретный образ действий – ну, скажем, курение – тенденцию приносить счастье или наоборот.
Исходя из моих собственных скромных наблюдений, я заключаю, что очень большая доля бездушия и эгоизма, проявляемых родителями по отношению к детям, обычно не влечёт за собой дурных последствий для родителей. Они могут омрачить жизнь своих детей на много лет вперёд, сами не понеся при этом ни малейшего ущерба. Поэтому я бы сказал так: если родители делаются в известных пределах причиной того, что их детям жизнь становится в тягость, то с их стороны это не такое уж страшное отклонение от нравственных норм.
Принимая во внимание, что мистер Понтифик не был очень возвышенным характером, скажем, что от обычных людей не требуется, чтобы они обладали очень возвышенным характером. Довольно с нас того, что наши нравственные качества и умственные способности – такие же, как у «основной части» «усреднённого» человечества – иными словами, средние – или посредственные?
Это в самой сущности вещей – что богачи, доживающие до старости, должны быть посредственных нравственных качеств. Почти все величайшие и мудрейшие мужи человечества на поверку окажутся в этом смысле самыми посредственными – то есть лучше других держащимися посередине между эксцессами добродетели и эксцессами порока. Если бы это было не так, они вряд ли добились бы процветания, а учитывая, как много людей вообще терпят полный крах, можно считать немалым достижением, если человек был при жизни не хуже своих ближних. Гомер рассказывает нам о некоем человеке, который поставил делом своей жизни aien arhoteuein kai upeirhochon emmenai allon[90]90
Цитата из Гомера не совсем точна – слова arhoteuein в греческом языке нет, есть aristmein.
[Закрыть] – превосходить во всём всех и вся. Воображаю, что это была за нудная, несносная личность! Вообще-то герои Гомера обыкновенно плохо кончают, и я совершенно не сомневаюсь, что к плохому концу раньше или позже пришёл и этот джентльмен, кто бы уж он там ни был.
Очень высокий нравственный уровень подразумевает, кроме того, обладание редкими достоинствами добродетели, а редкие достоинства сродни редким растениям или животным – видам, оказавшимся неспособными поддерживать на земле свой род. Чтобы добродетель была практически применима, она, как золото, должна быть с примесью менее благородного, но более износоустойчивого металла.
Принято разделять добродетель и порок, как если бы это были две абсолютно разные и не соприкасающиеся друг с другом вещи. Но это не так. Нет полезной добродетели, не сплавленной с капелькой порока, и, пожалуй, ни единого порока, не приправленного щепоткой добродетели; добродетель и порок – это как жизнь и смерть, или как дух и материя: ничто не может существовать без некоторой поправки со стороны своей противоположности. Самая абсолютная жизнь содержит в себе смерть, а труп продолжает во многих отношениях оставаться живым организмом; и также сказано: «Если Ты, Господи, будешь вне всякой меры замечать беззакония»[91]91
В Пс 129:3 говорится: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, – Господи! кто устоит?».
[Закрыть], то есть самые высокие из вообразимых идеалов допускают компромисс с пороком, достаточный для сохранения хорошей мины при плохой игре эпохи, если игра не заходит слишком далеко. То, что порок приходит на поклон к добродетели, известно давно; мы зовём это лицемерием; хорошо бы изобрести название поклону, на который добродетель нередко приходит, или должна была бы, будь она помудрее, приходить к пороку.
Я допускаю, что кто-то сочтёт счастьем обладание моральными качествами, которые считаются выше всех прочих. Но тогда, если воплощать их в жизнь, они должны довольствоваться добродетелью как благом в самом себе и не ворчать, когда возвышенное донкихотство оказывается слишком дорогим удовольствием, за которое воздастся в царстве не от мира сего. Им не следует удивляться, если, пытаясь и на земле погулять, и в рай попасть, они окажутся фигурами довольно жалкими. Мы можем сколько угодно не верить тем или иным подробностям из рассказов о путях христианства, но огромная часть христианского учения останется для нас столь же истинной, как если бы мы принимали всё до мельчайших деталей. Нельзя служить Богу и маммоне; узок путь и тесны врата, ведущие к тому, что живущие верою почитают «единым на потребу»[92]92
Единственным стоящим обретения (церк. – слав.). Ср. Лк 10:42.
[Закрыть], и сказать об этом лучше, чем сказала Библия, невозможно. Хорошо, что существуют люди, так думающие, как хорошо и то, что в бизнесе существуют спекулянты, постоянно обжигающиеся на своей коммерции, – но отнюдь не хорошо, чтобы большинство сходило с «усреднённого», пробитого пути.
Для большинства людей в большинстве обстоятельств удовольствие – осязаемые материальные блага мира сего – суть самое надёжное мерило добродетельности. Прогресс всегда достигается через удовольствие, а не через крайние и острые проявления добродетели, и самые добродетельные скорее склоняются к излишествам, чем к аскетизму. Применяя снова ту же метафору, бизнес, скажу, что конкуренция стала такой жёсткой, а процент прибыли так сильно урезан, что добродетель уже не может себе позволить упустить хоть какой-то реальный шанс и должна рассчитывать свои действия, целя на получение прибыли из конкретных сделок, а не из публикации броских рекламных проспектов. Поэтому она не станет пренебрегать, как пренебрегают многие, в других аспектах расчётливые и экономные люди, тем важным фактором, что у нас есть шанс избежать разоблачения, или что мы хотя бы умрём до того, как нас разоблачат. Разумная добродетель оценит этот шанс ровно по достоинству, не выше и не ниже.
Удовольствие, в конечном итоге, – более надёжный ориентир, чем праведность или долг. Ведь как бы трудно ни было узнать заранее, что принесёт нам удовольствие, распознать правду и долг часто ещё труднее, а, допустив при этом последнем распознании ошибку, мы попадём в столь же плачевное положение, как и в случае ошибочного мнения по части удовольствия. Когда человек обжигается, преследуя удовольствие, он осознаёт свою ошибку и понимает свою неправоту легче, чем когда он обжигается, исполняя воображаемый долг или следуя надуманной идее о праведной добродетели. Ведь когда дьявол рядится в ангельские одежды, разоблачить его может только специалист высшего качества, а маскируется он так часто, что быть застигнутым при разговоре с ангелом становится вовсе не безопасно, и потому рассудительный человек преследует удовольствие, ориентир пусть скромный и невидный, но зато более общепринятый и, считая на круг, куда более надёжный.
Но вернёмся к мистеру Понтифику. Мало того, что он жил долго и процветал, – он ещё и оставил многочисленное потомство, которому передал не только свои физические и умственные качества, причём с большими, чем это обычно случается, модификациями, но также и такие характерные черты, которые передаются потомству не столь легко, – я имею в виду его финансовые характеристики. Могут сказать, что он обрёл их сложа руки, позволяя деньгам, так сказать, наплывать на него, но ведь на скольких людей деньги наплывают точно так же, а они их Fie берут, или берут на какое-то время, но не умеют с ними ужиться, чтобы деньги через них достигали их потомства! А мистер Понтифик умел. Он сохранил то, что он, скажем так, заработал, а ведь деньги – это как репутация: легче приобрести, чем сохранить.
Итак, говоря в общем и целом, я не склонен быть к нему таким суровым, каким был мой отец. Суди мы о нём по сколько-нибудь высоким стандартам – и он пустое место. Суди мы о нём по стандартам обычным, усреднённым – и мы не обнаружим в нём особого порока. То, что я сказал в этой главе, я сказал раз навсегда, и прерывать нить своего повествования, чтобы повторять это снова, не стану. Пусть это будет молчаливым свидетельством в поправку к скороспелому вердикту, который читателю захочется вынести в отношении не только мистера Джорджа Понтифика, но и Теобальда с Кристиной. А теперь я продолжу мой рассказ.








