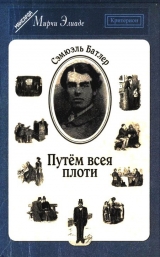
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 37 страниц)
Глава LXXXVI
И теперь я должен завершить свою повесть.
Предыдущая глава была написана вскоре после описываемых в ней событий, то есть весной 1867 года. К тому времени повесть моя была написана до этого места; с тех пор, впрочем, я время от времени вносил изменения то там, то сям. Сейчас осень 1882 года, и если мне ещё есть что добавить, то лучше поспешить, ибо мне уже восемьдесят, и хотя я в добром здравии, мне не скрыть от себя того факта, что я уже не молод. Уже и Эрнесту сорок семь, хотя он на столько не выглядит.
Он сейчас богаче, чем когда бы то ни было, ибо так и не женился, а его акции компании «Лондон энд Норт-Уэстерн» почти удвоились в цене. Просто в силу неспособности целиком тратить свои доходы, он вынужден был, в порядке самозащиты, копить. Он по-прежнему живёт в Темпле, в тех самых комнатах, что я снял для него, когда он закрыл свой магазин; никому так и не удалось уговорить его завести себе дом. Его дом, говорит он, там, где есть хороший отель. Когда он в городе, он предпочитает сидеть тихо и работать. Когда он в отъезде, он не чувствует потребности тревожиться об оставленном позади и не любит быть привязанным к одному месту. «Мне неведомы исключения из правила, – говорит он, – что дешевле покупать молоко, чем держать корову».
Коли уж я упомянул миссис Джапп, то отчего бы не досказать, что уж там осталось. Ей сейчас очень много лет, но никто из ныне живущих, говорит она торжествующе, не может сказать, сколько именно, ибо женщина с Олд-Кент-Роуд уже умерла и, надо так считать, унесла эту тайну с собой в могилу. Но при всём своём преклонном возрасте она по-прежнему живёт в том же самом доме и с немалым трудом сводит концы с концами, что, впрочем, её, по-моему, не слишком удручает и, к тому же, не позволяет ей пить лишнего. Бесполезно пытаться сделать для неё что-нибудь больше, чем выплачивать ей еженедельное пособие, но ни в коем случае не авансом. Каждую субботу она закладывает свой утюг за 4 пенса, а в понедельник утром, получив пособие, выкупает обратно за 4 с половиной; она проделывает это на протяжении последних десяти лет с регулярностью календаря. Пока она не позволяет утюгу уйти с концами, мы можем быть уверены, что она с помощью каких-нибудь там шахер-махеров справится со своими финансовыми затруднениями, и пусть себе справляется. Если же положение утюга окажется безнадёжным, то мы будем знать, что пора вмешаться. Не знаю почему, но есть в ней что-то такое, что всегда напоминает мне женщину, с которой у неё так мало сходства, как только может быть между двумя людьми, – мать Эрнеста.
Последний раз мы с нею хорошо поболтали года два назад, когда она пришла ко мне, а не к Эрнесту. Она рассказала, что, уже подойдя к крыльцу, увидела подъехавший к дому кеб, из окна которого высунул свою старую чёртову башку папаша мистера Понтифика, и вот она пришла ко мне, потому как шнурки не успела погладить для реверансов с такими, как он. Она стала жаловаться на невезение. Постояльцы обращаются с ней так мерзко, съезжают, не заплатив и не оставив за собой не то что пряника – кнута, хотя, впрочем, сегодня ей пряник таки перепал – сегодня она так славно пообедала, целый кус ветчины с зелёным горошком. Она даже поплакала над таким обедом, но она ведь такая глупая, такая глупая.
– И потом, этот Белл, – продолжала она, и я не смог уловить и намёка на связь с предыдущим, – эдак кто угодно расстроится, посмотреть, как он зачастил в церковь, мол, его матушка готовится встретиться с Иисусом и всё такое, и вот на тебе, ничего она такое помирать не собирается, а по полбутылки шампанского в день выдувает, а потом Григг, ну, вы знаете, который проповедует, спрашивает Белла, правда, мол, какая я весёлая, ну, не то, конечно, как в молодости, а тогда мне плевать было, я любого гуляку на Холборне могла умыть, да меня ещё и сейчас если бы приодеть, да если б зубы были, так я ого-го! Я потеряла бедняжку Уоткинса, но тут уж, конечно, ничего не поделаешь, и потом, я потеряла мою дорогую Розу. Дура старая, надо ж, поехала кататься в карете, ну и подхватила бронхитик. Кто б мог подумать, я ещё поцеловала бедняжку Розу в Пассаже, и она мне купила свининки, кто бы мог подумать, что я её больше не увижу, и её друг, настоящий джентльмен, он тоже её любил, человек женатый. Я так думаю, от неё уж теперь ничего не осталось. Вот встала бы из могилы и увидела б мой больной палец, то-то бы заплакала, а я бы ей – не волнуйся, лапа, я в порядке. Батюшки, опять дождь собирается. Как я ненавижу, когда сыро в субботу вечером – эти бедняжки в своих белых чулочках, и надо зарабатывать на жизнь… – и прочая, и прочая.
И всё же годы не властны над этой безбожной старой греховодницей, как должно было бы ожидать по всем понятиям. Какую уж там жизнь она ни вела, для неё она в высшей степени подходит. По временам она отпускает нам намёки, что всё ещё в большом спросе; иногда же говорит в совсем другом тоне. Последние десять лет она даже самому Джо Кингу не позволяет хотя бы даже губами к своим губам прикоснуться. Нет уж, баранья котлета и то лучше.
– Ого-го, вы бы меня видали в мои золотые семнадцать! Я была паинькой у моей бедняжки мамы, а уж она была красотка, хотя мне нельзя такое говорить. Полный рот зубов, да каких. Позор какой, пришлось так и хоронить её в таких зубах.
Я знаю только одно, что её шокировало – то, что её сын Том и его жена Топси учат своего младенца ругаться.
– О, это жуть какая-то кошмарная, – воскликнула она. – Я даже не знаю, что эти слова значат, но я ему прямо сказала, что он пьянь синерылая.
На самом деле, я подозреваю, что старушке всё это скорее по душе.
– Постойте-ка, миссис Джапп, – сказал я, – ведь женой Тома была не Топси, вы, помнится, называли её Фиби?
– Ну да, – отвечала она, – но Фиби плохо себя вела, и теперь это Топси.
Эрнестова дочь Алиса немногим более года тому назад вышла замуж за друга своего детства. Эрнест дал им всё, что они захотели, и много больше. Они уже подарили ему внука, и я не сомневаюсь, что подарят ещё не одного. Джорджи в свои двадцать один уже владеет отличным пароходом, который купил ему отец. Лет в четырнадцать он начал ходить на баркасе со стариком Роллингсом и Джеком от Рочестера к верховьям Темзы; потом отец купил ему и Джеку по собственному баркасу, потом по паруснику, потом по пароходу. Я не очень хорошо знаю, как люди зарабатывают деньги, имея пароходы, но он всё делает, как там принято, и, судя по всему, это приносит ему хороший доход. Лицом он очень похож на своего отца, но без искры – насколько я могу судить – литературного таланта; у него неплохое чувство юмора и здравого смысла в изобилии, но его внутреннее чутьё очевидно практического свойства. Я не уверен, кого он больше наводит мне на память – Эрнеста или Теобальда, если бы тот был моряком. До смерти Теобальда Эрнест дважды в год ездил погостить к нему в Бэттерсби, и у них наладились отличные отношения, несмотря на то, что соседское духовенство именовало «ужасающими книгами, которые написал мистер Эрнест Понтифик». Может статься, что гармония, или скорее отсутствие диссонанса между ними поддерживало то обстоятельство, что Теобальд ни разу не заглянул ни в одну из работ сына, а Эрнест, разумеется, ни разу не упомянул о них в присутствии отца. Отец с сыном, как я сказал, прекрасно ладили, но при этом факт остаётся фактом – Эрнестовы посещения были непродолжительными и не слишком частыми. Один раз Теобальд высказал пожелание, чтобы Эрнест привёз детей, но тот знал, что им это не понравится, и не привёз.
По временам Теобальд приезжал в город по каким-то своим делам, и тогда он заглядывал на квартиру к Эрнесту; обычно он привозил с собой пару пучков салата, или кочан капусты, или пяток репок, упакованных в оберточную бумагу; он знает, говорил он Эрнесту, что в Лондоне трудно найти свежие овощи, вот он и привёз. Эрнест много раз объяснял ему, что овощи ему ни к чему, и привозить их не надо, но Теобальд настаивал, из чистого, полагаю, упрямства и желания сделать что-то вопреки желаниям сына, но при этом слишком мелкое, не достойное его внимания.
Примерно год назад его нашли мёртвым в своей постели; накануне он написал сыну следующее письмо:
«Дорогой Эрнест,
мне не о чем особенно тебе писать, но твоё письмо уже много дней лежит в преисподней неотвеченных писем, то бишь, в моём кармане, и пора бы уже мне на него ответить.
Я на диво здоров и могу с удовольствием пройти свои пять-шесть миль, но в моём возрасте никогда не знаешь, сколько ещё это протянется, а время летит быстро. Всё утро я сажал огород, но после обеда задождило.
Что собирается это кошмарное правительство делать с Ирландией? Не могу сказать, что я желал бы, чтобы они пустили на воздух мистера Глэдстоуна[282]282
Премьер-министр Уильям Глэдстоун был сторонником самоуправления Ирландии.
[Закрыть], но если какой-нибудь дикий бык его там забодает, и он никогда не вернётся, я не стану о нём жалеть. Лорд Хартингтон[283]283
Точнее, «маркиз Хартингтон» – Спенсер Кавендиш, лидер либеральной оппозиции в палате общин.
[Закрыть] не совсем тот человек, которым я хотел бы его заменить, но он был бы неизмеримо лучше Глэдстоуна.Мне невыразимо не хватает твоей сестры Шарлотты. Она вела дом, и я мог излить ей все свои мелкие огорчения, а теперь, когда Джои тоже женат, я уж и не знаю, что бы делал, если бы он или она не приходили время от времени и не ухаживали за мной. Моё единственное утешение – что Шарлотта сделает своего мужа счастливым и что он достоин её, как может муж быть достоин своей жены.
Твой любящий, поверь мне, отец,
Теобальд Понтифик».
Замечу мимоходом, что хотя Теобальд говорит о замужестве Шарлотты как о событии недавнем, на самом деле оно произошло лет за шесть до того, и было ей тогда около тридцати восьми, а мужу её – лет на семь меньше.
Было очевидно, что Теобальд мирно скончался во сне. Можно ли сказать о человеке, умершем так, что он вообще умер? Он явил феномен смерти окружающим, да, но в отношении себя самого он не только не умер, но и не думал, что собирается умирать. Это не более чем полусмерть; впрочем, и жизнь его была не более чем полужизнью. Он являл так много феноменов жизни, что в целом, надо полагать, будет логически менее затруднительно считать, что он жил, чем не родился вовсе, но это возможно только потому, что ассоциативное мышление менее строго следует букве, чем логическое.
Впрочем, общий глас о нём был не таков, а общий глас часто бывает справедливейшим.
Эрнеста завалили соболезнованиями и выражениями почтения к памяти отца.
«Он никогда, – писал доктор Мартин, тот самый, что доставил Эрнеста в сей мир, – не сказал ни о ком дурного слова. К нему не просто благоволили, но его любили все, кто имел с ним дело».
«С таким кристально честным и праведного поведения человеком, писал семейный адвокат, – мне никогда не приходилось иметь дело, ни также с более пунктуальным в исполнении любого делового обязательства».
«Нам будет прискорбно его не хватать», – написал епископ к Джои в письме, выдержанном в самых тёплых выражениях. Бедняки пребывали в оцепенении. «Никто не вспоминает о колодце, пока он не пересохнет», – сказала одна старушка, выразив этим всеобщие чувства. Эрнест знал, что все горевали вполне искренне – как о потере, которую нелегко возместить. Он чувствовал, что в хоре воздающих дань усопшему звучали лишь три неискренних голоса, и это были те самые голоса, от которых менее всего можно было бы ожидать недостатка скорби. Это были голоса Джои, Шарлотты и его собственный. Он укорял себя за то, что мог оказаться единодушным хоть с Джои, хоть с Шарлоттой по какому бы то ни было предмету, и радовался, что в данном случае должен изо всех сил скрывать это единодушие; дело было не в том, что сделал ему в жизни отец – эти обиды за давностью лет уже и не помнились, – просто отец пресекал те сыновние чувства, какие он всегда старался в себе лелеять. Пока общение между ними шло на уровне самых простых общих мест, всё было хорошо, но стоило ему отклониться даже на малую толику, он неизменно ощущал, как отец инстинктивно становился на позиции, прямо противоположные его собственным. Когда его ругали, отец всячески поддакивал всему, что говорили противники. Когда он наталкивался на препятствие, отец бывал откровенно доволен. Отзыв старого врача – что Теобальд никогда не сказал ни о ком дурного слова, – был абсолютной правдой в отношении всех, кроме самого Эрнеста, и он очень хорошо знал, что никто в мире так не повредил его репутации – тихой сапой и в той мере, в какой смел, – как его родной папа. Это весьма общее явление и весьма естественное. Часто случается, что если сын прав, то отец не прав, и отец такого положения допускать не собирается и будет препятствовать сыну изо всех сил.
Очень трудно, однако, сказать, что лежало в корне всего этого в данном случае. Это не была тюрьма – Теобальд забыл о ней скорее, чем забыли бы девять отцов из десяти. Отчасти, несомненно, это была несовместимость характеров, но я считаю главным основанием недовольства то обстоятельство, что Эрнест был так независим и так богат, и при этом ещё совсем молод, и оттого старый джентльмен оказался насильственно лишён власти приставать и царапаться, каковую считал своим неотъемлемым правом. Любовь к безопасным для себя мелким издёвкам оставалась частью его натуры с тех времён, когда он кричал няне, что оставит её нарочно, чтобы мучить. Я предполагаю, что это сидит во всех нас. Во всяком случае, я уверен, что большинство отцов, особенно из числа духовенства, – такие же, как Теобальд.
На самом деле, он благоволил Джои и Шарлотте не более, чем Эрнесту, я в этом убеждён. Ему не нравился никто и ничто, а если кто и нравился, то только его дворецкий, который ходил за ним в болезни и очень о нём заботился и считал его лучшим и способнейшим человеком в мире. Продолжал ли сей верный и достойный слуга так думать после того, как вскрыли теобальдово завещание и обнаружилось, какого рода наследство ему досталось, – мне то неведомо. Из всех своих детей единственный, кто, по его разумению, относился к нему, как положено относиться детям, был младенец, умерший в возрасте одного дня от роду. Что до Кристины, то он даже и не притворялся, будто по ней скучает, и никогда не упоминал её имени; это воспринималось как доказательство того, что он так остро ощущает потерю, что вспоминать покойную ему слишком больно. Может, оно и так, да мне что-то не верится.
Имущество Теобальда пустили с молотка, включая «Симфонию Ветхого и Нового заветов», которую он много лет дотошно компилировал, и огромное собрание рукописных проповедей – единственное, по сути дела, что он когда-либо написал. Рукописи вместе с симфонией потянули на девять пенсов за тележку бумаги. Я удивился было, почему Джои не заплатил трёх или четырёх шиллингов, чего хватило бы на всю груду, но Эрнест говорит, что у Джои неприязнь к отцу ещё яростнее, чем у него самого, и он хотел избавиться от всего, что напоминало бы о нём.
Читателю уже известно, что Джои женат, и Шарлотта замужем. У Джои есть и дети; он и Эрнест общаются очень редко. Разумеется, Эрнест не взял ничего по завещанию отца, так что остальные двое обеспечены весьма прилично.
Шарлотта, как обычно, большая умница; иногда она приглашает Эрнеста погостить у них с мужем близ Дувра – потому, я полагаю, что заранее знает, что приглашение это будет встречено без всякой радости. Во всех её письмах присутствует тон de haut еп bas; ткнуть в это пальцем довольно трудно, но Эрнест ни разу не получал от неё письма без ощущения того, что писал некто, имевший непосредственное общение с ангелом.
– Каким ужасным существом, – сказал он мне как-то раз, – должен был быть этот ангел, если имел хоть какое-то отношение к тому, чтобы Шарлотта стала такой, как она есть.
«Не могла ли бы тебе прийтись по душе мысль,
– недавно написала она, –о резкой перемене здесь, у нас? Вершины утёсов скоро расцветит вереск; можжевельник уже должен был расцвести, и вереску, думаю, тоже пора, судя по виду холмов в Юэле; но вереск вереском, а утёсы всегда прекрасны, и если ты приедешь, у тебя будет уютная комната, маленький уединённый приют отдохновения. Билет туда и обратно стоит девятнадцать шиллингов шесть и действителен в течение месяца. Решай, как тебе заблагорассудится, но только если ты приедешь, мы надеемся приложить все усилия, чтобы всё было для тебя светло; если же у тебя не будет склонности заглянуть в наши края, что ж, ты ни в коем случае не должен воспринимать это как обязанность».
– У меня бывают кошмары, – со смехом сказал Эрнест, показывая мне это письмо. – Мне снится, что я должен погостить у Шарлотты.
Считается, что её письма написаны необычно хорошо, и, по-моему, среди членов семьи принято считать, что у неё «гораздо более подлинные» литературные способности, чем у Эрнеста. Иногда нам кажется, что она пишет к нему, как бы говоря: «Вот тебе, не думай, что ты единственный из нас умеешь писать – на, получи! И если тебе понадобится красноречивый описательный отрывок для твоей следующей книги, можешь воспользоваться этим по своему усмотрению». Я рискну сказать, что она пишет хорошо, но только она подпала под власть слов «надеяться», «думать», «воспринимать», «прилагать усилия», «светло» и «маленький» и едва в состоянии написать страницу, чтобы не употребить их все, а то и не раз. Всё это производит эффект монотонности стиля.
Эрнест всё так же любит музыку, даже, может быть, ещё сильнее, и недавно прибавил сочинение музыки к числу своих забот. Это ему пока ещё трудновато – он неизменно мучается с переходом в до-диезную тональность после начала в до, и потом с переходом обратно.
– Переход в до-диез, – говорит он, – это как одинокая беспомощная женщина на Лондонской железной дороге, оказавшаяся на Шепердс-Буш и не вполне знающая, куда ей надо. Как бы ей благополучно вернуться на Клэфем-Джанкшн? Собственно, Клэфем-Джанкшн тоже не вполне ей подойдёт, потому что Клэфем-Джанкшн – это как уменьшенная септима, подверженная таким энгармоническим изменениям, что можно её разрешить в любое музыкальное окончание.
Заговорив о музыке, я припомнил небольшой эпизод, который не так давно произошёл с Эрнестом и мисс Скиннер, старшей дочерью доктора Скиннера. Доктор Скиннер давно уже оставил Рафборо и сделался настоятелем собора в одном из срединных графств – должность в точности по нему. Оказавшись как-то раз по соседству, Эрнест по старому знакомству зашёл на огонёк и был радушно принят и приглашён к обеду.
Тридцать лет убелили кустистые брови доктора – убелить его волосы было им не под силу. Полагаю, если бы не этот парик, его бы уже сделали епископом.
Его голос и манеры не изменились, и когда Эрнест, говоря что-то по поводу висевшей на стене карты Рима, нечаянно упомянул Квиринал[284]284
Один из семи римских холмов, с дворцом, бывшим сначала резиденцией пап, потом королей Италии, потом (после 1946 г.) президентов.
[Закрыть], он ответствовал с привычной напыщенностью: «Ах, да, КвиринАл, или, как я сам предпочитаю его называть, КвИринал». За обедом он один раз произнёс (действительно произнёс!) «нельзя думать как-то иначе», но тут же поправился и сказал «практически невозможно придерживаться неактуальных идей», после чего явно почувствовал себя гораздо уютнее. Эрнест заметил на полках в столовой настоятельского дома привычные тома с трудами д-ра Скиннера, но книги «Рим или Библия – которое из двух?» среди них не было.
– И вы по-прежнему так же любите музыку, мистер Понтифик? – спросила мисс Скиннер Эрнеста во время обеда.
– Известного рода музыку, да, мисс Скиннер, но, знаете, я никогда не любил современной музыки.
– О, но ведь это же ужасно! Не думаете ли вы, что лучше бы вам… – она собиралась сказать «ее любить», но удержалась, чувствуя, что и без того высказала задуманный смысл.
– Я бы хотел любить современную музыку, если бы мог; я всю жизнь старался её любить, но с возрастом мне это удаётся всё меньше и меньше.
– И где же, сделайте милость, начинается, по-вашему, современная музыка?
– С Себастьяна Баха.
– И Бетховен вам не нравится?
– Нет. Я думал, что он мне нравится, когда я был моложе, но теперь я знаю, что он мне никогда не нравился.
– Как вы можете такое говорить? Вы его не понимаете, не можете понять, вы бы так не говорили, если бы понимали его. По мне, один аккорд Бетховена – и всё. Это уже счастье.
Эрнеста позабавило её фамильное сходство с отцом – сходство, с возрастом всё усиливавшееся и распространившееся уже и на голос, и на манеру речи. Он вспомнил, как слышал мой рассказ об игре в шахматы с доктором в давно прошедшие года, и в его мысленном слухе зазвучали слова мисс Скиннер, произносимые, как эпитафия:
«Остановись, прохожий:
Что, если я возьму
Простой аккорд из Бетховена
Или шестнадцатую ноту
Из одной из „Песен без слов“ Мендельсона».
После обеда, когда Эрнеста оставили на полчаса наедине с настоятелем, он осыпал его комплиментами, так что старый джентльмен был польщён и ублажён сверх всяких пределов. Он встал и поклонился.
– Эти высказывания, – сказал он voce sua[285]285
Своим голосом, в присущей ему манере (лат.).
[Закрыть], – весьма для меня ценны.
– Они лишь малая толика, сэр, – ответствовал Эрнест, – того, что любой из ваших учеников чувствует по отношению к вам, – и так они и проделывали все па словесного менуэта у эркера, выходившего на ровно остриженный газон. На этом Эрнест удалился; однако через несколько дней доктор прислал ему письмо, в котором сообщал, что его недоброжелатели – sklerhoi kai antitupoi[286]286
Жесткие и резкие (греч).
[Закрыть], и в то же время anekplektoi[287]287
Неустрашимые (греч.).
[Закрыть]. Эрнест вспомнил слово sklerhoi и понял, что другие слова той же природы, так что всё в порядке. Через месяц или два доктор Скиннер почил с отцами своими.
– Он был старый дурак, Эрнест, – сказал я, – и тебе не следовало играть с ним в благожелательность.
– Я ничего не мог с собой поделать, – отвечал он. – Он был так стар, что это было, как играть с ребёнком.
Иногда Эрнест, как и все, чей разум активен, перетруждается, и тогда у него происходят гневные, полные упрёка столкновения с доктором Скиннером и Теобальдом во сне – но и только; хуже этого сии двое достойных мужей досаждать ему более не могут.
Мне всё это время он был сыном и более, чем сыном; по временам я немного опасаюсь – например, когда я говорю с ним о его книгах, – что и я для него как отец более, чем следовало бы; если это так, я очень надеюсь, что он мне это прощает. Его книги – единственное яблоко раздора между нами. Я хочу, чтобы он писал, как все, и не обижал столь многих из своих читателей; он говорит, что может изменить манеру письма не более, чем цвет своих волос, и что он должен писать, как пишет, или не писать вовсе.
Благожелательностью публики он, как правило, не пользуется. За ним признают талант, но, как правило, эксцентричного и непрактичного свойства, и насколько бы он ни был серьёзен, всегда возникают подозрения, что он дурачится. Его первая книга принесла ему успех по причинам, которые я уже объяснял, но ни одна из последующих не была чем-либо иным, кроме как почётным провалом. Он принадлежит к тем несчастливцам, у которых каждая из книг немедленно по выходе обругивается литературными критиками, но становится «отличным чтением», как только появляется следующая, которую, в свою очередь, сурово осуждают.
Ни разу в жизни он не пригласил рецензента на ужин. Я повторяю ему снова и снова, что это неумно, и каждый раз подтверждается, что это единственное моё высказывание, из-за которого он может на меня разозлиться.
– Какое мне дело до того, – говорит он, – читают ли мои книги или нет? Пусть им будет до этого дело. У меня и без того слишком много денег, чтобы желать ещё больше, а если в книгах что-нибудь есть, оно постепенно выплывет само. Я не знаю – да и мне не очень это важно, – хороши ли они. Как может человек в здравом уме иметь мнение о собственной работе? Кто-то должен писать дурацкие книги, как должны быть недозрелые мнения и третьесортные их собиратели. Почему я должен сетовать на то, что состою в посредственностях? Если человек не опускается абсолютно ниже посредственности, он и за это должен быть благодарен. Кроме того, книги должны стоять сами за себя, так что чем скорее они начнут, тем лучше.
Не так давно я говорил о нём с его издателем.
– Мистер Понтифик, – сказал он, – homo unius libri[288]288
Человек одной книги (лат.).
[Закрыть], но говорить ему об этом бесполезно. – Я видел, что издатель, которому полагается понимать такие вещи, утратил всякую веру в литературный статус Эрнеста и рассматривал его как человека, чей неуспех был тем более безнадёжен, что однажды он произвёл фурор. – Он находится в полном одиночестве, мистер Овертон, – продолжал издатель. – Он не вошёл ни в какую группировку, а врагов себе нажил не только в мире религии, но также и в литературном, и научном сообществе. В наши дни так не пойдёт. Если человек хочет успеха, он должен принадлежать к группировке, а мистер Понтифик не принадлежит ни к какой группировке, даже ни к какому клубу.
– Мистер Понтифик, – отвечал я, – в точности напоминает Отелло, с одной только разницей – он ненавидит без меры и благоразумья[289]289
Отелло «любил без меры и благоразумья» (перевод Б. Пастернака).
[Закрыть]. Он невзлюбил бы литературных и научных тузов, если бы узнал их поближе, а они его; между ними и им естественной взаимной склонности быть не может, и если бы его привели к ним, его положение теперь было бы ещё хуже нынешнего. Его внутреннее чутьё говорит ему об этом, так что он инстинктивно чурается их и нападает на них всякий раз, когда считает, что они этого заслуживают – в надежде, может статься, что молодое поколение прислушается к нему с большей готовностью, чем нынешнее.
– Можно ли, – сказал издатель, – вообразить что-либо более непрактичное и неосмотрительное?
На всё это Эрнест отвечает единственным словом: «Подождём».
Вот что происходит с моим другом в последнее время. У него вряд ли, надо отдать ему должное, появятся поползновения основать Колледж духовной патологии, но я должен оставить на усмотрение читателя решать, не наблюдается ли сильного фамильного сходства между Эрнестом Колледжа духовной патологии и Эрнестом, непременно желающим обращаться к следующему поколению вместо своего собственного. Он сам, по его словам, очень надеется, что нет, и раз в год регулярно принимает причастие, умасливая Немезиду, чтобы снова не впасть в сильное пристрастие к какому бы то ни было предмету. Это для него довольно утомительно, но «нет мнения, – говорит он иногда, – которого стоило бы придерживаться, разве только человек знает, как с лёгкостью и благородством отречься от него во имя милосердия». В политике он консерватор – в смысле голосования и материального интереса. Во всех остальных смыслах он прогрессивный радикал. Его отец и дед вряд ли могли бы понять состояние его ума лучше, чем они понимали по-китайски, но знающие его близко не уверены, что хотели бы, чтобы он сильно отличался от себя теперешнего.









