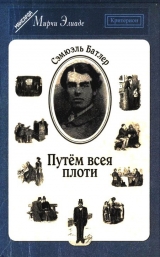
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 37 страниц)
Глава XXIX
Мама с папой уехали, и скоро Эрнест заснул над книгой, которую дала ему миссис Джей, и проспал до самых сумерек. Проснувшись, он уселся на табурете у очага, лившего весёлый свет в январских сумерках, и задумался. Он ощущал в себе слабость, беспомощность, беспокойство и неспособность пробиться сквозь всё то море бед, что простиралось перед ним. Может быть, думалось ему, он даже умрёт, но и это не только не принесёт облегчения, но станет началом новых несчастий, ибо в лучшем случае он отправится тогда к дедушке Понтифику и бабушке Оллеби, а они, хоть с ними и несколько легче, чем с мамой и папой, всё равно по-настоящему хорошо относиться к нему не будут, и вообще они слишком от мира сего; кроме того, они взрослые, особенно дедушка Понтифик, он, насколько Эрнест мог судить, был очень-очень взрослый, а Эрнеста, хотя он и не понимал, почему, всегда что-то удерживало от сильной любви к взрослым, за исключением двух-трёх слуг, которые были добры и милы с ним, как никто другой. К тому же, если он после смерти даже и попадёт в рай, всё равно ему где-то ведь придётся завершить своё образование?
Тем временем папа и мама катили по просёлочной дороге, забившись каждый в свой угол кареты и перебирая в уме множество грядущих и не обязательно грядущих событий. Времена изменились с тех пор, как я в прошлый раз показывал их читателю молча сидящими вместе в карете, но если не считать их отношения друг к другу, они на удивление мало изменились. Когда я был моложе, я считал, что наш молитвенник ошибается, требуя от нас произносить «Общее исповедание грехов» дважды в день с детства и до старости и не делая при этом скидок на то, что в семьдесят мы уже не такие великие грешники, как были в семь; хорошо, пусть мы должны отправляться в стирку, как скатерти, хотя бы раз в неделю, но всё равно, думалось мне, должен же настать такой день, когда нас уже не надо будет оттирать и скрести с такой уж тщательностью. С возрастом я всякого насмотрелся и понял, что церковь просчитала вероятности лучше меня.
Супруги не перекинулись ни словом и лишь наблюдали меркнущий свет, голые деревья, бурые поля с печальными хижинами, возвышавшимися там и сям вдоль дороги, да дождь, барабанивший по стёклам кареты. В такие вечера добрым людям полагается сидеть дома, и Теобальда несколько раздражала мысль о том, сколько миль надо ещё трястись в карете, пока доберёшься до своего очага. Но делать было нечего, и наша чета молча наблюдала, как ползут мимо них придорожные тени, серея и мрачнея по мере того, как сгущались сумерки.
Друг с другом они не говорили, но при каждом был некто более близкий, с кем можно было поговорить откровенно. «Надеюсь, – говорил сам себе Теобальд, – надеюсь, он станет трудиться – или Скиннер его заставит. Не нравится мне этот Скиннер, никогда не нравился, но он, несомненно, человек гениальный, и никто не выпускает столько учеников, которые отличаются в Оксфорде и Кембридже, а это самый лучший критерий. Я свою долю внёс, начало положено. Скиннер говорит, что основы у него заложены хорошие и что он хорошо подготовлен. Я предполагаю, он будет выезжать на этом и дальше не пойдёт – такая уж это праздная натура. Он меня не любит, я знаю точно, не любит. А должен бы, после всех трудов, что я ради него понёс, но это неблагодарный эгоист. Не любить отца – это против природы. Если бы он меня любил, то и я бы его любил тоже, но мне не нравится, не может нравиться сын, которому я сам не нравлюсь, а это так, так! Он так и уползает прочь всякий раз, как я приближаюсь. Он и пяти минут не провел бы со мной в одной комнате, будь его воля. Он обманщик. Он бы так не стремился прятаться, если бы не был обманщиком. Это плохой признак, признак того, что из него вырастет мот и сумасброд. Я уверен, что он вырастет транжирой. Не знай я этого, я бы давал ему побольше денег на карманные расходы – но что толку давать ему деньги? Они тут же утекают. Если он не купит на них что-нибудь себе, то раздарит кому попало – понравится ему какой-нибудь мальчишка или девчонка, он всё и отдаст. Он забывает, что раздаривает-то мои деньги, мои! Я даю ему деньги, чтобы у него были деньги, чтобы он знал им цену, а не для того, чтобы он взял и тут же их растранжирил. Плохо, что он так любит музыку, это будет мешать латыни и греческому. Постараюсь положить этому конец. А то что же, на днях, переводя Ливия, он вместо Ганнибала сказал Гендель, и мать говорит, что он знает на память половину мелодий из „Мессии“. Что понимает мальчишка его возраста в „Мессии“? Если бы я в его возрасте проявлял столько опасных наклонностей, мой отец уж точно отдал бы меня в учение к зеленщику» – и прочая, и прочая.
Затем его мысли свернули на Египет и на десять казней, конкретней, именно на десятую[128]128
Исх 11. В наказание за то, что фараон не отпускал евреев из Египта, Бог наслал на египтян десять казней, из которых последняя – истребление младенцев мужского пола.
[Закрыть]. Он подумал, что если бы все египетские младенцы были хоть в чём-то похожи на Эрнеста, то их истребление было бы скорее завуалированным благом. А если бы израильтяне были сейчас в Англии, у него было бы сильное искушение их не отпускать.
Мысли миссис Теобальд блуждали в ином направлении. «Внук лорда Лонсфорда – как жаль, что его фамилия Фиггинс[129]129
Так у автора – подарок переводчику! Впрочем, «figgery» – это украшения, безделушки.
[Закрыть]; но кровь есть кровь, по женской линии она проявляется не хуже, чем по мужской, а то и сильнее, если хотите знать. Интересно, кто был мистер Фиггинс? Впрочем, миссис Скиннер, кажется, сказала, что он умер; надо бы поразузнать о нём побольше. Было бы славно, если бы юный Фиггинс пригласил Эрнеста к себе на каникулы. А вдруг он познакомится с самим лордом Лонсфордом, ну или хотя бы с другими его потомками».
Тем временем мальчик всё сидел уныло у камина в комнате миссис Джей. «Папа и мама, – говорил он про себя, – гораздо лучше и умнее всех, а я – увы – я никогда не стану ни хорошим, ни умным».
А миссис Понтифик продолжала:
«Пожалуй, лучше сначала позвать юного Фиггинса на каникулы к нам. О, это будет очаровательно. Теобальду это не понравится, он вообще не любит детей; как-то бы надо это устроить, ведь это будет так прекрасно, принимать у себя юного Фиггинса – а, нет, постой! Эрнест поедет к Фиггинсам, познакомится с будущим лордом Лонсфордом, они, кажется, ровесники, и, если они подружатся, Эрнест пригласит его в Бэттерсби, и он влюбится в Шарлотту. О, КАК МУДРО мы поступили, послав Эрнеста к доктору Скиннеру! Его благочестивость не уступает его гениальности. Такие вещи видны с первого взгляда, и я думаю, он оценил это во мне не менее высоко, чем я в нём. Я думаю, и Теобальд, и я его просто покорили – право же, интеллектуальная мощь Теобальда впечатлит кого угодно, да и я, кажется, показала себя с наилучшей стороны. Кажется, ему очень понравилось, как я сказала, что оставляю своего мальчика в его руках в полнейшей уверенности, что о нём позаботятся так же хорошо, как и в родном доме. Не думаю, чтобы многие матери, приводящие к нему своих сыновей, производили на него такое благоприятное впечатление или говорили бы так замечательно, как я. Когда я захочу, моя улыбка бывает обворожительна. Может быть, красавицей меня никогда нельзя было назвать, но меня всегда признавали интересной. Доктор Скиннер очень хорош собой – я бы сказала, слишком хорош для миссис Скиннер. Теобальд говорит, что он некрасив, но мужчина тут не судья, и потом, у него такое приятное, ясное лицо. По-моему, эта шляпка мне к лицу. Вот приедем домой, не забыть велеть Чеймберсу, чтобы подшил мою голубую с жёлтым…» – и прочая, и прочая.
И всё это время письмо, которое я приводил выше, лежало у Кристины в потайной шкатулке, читанное-перечитанное и одобренное-переодобренное, и даже, если хотите знать правду, писанное-переписанное, хотя и датированное всё тем же числом, – и вот такие мысли; а ведь Кристина не вовсе была чужда чувству юмора.
Эрнест, всё ещё в комнате миссис Джей, размышлял дальше. «Взрослые, – думал он, – если это леди и джентльмены, никогда не делают ничего плохого, а он всё время делает. Он слышал, что некоторые взрослые суетны, и это, конечно, нехорошо, но это совсем не то, что быть плохим и непослушным, и их за это не наказывают и не ругают. Его папа и мама вовсе несуетны, они много раз объясняли ему, что они в высшей степени несуетны и даже вовсе не от мира сего, и он отлично знает, что они никогда не делали ничего плохого с самого детства, и даже в детстве были ну просто безупречны. А он! Он совсем не такой! Когда он научится любить своих папу и маму так, как они любили своих? Какая у него надежда вырасти хорошим и умным, как они, или хотя бы сносно хорошим и умным? Увы, никакой! Это невозможно. Он не любит папу и маму, несмотря на то, что они такие хорошие и сами по себе, и по отношению к нему. Он ненавидит папу, и ему не нравится мама, а это возможно только с самым испорченным и неблагодарным мальчиком, особенно после всего, что они для него сделали. Кроме того, ему не нравятся воскресенья; ему ничего не нравится из того, что на самом деле хорошо; у него дурной вкус, низкий, он стыдится такого вкуса. Люди нравятся ему больше всего такие, которые говорят бранные слова, так, иногда, и если только не на него. У него совершенно не лежит душа к катехизису и Библии. За всю жизнь он ни разу не был на проповеди. Даже когда его приводили слушать мистера Боуна из Брайтона, который, как всем известно, читает прекрасные проповеди для детей, он, Эрнест, ужасно радовался, когда всё кончалось; и вообще, он, кажется, ни за что не выстоял бы всю службу, не будь в ней соло на органе, и гимнов, и песнопений. А катехизис – это же кошмар! Он так и не понял, чего ему следует желать от своего Господа Бога и Отца Небесного, он никак не возьмет в толк, что такое „таинство“. Обязанности по отношению к ближнему – ещё одна бука. У него такое впечатление, что у него полно обязанностей по отношению ко всем и каждому, что они затаились против него на каждом углу, а вот по отношению к нему ни у кого никаких обязанностей нет. Или вот ещё одно ужасное и таинственное слово: „деловой“. Что всё это значит? Что такое „деловой“? Папа – необыкновенно деловой человек, так часто говорила мама, – а он, Эрнест, никогда таким не будет. Это безнадёжно, и это совершенно ужасно, потому что все вокруг без конца повторяют, что ему придётся самому зарабатывать себе на жизнь. Это и без них понятно, – но как, если известно, какой он тупой, ленивый, невежественный, себялюбивый и физически хилый? Все взрослые умны, кроме слуг, но ему и со слугами никогда умом не сравняться. Ах, почему, почему, почему не могут люди на этой земле рождаться уже взрослыми? Потом ему вспомнился Касабьянка[130]130
Герой одноимённой поэмы Фелиции Хеманс (1793–1835).
[Закрыть]. Отец незадолго до того гонял его по этой поэме. „При каком единственном условии он был согласен уйти? К кому он обратился? Получил ли ответ? Почему? Сколько раз обращался он к своему отцу? Что с ним случилось? Чья благороднейшая жизнь была загублена? Ты так думаешь? Почему ты так думаешь?“ И так без конца. Естественно, он думал, что под благороднейшей и загубленной жизнью подразумевалась жизнь Касабьянки; тут двух мнений быть не может; ему и в голову не приходило, что мораль поэмы заключалась в том, что молодёжи никогда не рано выбрать свободу действий в вопросе о послушании папе и маме. О нет! Единственное, о чём он думал, это о том, что ему никогда, никогда не стать таким, как Касабьянка, и как презирал бы его Касабьянка, даже разговаривать бы с ним не стал. Все прочие на том корабле не стоят внимания, пускай себе надуваются, как хотят. Миссис Хеманс всё знала про эту дурацкую компанию. А кроме того, Касабьянка был так хорош собой и происходил из такой хорошей семьи!»
Так и блуждали его мыслишки, пока он не устал следить за ними и снова не впал в дрёму.
Глава XXX
Наутро Теобальд и Кристина проснулись с некоторым чувством усталости от дороги, но и с ощущением счастья – самого сильного из доступных нам – счастья чистой совести. Отныне, если их сын не станет хорошим человеком и не достигнет должного благосостояния, это будет целиком на его совести. Могут ли родители сделать больше, чем сделали они? «Нет» возникнет на устах читателя так же мгновенно, как и у самих Теобальда с Кристиной.
Несколько дней спустя сын порадовал их следующим письмом:
«Дорогая мама,
у меня всё хорошо. Доктор Скиннер как следует погонял меня вдоль и поперек по латинской поэзии, и поскольку я всё это прошёл с папой, то я всё знал, и всё получилось почти хорошо, и он определил меня в четвёртый класс к мистеру Темплеру, и я теперь начинаю изучать новую латинскую грамматику, не такую, как старая, а гораздо труднее. Я понимаю, что вы желаете, чтобы я трудился, и я буду стараться изо всех сил. С крепкой любовью к Джои и Шарлотте, и тоже к папе, остаюсь вашим любящим сыном
Эрнестом».
Что может быть лучше и пристойнее! Похоже, он воистину переворачивал новую страницу своей жизни. Мальчики все вернулись с каникул, экзамены были позади, жизнь второго полугодия пошла по заведённому порядку. Страхи Эрнеста, что его будут пинать и изводить, оказались преувеличенными. Ничего особенно ужасного никто ему не делал. На переменах старшие мальчики посылали его по разным мелким поручениям, ему чаще других приходилось бегать за футбольным мячом и тому подобное, но по части издевательств – нет, в этом смысле атмосфера в школе была прекрасная.
И всё же хорошо ему не было. Доктор Скиннер слишком сильно напоминал ему отца. Правда, до настоящих столкновений пока ещё не дошло, но он был вездесущ; невозможно было предугадать, в какой момент он возникнет перед тобой, и всякий раз его появление сопровождалось какой-нибудь грозой. Он был, как лев из воскресной беседы епископа Оксфордского – того и гляди выскочит из-за куста и сожрёт ни о чём не подозревающего тебя. Он назвал Эрнеста «дерзкой мошкой» и сказал, что поражается, как это земля не разверзнется и не поглотит его за то, что он произносит «и» в слове «Талия» кратко. «И это в моём присутствии, – громыхал он, – в присутствии того, кто в жизни не нарушил правил долготы звука!» Право, он был бы гораздо более приятным человеком, если бы, как и все люди, в юности своей нарушал правила, хотя бы долготы звука. Эрнест не мог себе представить, как вообще выживали мальчики в классе доктора Скиннера; а ведь они выживали, и даже преуспевали, и даже, трудно поверить, боготворили его, ну, или в последующей жизни рассказывали, что боготворят. Для Эрнеста это было, как жить на кратере Везувия.
Сам он, как уже говорилось, учился в классе мистера Темплера, который был брюзга, но не злюка, и на его уроках можно было легко списывать. Эрнест поражался, как можно быть таким слепым, ведь наверняка мистер Темплер и сам списывал в детстве; как можно, думал он, настолько забыть, состарившись, свои молодые годы? Он сам, думалось ему, никогда не сможет забыть ни малой толики.
Немало тревожила его порой и миссис Джей. Через несколько дней после начала второго полугодия в холле произошёл какой-то необычный шум, и она ворвалась туда в шляпе с развевающимися ленточками и в откинутых на лоб очках и назвала мальчика, которого Эрнест избрал себе в герои, «самым худшим во всей школе букой-злюкой-тарахтелкой-ничего-не-делкой-нарушалкой-грохоталкой». Но иногда она говорила и приятные для Эрнеста вещи. Если доктор отправлялся куда-нибудь на ужин, и в этот вечер не было молитвы, она, бывало, войдёт и скажет: «Юные джентльмены, молитвы на сегодня – свободны». В общем и целом это была достаточно добрая душа.
Большинство мальчиков скоро научаются отличать пустые угрозы от настоящей опасности; но есть и такие, для которых сама идея кому бы то ни было угрожать (разве в шутку) настолько неестественна, что они долго не могут отучиться воспринимать индюков и гусаков аи serieux. Эрнест был из их числа; климат Рафборо был для него слишком неспокойным, и он предпочитал удаляться с глаз долой и из сердца вон при первой возможности. Игры он не любил ещё, пожалуй, сильнее, чем шумные потасовки в классе и на перемене, ибо был хил и долго ещё не вписывался в ряды своих сверстников; в физическом развитии он отставал от большинства мальчиков его возраста. Дело, может быть, в том, что отец слишком много заставлял его сидеть над книгами, а также, мне кажется, частично и в наследственной у всех Понтификов тенденции к запоздалому развитию, сказывавшейся, кроме всего прочего, в необычном долголетии.
В тринадцать-четырнадцать лет он был кожа да кости, предплечья не толще, чем у сверстников запястья, куриная грудь, ни силы, ни выносливости; из-за привычки вечно вжиматься в стену при любой схватке, затеянной в шутку или всерьёз, даже с мальчиками меньше его ростом, естественная для детства робость развилась в нём, боюсь, до уровня трусости. От этого его беспомощность усугублялась, ибо как уверенность в себе придаёт силы, так её отсутствие порождает бессилие. После того, как из него с десяток раз вышибли дух и «подковали» в футбольных потасовках – в каковые потасовки его вовлекали исключительно против его воли, – он утратил всяческий интерес к футболу и стал увиливать от этой благородной игры, что настроило против него старших мальчиков, которые не терпят, когда младшие увиливают.
В крикете он был столь же беспомощен и неловок, как и в футболе, и сколько ни старался, не мог забить мяч в ворота. Итак, скоро всем стало ясно, что Понтифик – мазила и рохля, травить которого не стоит, но и в первачи записывать тоже незачем. Впрочем, активной нелюбви к себе он не испытывал, ибо все увидели, что он совершенно честен inter pares[131]131
Primus inter pares – первый среди равных (лат.) – почётный «титул» понтифика (папы римского).
[Закрыть], абсолютно незлопамятен, покладист, легко расстаётся с имеющимися у него небольшими суммами, любит учёбу не больше игр и, в целом, легче склоняется к умеренному пороку, чем к неумеренной добродетели.
Такие качества всегда удержат мальчика от того, чтобы совсем уже низко пасть в глазах своих однокашников, но Эрнест считал, что пал совсем низко, ниже, чем это было на самом деле, и ненавидел и презирал себя за то, что и он сам, и все остальные полагали трусостью. Мальчики, которых он считал похожими на себя, ему не нравились. Его герои были сильные и энергичные, и чем меньше внимания они на него обращали, тем больше он перед ними преклонялся. От всего этого он ужасно страдал, и ему ни разу не пришло в голову, что инстинкт, отвращавший его от игр, был здоровее любых резонов, заставлявших его в них участвовать. И всё же он по большей части следовал этому инстинкту, а не тем резонам. Sapiens suam si sapientiam norit[132]132
Разумен знающий, что разумно для него (лат.).
[Закрыть].
Глава XXXI
Что касается учителей, то в недолгом времени Эрнест впал к ним в совершеннейшую немилость. Он позволял себе вольности, дотоле для него неслыханные. Тяжкая десница и всевидящее око Теобальда более не стерегли его, не сторожили его сон, не выслеживали всякое его движение, а наказание в виде переписывания стихов из Виргилия не шло ни в какое сравнение с варварскими порками Теобальда. Собственно говоря, переписывание часто было не столько неприятностью, сколько уроком. Правда, натуральный инстинкт Эрнеста не усматривал в латыни и греческом ничего такого, что обещало бы ему покой даже и на смертном одре, не говоря уже о надежде приобрести его в не столь отдалённом будущем. Безжизненность, присущую этим мёртвым языкам, никто не пытался искусственно скомпенсировать какой-нибудь системой вознаграждений за их использование. Наказаний за неиспользование было сколько угодно, но никто не придумал какой-нибудь привлекательной взятки, эдакой наживки, которая подманила бы ученика на крючок его собственной пользы.
Да, приятная сторона процесса обучения всегда считалась чем-то таким, к чему он, Эрнест, не имеет никакого отношения. Приятные вещи нас вообще не касаются или касаются мало, и уж во всяком случае, никак не касаются его, Эрнеста. Мы приходим в этот мир не ради удовольствий, а ради исполнения долга, и вообще, в самой сущности удовольствия содержится что-то более или менее греховное. Если мы делаем что-то такое, что нам нравится, нам, и уж во всяком случае, ему, Эрнесту, должно извиняться и считать, что с нами поступают очень милостиво, если не велят немедленно пойти и заняться чем-нибудь другим. Совсем иначе обстояло дело с тем, что ему не нравилось: чем сильнее это ему не нравилось, тем прочнее была презумпция того, что это правильно. Ему ни разу не пришло в голову, что презумпция-то – на стороне правомерности вещей наиболее приятных, а бремя доказательства их неправомерности лежит на тех, кто это оспаривает. Я уже не раз говорил, что он верил в свою греховность; не было на земле другого маленького смертного, настолько готового принять безо всякого крючкотворства всё, что ни скажет любой облечённый авторитетом; по крайней мере, он полагал, что он кругом грешен, ибо пока ещё не знал о существовании другого Эрнеста, сидящего в нём, гораздо более сильного и более реального, чем тот Эрнест, которого он в себе осознавал. Этот немой Эрнест вещал – с помощью бесформенных ощущений, слишком быстрых и несомненных, чтобы их можно было перевести в такую спорную вещь, как слова, – но вещал настойчиво и убеждённо, что: «Вырасти – это не поле перейти, как обычно полагают; это тяжкий труд, и тяжесть его ведома только самому растущему мальчику; для роста требуется внимание, а ты недостаточно крепок, чтобы уделять внимание и телесному росту, и учёбе. Кроме того, латынь и греческий – это сплошное надувательство; чем лучше люди их знают, тем противней становятся; хорошие люди, с которыми тебе приятно общаться, – это те, кто либо никогда не знал сих языков, либо забыл всё, что учил, как только представилась такая возможность; после того, как их переставали принуждать к чтению классических авторов, они никогда более к ним не обращались; поэтому все эти классики – вздор, они хороши в своё время и в своих краях, а здесь и сейчас не у места. Никогда не изучай ничего, пока не убедишься, что незнание такого-то предмета заставляет тебя испытывать настоящее, устойчивое неудобство; когда ты обнаружишь, что у тебя есть резон обрести такие-то и такие-то знания, или предвидишь, что такой резон скоро появится, постарайся приобрести их как можно скорее, но до тех пор трать своё время на наращивание костей и мускулов; они тебе пригодятся больше, чем латынь и греческий, да к тому же, если ты не нарастишь их сейчас, другого шанса тебе не представится, тогда как латынь и греческий можно изучить, если понадобится, в любое время.
Со всех сторон тебя обступают небылицы, которые могли бы обмануть даже избранных, не будь они, эти избранные, всегда начеку; то „я“, которое ты в себе осознаёшь, твоё разумное, мыслящее „я“ поверит этим небылицам и заставит тебя поступать в соответствии с ними. Это твоё сознательное „я“, Эрнест, оно есть сноб, порождение снобов, натасканное в снобизме; я не позволю ему управлять твоими поступками, хотя словами твоими оно, не сомневаюсь, будет управлять ещё много лет. Твоего папы здесь нет, и пороть тебя некому; в этих новых условиях твоего существования есть для тебя шанс, и его надо использовать, совершая поступки другого рода. Слушайся меня, своё истинное „я“, и всё будет у тебя в относительном порядке, но посмей только внимать показушному шороху этой старой шелухи, которая зовётся твоим отцом, и я разорву тебя на части даже до третьего и четвёртого колена как ненавидящего Бога; ибо аз, Эрнест, есмь Бог истинный, сотворивший тя»[133]133
См. Исх 20:5; Втор 5:9.
[Закрыть].
О, как потрясён был бы Эрнест, услышь он этот обращённый к нему совет; каким кошмаром отозвался бы он в Бэттерсби! Но этим дело не заканчивалось, ибо сие злонамеренное внутреннее «я» давало ему вредные советы по поводу карманных денег, выбора товарищей и прочего, и Эрнест, в целом, был более внимателен к его назиданиям и послушен им, чем когда-либо был Теобальд. Вследствие этого он мало чему учился, и его разум развивался медленнее, а тело быстрее, чем прежде; а когда его внутреннему «я» случалось направить его такими путями, на которых он встречал непреодолимые препятствия, он сворачивал – хотя и с жестокими угрызениями совести – на другую тропу, стараясь, впрочем, держаться поближе, насколько позволяли обстоятельства, к той, откуда ему пришлось свернуть.
Нетрудно угадать, что Эрнест не состоял в лучших друзьях у наиболее уравновешенных и дисциплинированных мальчиков, учившихся тогда в Рафборо. Иные, наименее, напротив, сносные, наведывались в пивные и наливались пивом сверх всякой меры; вряд ли внутреннее «я» Эрнеста советовало ему связываться с этими юными джентльменами, но по молодости лет он всё же связывался, и порой на него жалко было смотреть, так его тошнило и от той малой толики пива, какой более крепкий мальчик даже бы и не заметил. Внутреннее «я», надо полагать, всё же вмешалось и сказало, что никакой особой радости в питии нет; я сужу по тому, что он бросил эту привычку, пока она ещё им не завладела, и никогда более к ней не возвращался; однако же в непростительно раннем возрасте – между тринадцатью и четырнадцатью – он подцепил другую, от которой так никогда и не избавился, хотя до сего дня его сознательное «я» назойливо долбит ему в уши, что чем меньше он будет курить, тем лучше.
Так продолжалось до тех пор, пока моему герою не подошло к четырнадцати годкам. К тому времени он если и не стал юным мерзавцем, то примкнул к сомнительному среднему классу между низкопочтенными и высоко-непочтенными, с некоторым, пожалуй, уклоном в сторону последних, если не считать порока скаредности, которым он не страдал. Сведения этого рода я черпаю частью из собственных рассказов Эрнеста, а частью из его школьных табелей, которые Теобальд, помнится, с немалым неудовольствием мне показывал. В Рафборо была учреждена система так называемых наградных; максимальная сумма, которую мог получить мальчик возраста Эрнеста, составляла четыре шиллинга шесть пенсов в месяц; по четыре шиллинга получали несколько мальчиков, и мало кто – меньше шести пенсов, но Эрнест никогда не получал больше полукроны[134]134
Крона – монета достоинством в пять шиллингов.
[Закрыть] и редко больше восемнадцати пенсов[135]135
1 пенс = 1/12 шиллинга = 1/240 фунта.
[Закрыть]; в среднем, я бы сказал, у него получалось около шиллинга девяти пенсов, то есть слишком много, чтобы входить в число самых плохих мальчиков, но маловато, чтобы числиться среди хороших.








