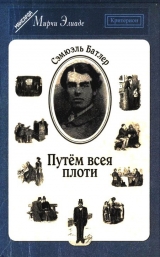
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 37 страниц)
Глава XLIII
Дело это Теобальд счёл настолько важным, что специально отправился в Рафборо ещё до начала полугодия. Его отлучка, как всегда, разрядила атмосферу в доме. О цели отлучки не упоминали, но Эрнест догадывался, куда он поехал.
Даже и сегодня он считает своё поведение во время этого кризиса одним из серьёзнейших промахов в своей жизни и не может вспоминать о нём без стыда и негодования. Надо было, говорит он, убежать из дома. Но чего бы он этим достиг? Его бы всё равно поймали, вернули домой и допросили – двумя днями раньше или позже, какая разница? У мальчика едва ли шестнадцати лет от роду не больше шансов устоять перед моральным натиском подавлявших его с младенчества отца с матерью, чем физически одолеть человека взрослого и сильного. Да, он мог позволить им погубить себя, а не сдаться, но это было бы таким патологическим геройством, которое вплотную смыкается с трусостью, ибо мало отличается от самоубийства, а последнее всеми осуждается как именно трусость.
Когда все съехались в школу, сразу стало ясно, что произошла какая-то неприятность. Доктор Скиннер в присутствии всех мальчиков с большой помпой отлучил от школы миссис Кросс и миссис Джонс, объявив их лавки запретной зоной. Под запретом оказалась также улица, на которой стоял «Лебедь с бутылкой». Все сообразили, что нацелена сия акция на такие пороки, как курение и пьянство; а перед началом молитвы доктор Скиннер произнёс несколько очень внушительных слов о таком богомерзком грехе, как употребление бранных выражений. Можно себе представить, каково было Эрнесту.
На следующий день, в час, когда зачитывались ежедневные взыскания, было объявлено, что Эрнест Понтифик, хотя и не имел времени что-либо нарушить, подвергнется буквально всем наказаниям, какие только существовали в школе для отъявленных злодеев. Его имя на весь семестр заносится в список отстающих, каждый день он должен оставаться после уроков, зона его передвижений резко сокращается, он обязан присутствовать на всех перекличках младших классов – короче говоря, обложен всевозможными наказаниями настолько, что ему едва ли удастся хоть когда-нибудь выйти за ворота школы. Этот беспрецедентный набор наказаний, наложенных в первый же день полугодия и имеющих продлиться до рождественских каникул, не объясняли никаким конкретным нарушением. Поэтому мальчикам не пришлось глубоко копать, чтобы связать Эрнеста с выдворением миссис Кросс и миссис Джонс за пределы досягаемости.
Более всего возмущались по поводу миссис Кросс, которая, как все знали, помнила самого доктора Скиннера ещё мальчиком в коротких штанишках и наверняка в своё время скормила ему немало сосисок с картофельным пюре в кредит. Старшие ученики собрались на тайный совет, чтобы решить, что предпринять, но, едва конклав открылся, как Эрнест робко постучался в дверь палаты заседаний и тут же, взяв быка за рога, всё объяснил – насколько ему хватило духу. Он выложил всё, кроме школьного списка и тех характеристик, которые он давал каждому из мальчиков. Признаться в таком позоре было выше его сил, и он не признался. К счастью, ему это ничем не грозило, ибо доктору Скиннеру, при всём его педантизме и более чем педантизме, всё же хватило здравого смысла не дать хода делу со школьным списком. То ли ему не понравился намёк на то, что он не знает нравов своих собственных учеников, то ли он опасался скандала вокруг школы – сие мне неведомо, но только когда Теобальд протянул ему список, над которым так много потрудился, доктор Скиннер не дал ему договорить, что случалось крайне редко, и тут же, с небывалой для себя элегантностью, прямо на глазах Теобальда предал его творение огню.
Эрнесту дело сошло с рук легче, чем он ожидал. «Старики» признали, что при всей гнусности этого преступления оно было совершено при смягчающих вину обстоятельствах; прямота, с которой виновник во всём сознался, неподдельное раскаяние и ярость гонений со стороны доктора Скиннера способствовали тому, что всеобщее мнение склонилось в его пользу – его начали воспринимать не столько преступником, сколько жертвой.
Семестр шёл своим чередом, и Эрнест мало-помалу воспрял духом; когда его постигал привычный приступ самоуничижения, он несколько утешался сделанным открытием – именно же, что даже его отец с матерью, которых он почитал такими непорочными, оказались не лучше, чем надо бы.
В школе существовал обычай собираться пятого ноября на одном общинном участке близ Рафборо и сжигать чьё-нибудь чучело; это была дань традиции устраивать костры в честь праздника Гая Фокса[159]159
Отмечается в Великобритании 5 ноября в память о раскрытии в 1605 г. заговора во главе с Гаем Фоксом (Guy Faukes) с целью взорвать короля и депутатов парламента в отместку за усилившееся подавление католицизма в Англии. Один из «аттракционов» праздника – сжигание чучела Гая Фокса.
[Закрыть]. В тот год было решено, что жертвой станет папаша Понтифика, и Эрнест, после долгих размышлений о том, как ему следует поступить, в конце концов решил, что не видит причин не участвовать в действе, которое, как он справедливо считал, не может нанести его отцу никакого вреда.
Случилось так, что как раз пятого ноября епископ проводил в школе конфирмацию. Доктор Скиннер не очень одобрял выбор даты, но епископа поджимало множество дел, так что пришлось подстраиваться под его расписание. На Эрнеста, который был в числе конфирмантов, торжественная важность обряда произвела глубокое впечатление. Когда на него, стоящего на коленях в школьной часовне, стал надвигаться гигантский старик епископ, у него перехватило дух, а когда эта махина задержалась перед ним и возложила руки на его голову, он напугался до умопомрачения. Он почувствовал, что в его жизни настал поворотный пункт, после которого Эрнест будущий будет лишь отдалённо напоминать Эрнеста прошлого.
Это произошло в полдень, но уже к обеденному часу, то есть именно к часу дня, впечатления от конфирмации немного рассеялись, и он уже не видел причин отказываться от традиционного развлечения у костра, и пошёл вместе со всеми, и держался молодцом до самой минуты, когда настало время установить и фактически поджечь чучело; тогда он испугался. Сама кукла была довольно убога – из бумаги, тряпок и соломы; но окрестили-то её преподобным Теобальдом Понтификом, и, видя, как её тащат на костёр, Эрнест ощутил внезапную перемену настроения. И всё же он не сдался, и когда всё было кончено, не ощутил в себе никаких угрызений совести за участие в церемонии, вызванной, в общем-то, скорее мальчишеской склонностью к проказам, чем злонамеренным желанием отомстить.
Замечу здесь, что Эрнест писал к отцу и жаловался на беспрецедентную суровость, с которой обошлись с ним в школе; он даже осмелился высказать пожелание, чтобы Теобальд за него заступился, и напомнил, каким манером и на каких условиях из него все эти сведения вытянули; но Теобальду уже хватило доктора Скиннера с лихвой; полученный отпор в виде предания огню школьного списка никак не вдохновлял его на новое вмешательство во внутренние дела Рафборо. Поэтому он ответил, что может либо забрать Эрнеста из школы, что по многим причинам нежелательно, либо оставить всё на усмотрение директора, который сам вправе решать, как лучше обращаться со своими учениками. Эрнест умолк; он настолько стыдился того, что позволил вытянуть из себя признание, считал себя настолько дискредитированным, что настаивать на обещанной амнистии не смел.
Между тем, в Рафборо можно было наблюдать удивительный феномен, связанный со «скандалом вокруг матушки Кросс», если придерживаться укоренившейся среди мальчиков стилистики. Дело в том, что старшие ученики на известных условиях стали бегать по поручениям для младших. У старших не было ограничений в передвижениях, и они могли навещать миссис Кросс, когда хотели; и вот они сделались посыльными, и стали приносить от миссис Кросс и миссис Джонс всё, что у них просили даже самые маленькие; это происходило по утрам, в последнюю четверть часа перед девятью, и по вечерам, от без четверти шести до шести. Постепенно мальчики осмелели, и, наконец, им было негласно позволено посещать эти лавки, хотя официального запрета никто не отменял.
Глава XLIV
Не стану утруждать читателя более подробными сведениями из школьных лет моего героя. Он дорос, совершенно того не желая, до класса доктора Скиннера, и на протяжении последних лет двух школы был даже в числе старост, хотя в этом качестве так никогда и не отличился. Занимался он мало, и доктор Скиннер, полагаю, махнул на него рукой, сочтя, что лучше предоставить его самому себе; я это заключаю из того, что он редко задавал Эрнесту синтаксические разборы, а домашние упражнения Эрнест сдавал или не сдавал, в общем-то, по своему усмотрению. Его не видное со стороны, подсознательное упорство сослужило ему лучшую службу, чем могло бы сослужить множество спонтанных дерзких выходок. К концу его школьной карьеры его положение inter pares было таким же, как и в самом начале, то есть скорее среди верхних слоев менее респектабельного общества, чем среди нижних слоёв более респектабельного, будь то старшеклассники или малыши.
Похвалы доктора Скиннера он за всё время учёбы удостоился только за одно домашнее упражнение, и он доныне бережно хранит его как лучший в своей жизни образец сдержанного одобрения. Задание было написать алкеевой строфой сочинение на тему «Собаки монахов св. Бернара»; получив свою работу обратно, Эрнест обнаружил на ней надпись рукой доктора Скиннера: «Б этом сочинении – чрезвычайно, несмотря ни на что, плохом – я могу, как мне кажется, различить слабые симптомы прогресса». Эрнест говорит, что если сочинение и получилось хоть сколько-нибудь лучше обычного, то чисто случайно, ибо он всегда любил собак, особенно сенбернаров, слишком сильно, чтобы получать удовольствие от писания сочинений о них, да ещё алкеевой строфой.
– Вспоминая сейчас всё это, – буквально на днях сказал он мне, от души посмеявшись, – я больше уважаю себя за то, что ни разу не получил высшую оценку за домашнее задание, чем если бы получал за все без исключения. Я рад, что не было такой силы, которая заставила бы меня заниматься латинскими и греческими стихами; я рад, что Скиннер никогда не мог оказать на меня морального влияния; я рад, что ничего не делал в школе; я рад, что отец в детстве нагружал меня занятиями сверх меры; а то ведь я мог поддаться надувательству и написать сочинение алкеевой строфой о собаках монахов святого Бернара не хуже, чем мои ближние; впрочем, не знаю; помню, один мальчик сдал какое-то там латинское сочинение, а для себя написал вот что:
Собаки монахов святого Бернара
Несутся детишек спасать от пожара.
У каждой на шее бутылочка джина,
Болтаясь, висит на шнурке из резины.
– Хотел бы я написать такое, я даже попытался как-то, но не сумел. Последняя строка мне не очень нравилась, я хотел поправить, но у меня не получилось.
Мне показалось, что я уловил в тоне Эрнеста некий оттенок горечи по отношению к наставникам его юности, и я высказался в этом смысле.
– О, нет, – отвечал он, по-прежнему смеясь, – горечи не больше, чем у святого Антония по отношению к искушавшим его бесам, когда он встретился с ними запросто лет сто или двести спустя. Он, понятно, знал, что они бесы, ну так и что? Должен же кто-то быть бесом! Может статься, святой Антоний относился к этим конкретным бесам лучше, чем ко всем другим, и ради старого знакомства оказал им снисхождение, насколько позволял этикет.
– Кроме того, – добавил он, – святой Антоний и сам искушал бесов не меньше, чем они его, – ведь его своеобразная святость была для них неодолимым искушением. Строго говоря, пожалеть стоит именно их, а не его, потому что святой Антоний послужил им причиной искушения, и они пали, тогда как сам он устоял. Мальчишкой я был, думаю, крепкий орешек, не разбери-поймешь, и если когда-нибудь снова встречу Скиннера, то с удовольствием, как никому другому, пожму ему руку или сделаю для него что-нибудь хорошее.
Дома дела тоже пошли лучше; скандалы с Эллен и матушкой Кросс мало-помалу скрылись за горизонтом, а он, к тому же, стал старостой, и теперь даже дома мог наслаждаться покоем. Впрочем, недремлющее око и хранящая десница по-прежнему дежурили на всех входах и выходах и стерегли его на всех его стезях. Не чудно ли, что у мальчика, всегда старавшегося делать вид, что ему хорошо и радостно, да и на самом деле порой чувствовавшего себя так, часто, особенно когда он думал, что его не видят, появлялось на лице тревожное, затравленное выражение, свидетельствовавшее о непреходящем внутреннем конфликте?
Теобальд, конечно же, это выражение замечал и понимал, но ведь такова его профессия – уметь замечать, но закрывать глаза на то, что вызывает неудобства; ни один священник и месяца не удержится на своём бенефиции, если этого не умеет; кроме того, за долгие годы он очень хорошо приучился говорить то, чего говорить не следовало, и не говорить, что следовало бы сказать, и теперь ему было трудно видеть то, что он считал более удобным не видеть, разве что по принуждению.
А нужна-то от него была самая малость. Не наводить тень на плетень там, где по природе ясный день, хоть как-то управлять порывами своей «совести», немножко отпустить Эрнесту поводья, поменьше мучить вопросами, давать ему карманные деньги с пожеланиями, чтобы он потратил их на невинные удовольствия…
– Хорошенькая малость, – рассмеялся Эрнест, когда я прочитал ему только что написанное. – Да это же просто весь отцовский долг! Но самое худшее зло – это когда наводят тень на плетень. Если бы люди решились разговаривать друг с другом открыто и без всяких там подтекстов, через каких-нибудь сто лет в мире было бы гораздо меньше страданий.
Но вернёмся в Рафборо. В последний день, когда его вызвали в библиотеку, чтобы пожать руку, он с удивлением обнаружил, что, хотя и безусловно рад покинуть школу, но никакого особенного зуба на доктора Скиннера не имеет. Он прошёл свой путь до конца и вот, жив и даже, если брать по кругу, не в большем убытке, чем другие. Доктор Скиннер принял его благосклонно и даже по-своему игриво. Молодёжь обычно незлопамятна, и Эрнест подумал, что ещё одно такое собеседование, и не только все его былые обиды оказались бы смыты, но и сам он очутился бы в стане почитателей и сторонников доктора, среди которых, отдадим дань справедливости, находилось немало самых многообещающих мальчиков.
Перед тем как попрощаться, доктор снял с одной из полок, внушавших Эрнесту шесть лет назад такой ужас, книгу и подарил ему, надписав своим именем и словами Philias kai eunoias charhin, которые, насколько я понимаю, означают «с наилучшими пожеланиями от дарителя»[160]160
Букв. перевод: «ради любви и благосклонности» (греч.).
[Закрыть]. Книга была написана по-латыни неким немцем – Шоманном – и называлась «De comitiis Atheniensibus» — не то, чтобы лёгкое и приятное чтиво, но Эрнест почувствовал, что пришло время изучить Афинскую конституцию и избирательную систему; он уже много раз к ним подступался, но неизменно всё забывал с такой же скоростью, с какой запоминал; а вот теперь, коли уж доктор подарил ему эту книгу, он овладеет сим предметом раз навсегда. Но ведь как странно! Он очень хочет запомнить всё это, он точно знает, что очень хочет, но никак не может удержать в памяти; как ни старайся, только запомнишь – и уже забыл – такая ужасная память! И в то же время стоит кому-нибудь что-нибудь сыграть и сказать, откуда эта музыка, и он уже никогда этого не забывает, хотя никаких усилий удержать в памяти не прикладывает, да даже и не осознаёт, что пытается запомнить. Как-то неладно скроен его ум, а сам он ни на что не годен.
Надо было убить ещё немного времени до поезда, и он взял ключи от церкви святого Михаила и пошёл туда, чтобы напоследок поиграть на органе, который он к тому времени очень неплохо освоил. Он немного походил в задумчивости взад и вперёд по проходу, а потом сел за орган и шесть раз подряд сыграл «Не могли пить воды из реки»[161]161
«They loathed to drink of the river» (Исх 7:21), хорал из оратории Генделя «Израиль в Египте».
[Закрыть], после чего почувствовал себя собраннее и веселее; затем, с трудом оторвавшись от столь любимого инструмента, поспешил на вокзал.
Из окна отходившего от высокого перрона поезда он увидел маленький домик, который снимала его тётушка и в котором, можно сказать, отдала жизнь ради желания сделать ему добро. Вон они, те две до боли знакомых арки, через которые он так часто проскакивал, чтобы бежать в мастерскую. Он поругал себя за то, что проявлял так мало благодарности к этой доброй женщине – единственной из всех его родственников, кого он, кажется, мог бы облачить своим доверием. Но при всём уважении к её памяти он был рад, что она не узнала обо всех тех напастях, которые навалились на него после её смерти; может быть, она бы его за них не простила – ужасная мысль! С другой стороны, не умри она, и может быть, многие из бед его бы миновали. От этих мыслей ему снова стало грустно. Когда же, когда и где, спрашивал он себя, всё это кончится? Что же, так это и будет всегда, как и было всегда – грех, и позор, и тоска, и – невыносимым гнётом – недремлющее око и хранящая десница отца – или и ему однажды доведётся испытать радость и благополучие?
Солнце подёрнулось сероватой дымкой, так что глазу не было больно от его сияния, и Эрнест в своей задумчивости смотрел прямо ему в лицо, как кому-то знакомому и любимому. Поначалу его лицо выглядело суровым, хотя и добрым, как у усталого человека, только что окончившего долгий труд, но через несколько секунд Эрнесту явлена была комическая сторона его несчастий, и он заулыбался весело и вместе укоризненно, думая о том, как, в сущности, мелко всё случившееся с ним и как ничтожны его невзгоды по сравнению с невзгодами большинства живущих на этом свете. Всё ещё глядя солнцу в глаза и мечтательно улыбаясь, он вспомнил, как помогал сжигать чучело своего отца, и его взгляд всё веселел, пока он не разразился смехом. В тот же миг солнце выглянуло из-за облаков, и поток его лучей вернул Эрнеста с небес на землю. Тут он обнаружил, что за ним внимательно наблюдает сосед по купе – сидевший напротив пожилой джентльмен с проседью на крупной голове.
– Мой юный друг, – сказал он радушно, – в общественном транспорте не полагается вести разговоры с фантомами, хотя бы и на солнце[162]162
Простите, читатель, но мы не можем придумать ничего лучше для перевода этой чисто английской шутки. Незнакомец говорит о «людях на солнце», перефразируя английское присловье «человек на луне», что означает несуществующее лицо или человека не от мира сего.
[Закрыть].
Больше пожилой джентльмен ни слова не сказал, а развернул свой «Таймс» и углубился в чтение. Эрнест же побагровел до кончиков ушей. Весь остаток пути они не разговаривали, но время от времени поглядывали друг на друга, так что в памяти каждого запечатлелось лицо другого.
Глава XLV
Некоторые утверждают, что школьные годы были счастливейшими в их жизни. Может, у кого-то так оно и было, но я всегда смотрю на таких людей с подозрением. Точно сказать, счастлив ты или несчастен даже и в нынешнее время, – и то достаточно трудно, а как можно сравнить в относительных величинах состояние счастья или несчастья в разные периоды твоей жизни? Самое большее, что мы можем в этой связи сказать, это то, что вправе считать себя вполне счастливыми, если не ощущаем отчётливо, что несчастны. Недавно я говорил об этом с Эрнестом, и он сказал, что в настоящее время счастлив так, как не был никогда, и быть ещё счастливее не желает, но что Кембридж – первое место, где он был счастлив долго и осознанно.
Какой мальчик не испытает восторга, поселившись в месте, которое на ближайшие несколько лет станет его крепостью? Никто не заставит его покинуть облюбованный уголок из-за того, что папе или маме случится войти в комнату и потребовать этот обустроенный уголок для себя. Самое уютное кресло тут – для него, никто не будет делить с ним его комнату, не помешает ему делать в ней всё, что он захочет, – в том числе и курить. Пусть эта комната даже окнами на глухую стену – всё равно это рай, а что говорить, если оттуда открывается вид на какую-нибудь зелёную лужайку, или колоннаду, или тенистый сад, как из окон большинства комнат в Оксфорде и Кембридже.
Теобальд как бывший стипендиат и преподаватель Эммануэль-колледжа, куда он определил и Эрнеста, сумел договориться с деканом о том, что Эрнесту будет предоставлено некоторое преимущество в выборе жилья, и потому это жилище оказалось очень славным, с окнами на ухоженный травянистый дворик, граничивший со стипендиатскими садами.
Теобальд сопровождал Эрнеста в Кембридж, и во всё время поездки держался молодцом. Поездка была для него приятным развлечением, к тому же даже и ему не было чуждо известное чувство гордости за взрослого сына, поступившего в университет. Сиянием своей славы он благоволил частично озарить и самого Эрнеста. Он хочет надеяться, сказал Теобальд, что теперь, окончив школу, его сын перевернёт новую страницу – образчик его излюбленных штампов, – а ему, со своей стороны, более чем желательно, чтобы былое – ещё один штамп – быльём поросло.
Эрнеста ещё не занесли в списки, и ему было позволено пообедать с Теобальдом в преподавательской столовой одного из соседних колледжей по приглашению старого отцовского приятеля. Там он впервые отведал кое-какие прелести жизни, самые названия которых были для него в новинку, и, поедая их, ощущал, что вот теперь-то он и начал по-настоящему получать гуманитарное образование. Наконец, настало время отправляться в Эммануэль, в своё собственное жилище, и Теобальд проводил его до ворот и проследил, чтобы он благополучно добрался до места; ещё несколько минут – и вот он один, в своей комнате и со своим ключом.
С того дня он отсчитал ещё немало дней если и не вовсе безоблачных, то в целом вполне счастливых. Описывать их мне нужды нет, ибо жизнь спокойного, уравновешенного студента описана в десятках романов, причём описана гораздо лучше, чем было бы в моих силах. Кое-кто из бывших эрнестовых однокашников прибыл в Кембридж одновременно с ним, и он поддерживал с ними приятельские отношения во всё время его университетской жизни. Нашлись бывшие однокашники и среди студентов второго и третьего курсов; они тут же объявились, и так его вхождение в жизнь колледжа прошло достаточно гладко. Некоторая неуклюжесть и нехватка savoir faire[163]163
Находчивость, такт, умение выходить из трудного положения (фр.).
[Закрыть] компенсировались в нём прямолинейностью характера, написанной на его лице, чувством юмора и душевной склонностью скорее уступать, чем затевать свары. Скоро он приобрёл популярность в верхах своего курса и, хотя сам не имел ни способностей, ни желания становиться лидером, был принят лидерами в число своих приближённых.
Честолюбивых замыслов в то время он не лелеял никаких; выдающиеся достижения или просто превосходство в чём бы то ни было оставались для него понятиями столь далёкими и непостижимыми, что ему и в голову не приходило связывать их с собою. Когда ему удавалось не привлекать к себе внимания со стороны тех, с кем он не чувствовал себя en rapport, он воспринимал это как достаточную для себя победу. Он не заботился о высоких отметках, а лишь о таких, что удовлетворили бы его родителей. Он не считал, что сумеет когда-либо стать стипендиатом фонда; а если бы считал, то приложил бы к этому все усилия, ибо полюбил Кембридж настолько, что даже мысль о расставании с ним была невыносима; одним словом, если что и удручало его в университете, так это быстротекучесть самого счастливого отрезка его жизни.
Не имея более нужды заботиться о физическом росте и развитии, он направил освободившиеся силы своей души на занятия и немало в них преуспел – не то чтобы ему это нравилось, просто так было надо, так ему велели, а его природный инстинкт, присущий всякому молодому и к чему-либо способному человеку, заставлял его поступать так, как велели люди знающие. В Бэттерсби было определено для него целью (поскольку доктор Скиннер сказал, что Эрнесту никогда не стать стипендиатом фонда) получить диплом с оценками достаточно высокими для того, чтобы на время подготовки к принятию сана получить место воспитателя или преподавателя в какой-нибудь школе. По достижении им двадцати одного года он вступит в полное владение своими деньгами, и самым лучшим способом ими распорядиться будет приобрести кандидатство на бенефиций и жить на школьное жалование, пока не откроется вакансия на собственно бенефиций. На деньги, которые накопятся к тому времени из наследства деда, уже теперь выросшего до пяти тысяч фунтов, он сможет приобрести очень хороший бенефиций, ибо Теобальд на самом деле не собирался удерживать из этих денег на его содержание и образование, а только так говорил, чтобы заставить мальчика трудиться как можно старательней, внушая ему, что это его единственный шанс не умереть с голоду, – а может быть, просто из охоты поиздеваться.
Когда Эрнест будет иметь 600 или 700 фунтов в год плюс дом и не слишком много прихожан, ну что ж, тогда он сможет подрабатывать, давая частные уроки или даже открыв школу, а лет, скажем, в тридцать сможет и жениться. Придумать какой-нибудь более разумный план Теобальду было нелегко. Он не мог ввести Эрнеста в какой-нибудь бизнес, ибо не имел деловых связей и, кроме того, сам понятия не имел, что такое бизнес; в адвокатской среде у него тоже не было знакомых; медицинская профессия подвергает человека таким испытаниям и искушениям, допустить к которым своего сыночка сии любящие родители и думать не хотели; он окажется в такой компании и познакомится с такими сторонами жизни, которые могут его испортить; конечно, он может и устоять, но «слишком велика вероятность», что падёт. Кроме того, принятие сана было той дорогой, которую Теобальд знал и понимал, единственной, собственно говоря, дорогой, в которой он хоть как-то разбирался, – и, следственно, его естественным выбором для Эрнеста.
Всё вышеизложенное внушалось моему герою с раннего детства, как в своё время самому Теобальду, и с тем же результатом, именно же, он воспринял как данность, что ему суждено стать священнослужителем, но ещё не скоро, а пока пусть будет как есть. Что же до необходимости серьёзно заниматься и получить диплом с возможно лучшими оценками, то с этим всё было ясно, так что он крепко взялся за учёбу и к всеобщему, равно как и к своему собственному, удивлению, уже на первом курсе удостоился стипендии от колледжа, не Бог весть какой, но всё же стипендии. Я вряд ли кого-то удивлю, если скажу, что все эти деньги осели в кармане у Теобальда, ибо он считал, что выдаваемого Эрнесту на карманные расходы вполне достаточно и, кроме того, знал, как опасно для молодого человека иметь лишние деньги. Я не думаю, чтобы ему пришло в голову припомнить собственное самочувствие, когда его отец поступал подобным образом с ним самим.
В этом смысле Эрнест пребывал в таком же примерно положении, как и в гимназии, разве в более крупном масштабе. Репетиторов и питание за него оплачивали; вино присылал отец; сверх всего этого у него было 50 фунтов в год на одежду и прочие расходы; это было вполне нормально в Эммануэле в бытность там Эрнеста, многие имели гораздо меньше. И тем же манером, как и в гимназии, он всё, что мог, вскорости по получении денег тратил, затем делал скромные долги, а потом жил скудно до конца семестра и тогда отдавал немедленно все свои долги, и скоро влезал в новые, примерно в тех же суммах, которые только что выплатил. Когда он вошёл в своё пятитысячное наследство и стал независим от отца, пятнадцати-двадцати фунтов хватало, чтобы покрыть все его сверхбюджетные расходы.
Он вступил в яхт-клуб и посещал его регулярно. Он по-прежнему курил, но вином или пивом не злоупотреблял, разве что однажды на ужине в яхт-клубе, и тогда последствия ему не понравились, и он скоро научился соблюдать меру. В церковь он ходил настолько часто, насколько было необходимо; причастие принимал два или три раза в год, и то только потому, что так посоветовал ему его наставник; короче говоря, он принял для себя образ жизни в трезвости и чистоте, к чему, подозреваю, склоняли его все его инстинкты, а когда ему случалось пасть – ибо кто из рождённых женами[164]164
Ср. Мф 11:11; Лк 7:28.
[Закрыть] может этого избежать? – то лишь после жестокой схватки с искушением, в которой его плоть и кровь устоять не могли; после этого он страшно раскаивался и довольно долго сторонился греха; и так оно и шло, и так сохранилось у него навсегда с тех самых пор, как он вошёл в возраст безрассудств.
До самого конца своей кембриджской карьеры он не осознавал, что обладает способностями к любому делу; но другие стали замечать, что ему не занимать таланта, и иногда говорили ему об этом. Он не верил; он точно знал, что если кто-то считает его умным, то только по недоразумению, хотя ему нравилось, что он умеет пускать людям пыль в глаза, и он старался делать это и дальше; для этого он зорко выискивал всякий новомодный сленг, чтобы подхватить его и пустить при случае в оборот; он мог бы этим немало себе навредить, если бы не готовность в любой момент отбросить этот сленг и взять на вооружение новый, более пригодный для пускания пыли. Друзья говаривали, что когда он взлетал, то сначала носился, как бекас, ныряя несколько раз из стороны в сторону, пока не выходил на прямой полёт, и тогда уже держался твёрдого курса.








