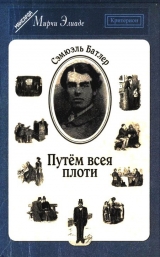
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
Глава LXXIX
Теперь встал вопрос о том, что делать с детьми. Я объяснил Эрнесту, что расходы на них должно брать из тех денег, и показал, какую незначительную прореху в моём доходе произведут все предлагаемые мною вычеты. Он было заартачился, но я его осадил, указав на то, что деньги достались мне от его тётушки и через его голову, и напомнив, что между мной и ею была договорённость о том, что я буду по мере необходимости делать именно то, что и делаю.
Он хотел, чтобы его дети росли на чистом и свежем воздухе среди других детей, счастливых и всем довольных; ничего, однако же, по-прежнему не зная об ожидавшем его состоянии, он настаивал, чтобы ранние свои годы они провели среди бедных, а не среди богатых. Я возражал, он был непреклонен; а я, поразмыслив, что они незаконнорожденные, уже не мог бы поклясться, что предложенный им выход – не самый, в конечном итоге, лучший для всех. Они ещё настолько малы, что им, в общем-то, всё равно, где быть, лишь бы только с заботливыми, приличными людьми в здоровом окружении.
– Я не хочу творить такое же зло своим детям, как мой дед моему отцу и отец мне. Если им не удалось сделать так, чтобы дети их любили, я даже не буду и пытаться. Я постараюсь сделать так, чтобы они никогда не узнали, как ненавидели бы меня, если бы им пришлось иметь со мной дело, но это всё, что я могу. Если мне суждено загубить все их жизненные перспективы, лучше уж я сделаю это заблаговременно, пока они ещё малы и ничего не поймут.
Он помолчал немного и прибавил со смешком:
– С самого начала, за три четверти года до своего рождения, человек вступает в спор со своим отцом. Именно тогда он настаивает на учреждении раздельного существования. И как только согласие достигнуто, чем полнее и окончательнее разделение между ними, тем лучше для обоих. – И потом, уже более серьёзно: – Я хочу поместить детей туда, где они будут здоровы и счастливы и где не испытают предательство ложных надежд.
Он вспомнил, что во время своих воскресных походов не раз встречал супружескую пару, жившую на побережье в нескольких милях ниже Грейвзенда, там, где начинается море; эти, подумал он, могли бы подойти. У них были свои дети, причём совершенно цветущие с виду; отец с матерью были зрелые люди, очень приятные в обращении, и в их руках у малышей были все шансы нормально расти и развиваться.
Мы навестили эту пару у них дома, и мне они понравились не меньше, чем Эрнесту. Мы предложили им фунт в неделю за то, чтобы они заботились о детях и растили их, как своих собственных. Они предложению обрадовались, и на другой день мы привезли к ним детей и оставили у них на руках с чувством выполненного долга – выполненного настолько хорошо, насколько, во всяком случае, на это время, было вообще возможно. После этого Эрнест отправил остававшийся у него товар к Дебенхэму, выехал из дома, который он снял два с половиной года тому назад, и вернулся к цивилизации.
Я ожидал, что здоровье его теперь быстро пойдёт на поправку, однако с тревогой заметил, что ему становится всё хуже. Вскорости его вид стал уже настолько болезненным, что я заставил его поехать со мной в Лондон и показаться одному из знаменитейших врачей. Доктор сказал, что острого заболевания у моего юного друга никакого нет, а есть нервный срыв – результат долгих и тяжёлых душевных переживаний; средств против этого нет никаких, а только время, достаток и покой.
Он сказал, что Эрнест неизбежно должен был сорваться, но позже, а несколько месяцев мог бы ещё протянуть. Выбила же его теперь из колеи внезапность освобождения от душевного гнёта.
– Встряхните его, – сказал доктор, – и немедленно! Это великое научное достижение в медицине нашего века – встряска. Вытряхните его из себя и вбейте в него что-нибудь другое.
Я не сказал ему, что деньги для нас не предмет затруднений, а он, думаю, счёл меня не весьма богатым. Он продолжал:
– Зрение – форма восприятия, восприятие – разновидность питания, питание – способ усвоения, усвоение – условие восстановления сил и воспроизведения, что и есть встряска – перетряхивание себя в нечто иное, а чего-то другого – в себя.
Он явно забавлялся, но при этом было совершенно очевидно, что он говорит серьёзно. Он продолжал:
– Ко мне постоянно приходят люди, которым необходима встряска или изменение, если хотите, но у которых, как мне известно, не хватит денег, чтобы убраться из Лондона. Это заставило меня задуматься – как их лучше всего встряхнуть, даже если они не могут оставить дом – и я составил список недорогих лондонских развлечений, и теперь рекомендую их своим пациентам; ни одно из них не обходится дороже нескольких шиллингов и не занимает больше одного дня, а то и половины.
Я заверил его, что это не тот случай, когда следует говорить о деньгах.
– Рад слышать, – отвечал он, по-прежнему забавляясь. – Гомеопаты используют аурум[256]256
Химическое название золота.
[Закрыть] в качестве лекарства, но они не дают его в достаточно крупных дозах; если вы сможете лечить вашего юного друга с помощью его щедрой дозировки, он скоро поправится. Однако мистер Понтифик недостаточно здоров, чтобы пережить такую радикальную перемену, как поездка за границу; из сказанного вами я заключаю, что перемен в его жизни в последнее время было предостаточно. Если ему сейчас отправиться за границу, он серьёзно заболеет, не пройдёт и недели. Надо подождать, пока у него немного повысится тонус. Попробую начать с моих лондонских снадобий.
Он немного подумал и сказал:
– Очень полезным для многих моих пациентов оказался Зоологический сад. Я прописал бы мистеру Понтифику курс крупных млекопитающих. Не надо, чтобы он думал, будто принимает их как лекарство, а просто пусть с полмесяца походит к ним дважды в неделю, пусть просто побудет с гиппопотамами, носорогами и слонами, пока они ему не надоедят. Я выяснил, что эти звери приносят моим больным больше пользы, чем другие. Обезьяны – не слишком сильная встряска, они не дают достаточной стимуляции. Крупные хищники лишены сострадания. Рептилии хуже, чем бесполезны, и сумчатые не намного лучше их. Опять-таки, птицы, если не считать попугаев, не очень полезны; он может поглядеть на них иной раз, но как можно больше времени ему следует якшаться со слонами и бегемотами.
И вот ещё – чтобы избежать однообразия, я бы перед зоосадом отправил его, скажем, на утреннюю службу в Аббатство. Не обязательно оставаться дольше, чем на Тедеум[257]257
«Te Deum Laudamus» («Тебе, Бога, хвалим», лат.), благодарственный молебен.
[Закрыть]. Не знаю почему, но Юбилате[258]258
Торжественная песнь на стихи 99-го псалма.
[Закрыть] редко дают удовлетворительные результаты. Пусть просто два-три раза, не больше, заглянет перед зоосадом в Аббатство и посидит тихонько в Уголке поэтов[259]259
Там, где похоронены великие английские поэты начиная с Джефри Чосера.
[Закрыть].
А на следующий день отправьте его на пароходе в Грейвзенд. Вечерами пусть непременно ходит по театрам – а через две недели пожалуйте ко мне.
Не будь доктор такой знаменитостью, я усомнился бы в его серьёзности, но я знал его за человека делового, который не станет зря терять время – ни своё, ни пациентов. Выйдя от него, мы тут же взяли извозчика до Регент-парка и часа два фланировали перед различными вольерами. Может быть, это было результатом того, что сказал мне доктор, но я явно испытывал небывалые дотоле ощущения. В меня как бы вливалась новая жизнь или, может быть, новые взгляды на жизнь – что, в сущности, одно и то же. Я понял, что доктор был совершенно прав, считая крупных млекопитающих самыми полезными из всех животных; я наблюдал, как Эрнест, который ведь слов доктора не слышал, инстинктивно задерживался у их клеток. Слоны же, и особенно слонята, как бы одаривали его своей жизнью, и он пил её большими глотками, восстанавливая и воссоздавая свою собственную.
Мы пообедали в открытом кафе, и я с радостью заметил, что аппетит у Эрнеста уже улучшился. С тех пор всякий раз, когда мне не по себе, я тут же отправляюсь в Регент-парк, и мне неизменно становится лучше. Я это здесь упоминаю к тому, что вдруг кто-нибудь из моих читателей да воспользуется этим советом.
По окончании своих двух недель мой герой значительно поздоровел – так, как доктор и сам не ожидал.
– Вот теперь, – сказал он, – мистер Понтифик может ехать за границу, и чем скорее, тем лучше. Пусть пару месяцев покатается.
Так Эрнест впервые услышал о своей заграничной поездке, и сразу начал говорить, что я не могу себе позволить отпустить его так надолго. Я очень быстро навёл порядок.
– Теперь начало апреля, – сказал я ему. – Поезжай в Марсель, оттуда на пароходе в Ниццу. Там прогуляйся по Ривьере до Генуи, из Генуи во Флоренцию, в Рим и Неаполь, а возвращайся через Венецию и Итальянские озёра.
– А вы разве не поедете? – спросил он напряжённо.
Я отвечал, что отчего бы, мол, не поехать, и мы прямо с утра начали приготовления; через несколько дней мы были готовы.
Глава LXXX
Мы выехали вечерней почтовой каретой, а в Дувре пересели на паром. Вечер стоял мягкий, над морем висела яркая луна.
– Как вам этот мазутный запах от парома? Не правда ли, он как-то вселяет надежду, – сказал мне Эрнест – ведь он однажды летом, в детстве, с отцом и матерью ездил в Нормандию, и запах унёс его в прошлое, в те дни, когда огромный внешний мир ещё не начал отбивать ему бока. – Мне всегда кажется, что едва ли не самая лучшая часть заграничной поездки – это первый хлопок поршня и первый всплеск воды от удара лопасти.
Как в сонном тумане, мы высадились в Кале и потащились с поклажей по улицам чужого города в час, когда люди обыкновенно лежат в глубоком сне в своей постели; но лишь только уселись в поезд, мы тут же и заснули и проспали Амьен. Проснувшись в тот час, когда первые знаки утренней свежести только начинают давать о себе знать, я увидел, что Эрнест с острым, прочувствованным любопытством уже пожирает глазами всякий проплывающий мимо предмет. Ни пейзанин в блузе, спозаранок направляющийся в своей повозке на рынок, ни жена сигнальщика в мужниной шляпе и плаще, размахивающая зелёным флажком, ни пастух, выгоняющий овец на росистые пастбища, ни открывающиеся цветки первоцвета на насыпи – ничто не ускользало от него, всё впитывал он с наслаждением, для которого нет слов. Тянувший нас паровоз назывался «Моцарт», и это тоже нравилось Эрнесту.
Около шести мы достигли Парижа, как раз вовремя, чтобы пересечь город и успеть на утренний экспресс до Марселя; но уже к полудню мой юный друг совсем утомился и впал в спячку; он спал подолгу, а просыпался изредка и лишь на час-полтора, не больше. Поначалу он старался побороть сон, но потом нашёл себе оправдание: это так хорошо – иметь так много удовольствия сразу, что он может себе позволить растранжирить даже и очень большую его часть. Найдя теорию для самооправдания, он предался сну с миром.
В Марселе мы сделали остановку, и, как я втайне и опасался, перевозбуждение от внезапных перемен оказалось слишком сильно для всё ещё не окрепшего организма моего крестника. Несколько дней он проболел не на шутку, но потом поправился. Что до меня, я нахожу болезнь одним из больших наслаждений жизни, при условии, конечно, что тебе не очень плохо, и ты не должен работать, пока не оправишься. Помню, как однажды я заболел, находясь в отеле за границей – это было такое удовольствие! Лежать себе, ни о чём не заботясь, в тишине и тепле, без малейшей тяжести на душе, слушать далёкое позвякивание тарелок на кухне под рукой споласкивающей и убирающей их в шкаф судомойки; следить взглядом мягкие тени и блики на потолке от прячущегося за облака и вновь выходящего солнца; слушать мирное журчание фонтана внизу, во дворе, и звон колокольчиков на сбруе лошадей, и цоканье их копыт о землю, и шлепки хвостом по бокам, отгоняющие назойливых мух; не просто быть лотофагом[260]260
Описанное в «Одиссее» племя поедателей лотоса, дающего забвение прошлого.
[Закрыть], но и знать, что твой долг – быть лотофагом. «Ах, – думалось мне, – если бы сейчас, забывши все заботы, уснуть навек, – не было бы это лучшим даром судьбы, на какой я только могу надеяться?»
Было бы, было бы, но только предложи его нам, и мы не примем. Мы уж лучше смиримся с любым злом, какое бы нас ни постигло, и постараемся его пережить.
И теперь я видел, что и Эрнест чувствует себя так, как когда-то чувствовал себя я. Он мало говорил, но всё замечал. Однажды он меня напугал. Только начинало темнеть, когда он подозвал меня к своей постели и тихо и печально сообщил, что хочет что-то мне сказать.
– Я тут подумал, – сказал он, – что, возможно, не встану после этой болезни, так вот, если это случится, я хочу, чтобы вы знали, что на душе у меня только одна забота. Я говорю, – он капельку помолчал, – о своём поведении в отношении отца с матерью. Я был с ними слишком добр. Я слишком принимал их во внимание. – И тут он не сдержал улыбки, ясно доказавшей, что ничего серьёзного с ним нет.
На стенах его спальни висели гравюры времён Французской революции, изображавшие сцены из жизни Ликурга. Там были «Grandeur d’âme de Lycurgue», «Lycurgue consulte l’oracle» и потом ещё «Calciope à la Cour»[261]261
«Величие души Ликурга», «Ликург вопрошает оракула», «Кальсиопея при дворе».
[Закрыть]. Под этой последней была надпись по-французски и по-испански:
«Modèle de grâce et de beauté, la jeune Calciope non moins sage que belle avait mérité l’estime et l’attachement du vertueux Lycurgue. Vivement épris de tant de charmes, l’illustre philosophe la conduisait dans le temple de Junon, oú ils s’unirent par un serment sacré. Après cette auguste cérémonie, Lycurge s’empressa de conduire sa jeune épouse au palais de son frère Polydecte, Roi de Lacédémon. Seigneur, lui dit-il, la vertueuse Calciope vient de recevoir mes voeux aux pieds des autels, j’ose vous prier d’approuver cette union. Le Roi temoigna d’abord quelque surprise, mais l’estime qu’il avait pour son frère lui inspira une réponse pleine de bienveillance. Il s’approcha aussitôt de Calciope qu’il embrassa tendrement, combla ensuite Lycurgue de prévenances et paru très satisfait»[262]262
«Образец изящества и красоты, юная Кальсиопея, не менее благоразумная, чем прекрасная, удостоилась уважения и привязанности со стороны добродетельного Ликурга. Глубоко пленившись столькими прелестями, прославленный философ отправился с ней в храм Юноны, где они были соединены священной клятвой. После этой торжественной церемонии Ликург поспешил привести юную супругу во дворец своего брата Полидекта, царя Лакедемонии. „Господин, – сказал он, – добродетельная Кальсиопея только что приняла мои обеты у подножия алтаря, и я осмеливаюсь испрашивать Вашего одобрения на этот союз“. Поначалу царь обнаружил некоторое удивление, однако уважение к брату внушило ему ответ, полный благорасположения. Он тотчас приблизился к Кальсиопее и нежно поцеловал её, затем же обращался с Ликургом крайне предупредительно и казался очень довольным» (фр.).
[Закрыть].
Он указал мне на эту надпись и несколько испуганно сказал, что уж лучше Эллен, чем Кальсиопея. Я увидел, что он выздоравливает, и не замедлил предложить через день-другой продолжить наше путешествие.
Не стану утомлять читателя, проводя его с собою по хорошо хоженым тропам. Мы останавливались в Сиене, Кортоне, Орвието, Перудже и многих других городах, а после двух недель, поделенных между Римом и Неаполем, отправились в Венецианские области и, посетив все эти волшебные городки, что лежат между северными склонами Альп и южными – Апеннин, вернулись через Сан-Готард. Не уверен, что Эрнест наслаждался путешествием более моего, но лишь к моменту нашего возвращения его силы восстановились настолько, что его можно было назвать вполне здоровым, и только по прошествии месяцев он утратил, наконец, ощущение ран, нанесённых ему последними четырьмя годами, утратил настолько, что мог ощущать уже одни лишь шрамы, и только.
Говорят, когда люди теряют руку или ногу, они долго ещё по временам чувствуют боль в несуществующей конечности. Боль, о которой Эрнест почти забыл, вернулась к нему по возвращении в Англию – это жало тюремного заключения. Пока он был всего лишь мелким лавочником, оно ничего не значило; никто о нём не знал, а если бы даже знали, так и пусть; теперь же, хотя он возвращался к прежнему своему положению, он возвращался опозоренным, и боль, от которой он был в предыдущем случае защищён окружением столь для себя новым, что вряд ли и осознавал, находясь в нём, кто он таков, эта боль теперь была, как боль от раны, нанесённой вчера.
Он думал о своих высоких устремлениях и планах, которые строил в тюрьме, – как он будет использовать свой позор как аванпост силы, а не замазывать его. «Хорошо было рассуждать об этом тогда, – думал он про себя, – когда до винограда было не дотянуться, а каково сейчас?» Кроме того, только самодовольный болван может ставить себе высокие цели и пребывать при благих намерениях.
Некоторые из его старых знакомых, прослышав, что он избавился от так называемой жены и теперь опять не стеснён в средствах, захотели возобновить знакомство; он испытывал к ним благодарность и порой пытался сделать полшага им навстречу, но этого было всегда мало, и вскорости он опять ушёл в себя, притворившись, будто никого из них не знает. Он был обуян инфернальным бесом честности, который нашёптывал ему: «Эти люди знают многое, но не всё, ибо, если бы знали всё, отвернулись бы от меня – и потому я не имею права водить с ними знакомство».
Он думал, что все вокруг, кроме него одного, sans peur el sans reproche[263]263
Без страха и упрёка (фр.).
[Закрыть]. Разумеется, они должны быть такими, ведь не будь они такими, то разве не предупреждали бы всех имеющих с ними дело о своих изъянах? А он, что ж, он так не может, и потому не станет водить знакомство на ложных основаниях; и вот он оставил всякие попытки реабилитироваться и замкнулся в своих прежних занятиях музыкой и литературой.
Теперь, разумеется, он давно уже понял, как всё это было глупо – то есть глупо, говорю я, в теории, ибо на практике судьба распорядилась лучше, чем могла бы, охранив его от связей, которые могли бы повязать ему язык и заставить видеть успех не в том, в чём он, в конце концов, успеха достиг. Он делал то, что делал, инстинктивно и по единственной причине: это было для него самым естественным. В той мере, в какой он вообще думал, он ошибался, но то, что он делал, он делал правильно. Как-то раз, не очень давно, я сказал ему нечто в этом роде и также сказал, что он всегда целил высоко.
– Да никуда я и не целил вовсе, – отвечал он, чуть возмутившись, – и можете быть уверены, целил бы весьма низко, если бы думал, что мне вообще есть смысл целить.
В конечном итоге, полагаю я, ни один человек, у которого нет, скажем мягко, отклонений в мозгах, доныне не целил высоко с заранее продуманными злыми намерениями. Я однажды наблюдал, как муха села в чашку с горячим кофе, на поверхности которого образовалась тоненькая молочная пенка; муха осознала смертельную опасность, и я заметил, какими гигантскими шагами, с каким сверхмушиным усилием продвигалась она по предательской поверхности к кромке чашки – ибо на такой мягкой почве она с помощью одних только крыльев взлететь не могла. Наблюдая за мухой, я воображал, что в этот момент высшего напряжения сил, моральных и физических, смертельная опасность могла бы их удесятерить, и эта энергия могла бы даже передаться её потомству. Но ведь она, будь это в её власти, не захотела бы такого наращивания моральных сил, и уже никогда больше сознательно не сядет на горячий кофе.
Чем больше я наблюдаю, тем вернее знаю: неважно, почему люди поступают правильно, пока поступают правильно, и почему могли бы поступить неправильно, если бы поступили неправильно. Результат зависит от деяния, а побуждение ни при чём. Я читал где-то, не помню, где, как в одной сельской области случилась как-то великая нехватка продовольствия, так что бедняки страдали ужасно; многие прямо-таки поумирали от голода, трудности же испытывали все. А в одной деревне жила бедная вдова с малолетними детьми, которая, хотя по видимости и не имела никаких источников пропитания, выглядела по-прежнему упитанной и в добром расположении духа, и также её маленькие. И все вокруг дивились – как это им удаётся? Ясное дело, тут была какая-то тайна, и так же ясно, что недобрая, ибо всякий раз, как кто-нибудь намекал на её с детьми благополучие во время всеобщего голода, на лице бедной женщины появлялось смущённое, загнанное выражение; более того, порой видели, как в нехорошие ночные часы они выходили из дома и, по всей видимости, приносили домой что-то, что вряд ли можно добыть честным путём. Они знали, что находятся под подозрением, а поскольку дотоле имя их было незапятнанно, сильно от этого страдали, ибо, надо признаться, сами верили, что совершают нечто нехорошее, если не прямо злодейское; и всё же, несмотря ни на что, они процветали, тогда как все их соседи бедствовали.
Наконец, делу был дан ход, и приходской священник учинил бедной женщине перекрёстный допрос с таким пристрастием, что с обильными слезами и сознанием полного своего падения она призналась: они с детьми забирались в кустарник и собирали улиток, варили суп и ели – достойна ли она прощения? Есть ли хоть какая-то надежда на спасение для неё и детей, хоть на этом свете, хоть на том, после такого неестественного поведения?
И также я слышал об одной вдовствующей графине, все деньги которой находились в консолидированной ренте[264]264
Правительственные облигации в Великобритании, приносящие постоянные проценты и не имеющие обязательного срока погашения.
[Закрыть]; у неё было много сыновей, и в своём стремлении поставить на ноги младших она захотела получить дохода поболее того, что могли ей дать консоли. Она посовещалась со своим адвокатом, и тот посоветовал ей продать облигации и вложить деньги в «Лондон энд Норт-Уэстерн», чьи акции шли тогда по 85 на 100. Для неё пойти на это было так же ужасно, как для той бедной вдовы, о которой я только что рассказал, есть улиток. Стыдясь и скорбя, как тот, кто занят грязным делом, – но ведь надо же поставить мальчиков на ноги! – она поступила, как ей советовали. Долго ещё после этого она не могла спать по ночам, томимая призраком надвигающейся катастрофы. А что получилось? Она поставила мальчиков на ноги, и, к тому же, через несколько лет её вложения удвоились, и она продала все акции и перешла обратно в консоли и умерла со счастливым сознанием безгрешной полноты обладания своими капиталами.
Она искренне считала, что совершает нечто дурное и опасное, но дело тут решительно не в этом. Допустим, она вложила бы деньги, полностью доверившись совету какого-нибудь знаменитого лондонского брокера, а совет оказался бы никуда не годным, и она потеряла бы все деньги, и предположим, она делала бы всё это с лёгким сердцем и без малейшего сознания греха – сослужили бы ей хоть какую-нибудь службу отсутствие у неё дурных намерений и безупречная чистота её помыслов? Не сослужили бы.
Но вернусь к своему повествованию. Больше других беспокоил моего героя Таунли. Он, как я уже говорил, знал, что Эрнесту предстояло вскорости получить деньги, но Эрнест, естественно, не знал, что тот знает. Таунли и сам был богат, а теперь ещё и женат; Эрнесту предстояло скоро стать богатым, он уже предпринял честную попытку жениться и в будущем, несомненно, женился бы совершенно законно. Ради такого человека следовало потрудиться, и когда в один прекрасный день Таунли встретил Эрнеста на улице и последний хотел было улизнуть, Таунли со свойственной ему природной остротой прочёл его мысли, ухватил его, говоря в морально-переносном смысле, за загривок и весело вывернул наизнанку, сказавши, что такой чуши не потерпит.
Таунли был таким же кумиром Эрнеста, каким был всегда, и Эрнест, которого ничего не стоило растрогать, почувствовал к нему ещё больше благодарности и теплоты; но какое-то подсознательное нечто было в нём сильнее Таунли и понуждало моего героя порвать с ним решительнее, чем с кем бы то ни было на свете; он торопливо поблагодарил его тихим, сдавленным голосом и сжал его руку, и его глаза наполнились слезами, как ни старался он их сдержать.
– Если мы снова свидимся, – сказал он, – не смотрите на меня, но если впредь вы услышите, что я пишу то, что вам не по нраву, будьте ко мне по возможности великодушны.
На этом они расстались.
– Таунли – добрый малый, – сказал я сурово. – Тебе не следовало рвать с ним.
– Таунли, – отвечал он, – не просто добрый малый, а самый лучший без исключения человек, какого я только встречал в жизни, кроме – и он сделал мне комплимент – вас; в Таунли я вижу образец всего того, чем я больше всего хотел бы быть, – но между нами не может быть истинного товарищества. Я бы находился в постоянном страхе упасть в его глазах, если скажу что-нибудь, что ему не понравится, а у меня на уме очень много такого – и он несколько повеселел, – что Таунли не понравится.
Человек, как я уже говорил, может довольно-таки легко – в большинстве смыслов – отказаться от отца и матери ради Христа, но отказаться от таких людей, как Таунли, вовсе не легко.








