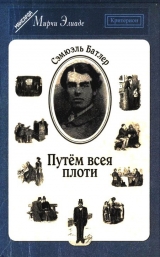
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Глава LXXXI
Итак, он отошёл от всех старых знакомых, за исключением меня и трёх-четырёх моих закадычных приятелей, из тех, кто непременно должен был бы понравиться ему так же, как и он им, и кто, вроде меня самого, мог наслаждаться общением с молодым и свежим умом. Эрнест занимался моей бухгалтерией, когда там было чем заниматься, что случалось редко, а большую часть оставшегося времени проводил над своими заметками и литературными пробами, которых накопилось в его папке уже немало. Всякий привычный к письму заметил бы, что литература назначена ему самой природой, и я с удовольствием наблюдал, как самопроизвольно он становится на этот путь. С меньшим удовольствием наблюдал я то, что он по-прежнему занимался только самыми серьёзными, чтобы не сказать «высшими», предметами, как не признавал ничего, кроме самой серьёзной музыки.
Я сказал ему как-то, что та очень скудная награда, которую Бог назначил за серьёзные изыскания, – достаточно веское доказательство того, что Он их не одобряет, или, по крайней мере, не придаёт им большого значения и не поощряет. Он ответил:
– Ах, ну зачем же говорить о награде! Посмотрите на Мильтона – за «Потерянный рай» он получил всего 5 фунтов.
– И того слишком для него много, – не замедлил откликнуться я. – Я бы заплатил ему вдвое больше из своего кармана, чтобы только он его не писал.
Эрнест был несколько шокирован.
– Ну, я-то, во всяком случае, – засмеялся он, – стихов не пишу.
Это был камешек в мой огород, ибо мои бурлески были, разумеется, рифмованы. Я оставил тему.
Через какое-то время ему взбрело в голову снова поднять вопрос о трёхстах фунтов в год за, сказал он, просто так; он решил, что найдёт себе какое-нибудь занятие, которое принесёт ему достаточно денег на жизнь.
Я над этим посмеялся, но возражать не стал. Он старался, и очень старался, и очень долго старался, но – надо ли говорить? – у него ничего не вышло. Чем старше я становлюсь, тем вернее убеждаюсь в глупости и легковерии публики; но тем яснее в то же время вижу, как трудно навязать себя этой глупости и легковерию.
Он ходил от редактора к редактору и носил статью за статьёй. Иногда редактор выслушивал его и просил оставить статьи; но почти неизменно они возвращались к нему с вежливой запиской о том, что статьи для данного конкретного издания, куда они были посланы, не подходят. А ведь многие из этих самых статей были напечатаны в его более поздних трудах, и никто на них не жаловался, во всяком случае, на недостаток литературного мастерства.
– Понятно, – сказал он мне однажды. – Спрос сурово диктует, а предложение должно униженно молить.
Редактор одного важного ежемесячника как-то раз всё-таки принял его статью, и Эрнест решил, что вот, наконец, нашёл зацепку в литературном мире. Статья должна была появиться через номер, и корректуру должны были прислать дней через десять-пятнадцать; но неделя шла за неделей, а корректуры всё не было; дальше пошёл месяц за месяцем, а всё эрнестовой статье не было места в важном журнале; наконец, спустя полгода, редактор сказал ему, что все номера на десять месяцев вперёд уже заполнены, но что его статья непременно появится. На этом Эрнест потребовал возврата рукописи.
Иногда его статьи всё же публиковались, причём обнаруживалось, что редактор редактировал их по своему вкусу, вставляя шутки, казавшиеся ему смешными, или вырезая то самое место, которое Эрнест считал сутью работы; а когда дело доходило до гонораров за уже напечатанные статьи, разговор шёл уже по-другому, и Эрнест этих денег так никогда и не увидел.
– Редакторы, – сказал он мне как-то раз после одного из таких эпизодов, – похожи на тех, что продают и покупают в Книге Откровения; нет ни одного, на ком не было бы знака зверя[265]265
Откр 13:17: «…никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
[Закрыть].
Наконец, после многих месяцев разочарований и многих часов томительного ожидания в блёклых приёмных (по мне, приёмные редакторов – самые жуткие из всех приёмных), он получил настоящее предложение о сотрудничестве от одной из первоклассных еженедельных газет – это случилось благодаря протекции, которую мне удалось составить ему через одного знакомого, имевшего могучее влияние на эту самую газету. Редактор прислал ему десяток толстых книг на очень трудные и разнообразные темы и велел представить рецензии на них в одной статье не позже, чем через неделю. К одной из книг была приложена редакторская записка в том смысле, что данного автора надо раскритиковать. Эрнесту же книга, которую от него требовалось раскритиковать, особенно понравилась, и он, решив, что хоть как-то воздать по справедливости присланным ему книгам – абсолютно для него безнадёжное дело, вернул их редактору.
Наконец, одна газета и вправду приняла от него около дюжины статей и заплатила аванс по паре гиней за каждую, но, совершив такое, мирно почила в бозе через две недели после того, как вышла последняя эрнестова статья. Было очень похоже на то, что все другие редакторы предвидели, что их бизнес придёт в упадок, если они вступят в какие бы то ни было отношения с моим крестником, и потому его сторонились.
Я ничуть не жалел о том, что у него ничего не вышло с периодическими изданиями, ибо писать для журналов или газет – плохая выучка для того, кто ещё может замахнуться на литературу более непреходящего характера. Молодому автору необходимо больше времени для размышлений, чем позволяет работа постоянного корреспондента ежедневной или даже еженедельной прессы. Сам же Эрнест очень расстроился, выяснив, насколько он не продаваем.
– Ну конечно, – сказал он мне, – будь я породистой лошадью, или овцой, или чистопородным голубем, или вислоухим кроликом – меня продать было бы легче. Если бы я был пусть даже собором в колониальном городе, и то люди давали бы мне что-нибудь, а так я никому не нужен. И вот, будучи теперь опять здоровым и отдохнувшим, он решил снова открыть мастерскую, но я, разумеется, и слышать об этом не хотел.
– На что мне сдалось, – сказал он мне однажды, – быть тем, что называют джентльменом? – И его тон был почти гневен. – Что принесло мне это положение джентльмена, кроме того, что мне от этого ещё труднее лгать и обманывать, а меня обманывать ещё легче? Оно просто изменило способы меня надувать, только и всего. Если бы не ваша доброта, сидел бы я сейчас без гроша. Слава Богу, хоть детей устроил.
Я упрашивал его подождать ещё немного и не открывать мастерской.
– Это положение джентльмена, – сказал он, – принесёт оно мне когда-нибудь деньги? А что-нибудь другое – принесёт ли мне что-нибудь другое такой покой, как деньги? Говорят, богатые вряд ли входят в царство небесное. Входят, Бог свидетель, входят; они, как струльдбруги; они живут, и живут, и живут, и счастливы ещё много-много лет после того, как вошли бы в царство небесное, если бы были бедны. Я хочу жить долго и растить детей, если только буду знать, что им лучше от того, что я буду их растить; вот чего я хочу, и поможет мне в этом совсем не то, чем я занимаюсь сейчас. Быть джентльменом – это роскошь, которая мне не по карману, и поэтому она мне не нужна. Пусть лучше я пойду обратно в мою мастерскую и буду делать для людей то, чего они от меня хотят, а они будут платить мне за то, что я это для них делаю. Они хорошо знают, чего хотят и что для них хорошо, – лучше, чем я могу им это объяснить.
Отрицать логичность таких построений было трудно, и если бы все его перспективы ограничивались только тремя сотнями фунтов в год, что он получал от меня, я бы посоветовал ему идти и открывать мастерскую прямо завтра утром. А так я тянул время и чинил препоны, и успокаивал его от раза к разу, как только мог.
Само собой разумеется, он прочитывал книги мистера Дарвина сразу же по их выходе, и воспринял теорию эволюции как символ веры.
– Я сам себе кажусь, – сказал он однажды, – той гусеницей, которая, если ей помешать плести свой гамак, должна начинать всё с самого начала. Пока я катился вниз по социальной лестнице, всё было нормально, и я зарабатывал бы деньги, если бы не Эллен; а когда я стараюсь работать на уровне повыше, я терплю полный провал.
Не знаю, справедливо ли такое сравнение, но уверен, что чутьё не подводило Эрнеста, когда нашёптывало ему, что после глубокого падения ему лучше всего начать новую жизнь с самого низкого уровня; как я только что сказал, я позволил бы ему вернуться к своей мастерской, если бы не знал того, что знал.
По мере приближения назначенного его тётушкой срока я всё старательнее подготавливал Эрнеста к тому, что его ожидало, и вот, наконец, в его двадцать восьмой день рождения я смог всё ему рассказать и показать письмо, подписанное ею на смертном одре, о том, что мне поручается хранить для него её деньги. В тот год (1863) его день рождения пришёлся на воскресенье, но уже на следующий день я перевёл все его акции на его имя и представил ему все учётные книги, которые он сам вёл на протяжении последних полутора лет.
Несмотря на всю мою подготовку, понадобилось немало времени, пока мне удалось уверить его в том, что эти деньги – его собственность. Он говорил мало, и я не больше, ибо не поклянусь, что не был столь же взволнован благополучным завершением моего попечительства, сколь и он сам, оказавшийся владельцем более чем 70 000 фунтов. Когда он заговорил, это было выплёскивание по одной-две фразы кряду.
– Если бы мне надо было выразить этот момент музыкой, – сказал он, – я бы вволю попотчевал себя альтерированным секстаккордом.
Немного позже он, помнится, говорил со смешком, имевшим какое-то семейное сходство в его тётей:
– Я больше всего наслаждаюсь не тем удовольствием, что мне доставляет эта новость, а тем страданием, что она причинит всем моим знакомым, кроме вас и Таунли.
– Не вздумай рассказывать отцу с матерью, – сказал я. – Это сведёт их с ума.
– Нет-нет, – отвечал он, – это было бы слишком жестоко; как если бы Исаак приносил в жертву Авраама, а вокруг никаких кустов и никакого запутавшегося в них рогами овна[266]266
Быт 22, только наоборот – патриарх Авраам по услышанному во сне приказу Бога готов принести в жертву своего сына Исаака, но в последний момент видит запутавшегося в кустах рогами овна, которого и приносит в жертву вместо сына.
[Закрыть]. Да и зачем? Мы вот уже четыре года как совершенно порвали друг с другом.
Глава LXXXII
Такое ощущение, что наше упоминание вскользь о Теобальде и Кристине каким-то образом вызвало их из латентного состояния в активное. Все эти годы, со времени их последнего появления на нашей сцене, они провели в Бэттерсби, направив всю свою любовь и привязанность на двух оставшихся детей.
Горькой пилюлей была для Теобальда утрата власти мучить своего первенца; по правде говоря, я уверен, что он чувствовал эту утрату острее, чем любой позор, каким его могло бы покрыть Эрнестово тюремное заключение. Раз-другой он делал попытки начать переговоры через моё посредство, но я ни разу даже не упомянул о них Эрнесту, зная, как это его расстроит. Теобальду же я написал, что сын его остаётся непреклонен, и советовал хотя бы на время отказаться от попыток поднимать этот вопрос. Тем самым, думалось мне, я одновременно угождал Эрнесту и досаждал Теобальду.
Однако через несколько дней после получения Эрнестом своего наследства мне пришло письмо от Теобальда, куда было вложено другое, для Эрнеста, и это письмо не передать ему я не мог.
Вот это письмо:
«Сыну моему Эрнесту
– хотя ты уже неоднократно отвергал мои попытки к примирению, я снова обращаюсь к лучшей стороне твоей натуры. Твоя мать, которая давно больна, приближается, насколько я могу понять, к своему концу; она не в состоянии удерживать что-либо в желудке, и д-р Мартин едва сохраняет надежду на её выздоровление. Она выразила желание тебя увидеть; она говорит, что знает, что ты не откажешься приехать к ней, и мне, принимая во внимание её состояние, не хотелось бы подозревать тебя в противном.
Прилагаю к сему почтовый перевод на билет, и также оплачу обратную дорогу.
Если тебе не в чем ехать, закажи, что сочтёшь подходящим, наказав, чтобы счёт был прислан мне, – я немедленно оплачу его, в пределах восьми-девяти фунтов, а если ты сообщишь мне, каким поездом приедешь, то я вышлю экипаж, чтобы тебя встретили.
Твой, поверь, любящий отец, Т. Понтифик».
Разумеется, никаких колебаний у Эрнеста быть не могло. Он мог себе позволить улыбнуться на предложение отца заплатить за его платье и на присылку почтового перевода точно на билет во втором классе, но, конечно же, его потрясла весть о матери, о том состоянии, в каком её описывал Теобальд, и тронуло её желание видеть его. Он дал телеграмму, что приедет незамедлительно. Я виделся с ним незадолго до отъезда и порадовался тому, как славно поработал его портной. Даже сам Таунли не мог бы вырядиться с большим вкусом. Кофр, плащ, дорожный плед – всё подходило друг к другу, и всё было ему под стать. По-моему, он стал гораздо симпатичнее, чем в двадцать два или двадцать три. Полтора года спокойной жизни изгладили все следы былых мучений, а ставши теперь по-настоящему богатым, он обрёл эдакое беззаботное и добродушное выражение лица, какое бывает у человека, у которого всё в полнейшем порядке, и какое сделало бы привлекательной и гораздо более невзрачную внешность. «Теперь уж точно, – подумалось мне, – что бы он ни делал, а жениться уж больше не женится никогда».
Поездка вышла мучительной. На подъезде к станции, где таким знакомым был каждый кустик, воспоминания охватили его с такой силой, что тётушкины деньги, обладателем которых он стал, показались ему сном, а явью – возвращение в отчий дом, как бывало, на каникулы из Кембриджа. Как он ни сопротивлялся, а старинный тошнотворный груз тоски по дому давил и давил его, и сердце билось при мысли о приближающейся встрече с отцом и матерью, «и ведь придётся, – подумалось ему, – поцеловать Шарлотту!»
Встретит ли его отец на станции? Приветит ли, как ни в чём не бывало, или будет холоден и сух? Да, а как он воспримет новость о привалившем сыну счастье? Поезд подтягивался к перрону, и Эрнест в нетерпении обводил глазами немногочисленную публику, собравшую на станции. Знакомой фигуры отца не было, но по ту сторону штакетника, отделявшего платформу от станционного двора, он заметил запряженную в пони карету, довольно, показалось ему, потрёпанную; он узнал на козлах отцова кучера. Прошло ещё несколько минут – и эта карета везёт его в Бэттерсби. Он не мог сдержать улыбку при виде того, как поражён был кучер переменой его внешности; еще бы – в последний приезд домой Эрнест был в платье священника, теперь же он не просто мирянин, но мирянин, одетый без оглядки на цену. Так велика была перемена, что кучер и узнал-то его только тогда, когда Эрнест с ним заговорил.
– Как мои отец с матерью? – спросил он, едва успевши взобраться в карету.
– Хозяин хорошо, сэр, – был ответ, – а вот миссис очень плоха.
Лошадь понимала, что идёт домой, и тянула гужи резво. Было холодно и сыро, как и положено в ноябре; в одном месте дорогу затопило, в другом путь им пересекли несколько всадников с собаками – неподалёку от Бэттерсби в то утро гуляла охота. Некоторых из них Эрнест знал, но они его, судя по всему, не признали, а может быть, не прослышали ещё об его удаче. Вот показалась колокольня, и рядом, на вершине холма, дом приходского священника с трубами, едва вздымавшимися над окружавшими его деревьями; он откинулся на спинку сиденья и закрыл лицо руками.
Но даже самые страшные на свете четверть часа когда-нибудь проходят, прошли и эти, и через несколько минут он стоял на ступенях парадного входа в отчий дом. Его отец, услышав приближающуюся карету, вышел навстречу и сошёл на несколько ступенек. Он тоже, как и кучер, с первого взгляда заметил, что Эрнест одет так, как одеваются люди, не стеснённые в средствах, и что он выглядит крепким, исполненным здоровья и жизнерадостным.
Теобальд рассчитывал совсем не на это. Он хотел, чтобы Эрнест вернулся, но вернулся, как подобает возвращаться всякому уважающему себя, честных правил блудному сыну – униженным, обездоленным, просящим прощения у долготерпеливейшего и нежнейшего из отцов. И если на нём чулки и башмаки и вообще хоть какая-то целая одежда, то лишь потому, что совершеннейшие уже лохмотья и обноски благодатной волею отца выброшены прочь, – а вот на тебе, он красуется в сером Ольстере и бело-голубом галстуке и выглядит лучше, чем когда-либо в жизни. Это неприлично. Это что ж, ради этого Теобальд был настолько щедр, что вызвался предоставить Эрнесту приличный наряд, в котором он мог бы показаться пред смертным одром матери? Он, конечно, ни на пенни не превысит обещанных восьми или девяти фунтов. Какое счастье, что он установил предел! Да что говорить, он, Теобальд, в жизни не мог позволить себе такого кофра. Он и теперь пользовался старым, который отдал ему его отец при поступлении в Оксфорд. И вообще, он говорил об одежде, а не о багаже.
Эрнест видел, что творилось в голове отца, и понимал, что ему следовало заранее как-то подготовить того к увиденному теперь; но ведь он телеграфировал мгновенно по получении отцовского письма и потом следовал его указаниям так безотлагательно, что не смог бы этого сделать, даже если бы вовремя вспомнил. Он протянул отцу руку и сказал со смешком:
– А, это всё оплачено – я боюсь, вы не знаете, но мистер Овертон отдал мне деньги тёти Алетеи.
Теобальд побагровел.
– Но почему же тогда, – сказал он, и это были первые слова, слетевшие с его уст, – если деньги предназначались не для него, почему он не отдал их моему брату Джону и мне? – Он порядком запинался и выглядел глуповато, выдавливая из себя эти слова.
– Потому, милый батюшка, – сказал Эрнест, всё ещё смеясь, – что тётя поручила ему хранить их для меня, а не для вас или дяди Джона – и они выросли теперь до 70 тысяч фунтов и больше. Но скажите же, как матушка?
– Нет, Эрнест, – произнёс Теобальд в сильном возбуждении, – так это оставить нельзя, я должен знать, что здесь всё честно и открыто.
В этом был весь Теобальд, и это мгновенно возродило у Эрнеста всю цепь связанных с отцом представлений. Окружение снова стало старым и привычным, но находившиеся в этом окружении изменились до неузнаваемости. Он резко обратился к отцу. Не стану повторять его слова, ибо они вырвались у него до того, как он успел их обдумать, и некоторых читателей они могут шокировать своей непочтительностью; их было немного, но они были действенны. Теобальд ничего не ответил, но стал почти пепельного цвета; с тех пор он ни разу не говорил с сыном так, чтобы спровоцировать его на повторение сказанного тогда. Эрнест быстро совладал с собой и снова спросил о матери. На этот раз Теобальд такому повороту темы обрадовался и отвечал не мешкая и таким тоном, каким говорил бы с тем, кого хотел бы расположить к себе: её состояние быстро ухудшается, несмотря на все его заботы; заключил же тем, что она более тридцати лет была утешением и поддержкой его жизни, но он больше не желает, чтобы это тянулось.
Вдвоём они поднялись в комнату Кристины, ту самую, где появился на свет Эрнест. Отец вошёл первым – предупредить о приходе сына. Бедняжка приподнялась на постели ему навстречу, со слезами обвила его руками и вскричала:
– О, я знала, что он приедет, я знала, знала, знала, что он приедет.
Эрнест не выдержал и тоже разрыдался, впервые за много лет.
– О, мой мальчик, мой малыш, – заговорила она, с трудом овладевая речью. – Неужели ты и вправду не был с нами все эти годы? Ах, ты не знаешь, как мы любили тебя и оплакивали, папа и я, не знаю, кто сильнее. Ты знаешь, он мало проявляет чувства, но я никогда не смогу тебе передать, как глубоко, глубоко он страдал за тебя. Мне иногда ночами чудились шаги в саду, и я потихоньку, боясь его разбудить, встану, бывало, с постели, подойду к окну, выгляну, а там только утренняя мгла, и я бреду в слезах обратно. А всё же мне кажется, что ты был неподалёку от нас, и только гордость не позволяла тебе объявиться – но вот ты, наконец, у меня в объятиях, мой родной, мой любимый мальчик.
Какой он был жестокий, думал Эрнест, какой позорно бесчувственный!
– Матушка, – сказал он, – простите меня, я виноват, я не должен был быть таким чёрствым; я был не прав, о, как я был не прав! – Бедняга запинался и был искренен, и сердце его разрывалось от жалости к матери, – он и не думал, что ещё способен на такое.
– Но неужели ты не приезжал, – продолжала она, – пусть тайно, так, что мы даже и не знали – о, не разубеждай меня, я буду думать, что ты не был так жесток, как мы думали. Скажи, что приезжал, хотя бы чтобы утешить меня и порадовать.
К этому Эрнест был готов.
– Мне не на что было приехать, матушка, до совсем недавнего времени.
Такое объяснение Кристина могла понять и принять.
– О, но, значит, ты приехал бы, тогда с меня довольно и намерения – а теперь, когда ты и верно со мной, скажи, что больше никогда, никогда меня не оставишь, пока… пока… о, мальчик мой, тебе сказали, что я умираю? – Она горько зарыдала и упала головой в подушку.








