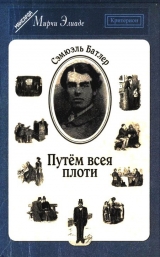
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 37 страниц)
Глава XLI
Эрнест только ещё шёл в столовую, а вещая его душа, полная предчувствий мрачных[153]153
Шекспир. «Ромео и Джульетта» (перев. Т. Щепкиной-Куперник).
[Закрыть], уже нашёптывала, что тайный грех его стал явным. Разве Глава семейства станет вызывать в столовую кого-либо из домочадцев с добрыми намерениями?
Придя в столовую, он никого там не застал – отца срочно вызвали ненадолго по приходским делам; Эрнест погрузился в тревожное ожидание, какое обычно царит в приёмной зубного врача.
Он ненавидел столовую, как никакую другую комнату в доме. Здесь ему приходилось заниматься с отцом латынью и греческим. Здесь пахло какой-то политурой или лаком, которыми покрывали мебель, и до сих пор ни я, ни Эрнест не можем без сердечного содрогания даже приблизиться к месту, где пахнет таким лаком.
Над камином висела картина какого-то старого мастера, из числа тех немногих подлинников, что мистер Джордж Понтифик привёз из Италии. Считалось, что это Сальватор Роза[154]154
Сальватор Роза (1615–1673), итальянский художник демократического направления.
[Закрыть], и также считалось, что это была очень удачная покупка. Героем сюжета был пророк, то ли Илья, то ли Елисей, вскармливаемый воронами в пустыне. В правом верхнем углу изображались вороны с хлебом и мясом в клювах и когтях, а упомянутый пророк, кто бы он ни был, тоскливо смотрел в их сторону снизу вверх из левого нижнего угла картины. Когда Эрнест был совсем маленький, ему всегда было ужасно жаль, что пища, принесённая воронами, никак не могла попасть к пророку; он не понимал, что искусство живописца имеет свои ограничения, и ему хотелось, чтобы пища и пророк как-нибудь, наконец, соприкоснулись. Однажды он вскарабкался по оставленной зачем-то в комнате лесенке, подобрался к картине и куском бутерброда прочертил по ней линию от воронов к устам Елисея, после чего ему сразу полегчало.
Эрнест рассеянно вспоминал об этой детской проделке, когда скрипнула дверная ручка под рукой Теобальда, и в следующее мгновение вошёл он сам.
– А, Эрнест, – сказал он непринуждённым, чуть ли не дружелюбным тоном, – у меня к тебе есть вопросик, который, я уверен, ты легко мне разобъяснишь.
Бум-бум-бум, – заколотилось о рёбра сердце Эрнеста; но отец держался настолько дружелюбней обычного, что он начал надеяться, что тревога в очередной раз окажется ложной.
– Нам с матерью подумалось, что хорошо бы тебе иметь новые часы, когда ты поедешь обратно в школу («Фу-ты, только и всего», – с облегчением подумал Эрнест), и сегодня я решил приискать и купить из вторых рук что-нибудь отвечающее всем требованиям и во всех отношениях подходящее для твоей школьной жизни.
Теобальд говорил так, будто кроме единственного требования – отсчёта времени – к часам можно предъявить с полдюжины других, но ведь он и рта не мог раскрыть, чтобы не выдать какой-нибудь словесный штамп, вроде этого – «отвечающее всем требованиям».
Эрнест начал было, как принято, рассыпаться в благодарностях, но – «Ты меня перебиваешь», – сказал Теобальд, и сердце Эрнеста снова заколотилось.
– Ты меня перебиваешь, Эрнест. Я не кончил.
Эрнест мгновенно онемел.
– Я обошёл несколько магазинов, где торгуют подержанными часами, но не находил таких, что удовлетворили бы меня своими качествами и ценой, пока мне не показали одни, которые, как сказал приказчик, были недавно принесены ему на продажу, и в которых я тут же узнал те, которые были подарены тебе тётей Алетеей. Но даже если бы я их и не узнал сразу, а так могло случиться, я идентифицировал бы их непосредственно по попадании их в мои руки, поскольку на внутренней стороне крышки они имели гравировку: «Э. П. в подарок от А. П.». Я не нуждаюсь в большем, чтобы доказать, что это были те самые часы, которые, как ты сказал мне и маме, ты выронил из кармана.
До этой минуты Теобальд говорил нарочито спокойным тоном, растягивая слова, но тут он внезапно повысил тон и, сбрасывая маску, добавил:
– Какую ещё ты наплетёшь небылицу, в которую бы мы с мамой в силу нашей природной правдивости не поверили? Угадай, как мы теперь себя чувствуем?
Эрнест не мог не признать справедливости этого последнего выпада. В периоды относительного душевного спокойствия он считал папу с мамой эдакими простофилями – так легко верили они всему, что он им плёл, но он не мог не признать, что такая доверчивость доказывала природную правдивость их души. С точки зрения общепринятых норм приходилось признать, что для таких правдивых родителей иметь такого лживого сына, каким полагал себя он, – непереносимо.
– Веря, что мой сын и сын такой матери, как твоя, неспособен на ложь, я немедленно презюмировал, что некий бродяга подобрал часы и теперь старается их сбыть.
А вот это, насколько я могу судить, действительности не соответствовало. Первая презумпция Теобальда была та, что продать часы пытался именно Эрнест, а как раз это заявление – будто его возвышенный ум сразу же породил идею о бродяге – было плодом мгновенного вдохновения.
– Можешь себе представить, какое потрясение испытал я, узнав, что часы принёс на продажу не кто иной, как эта жалкая Эллен. – Тут в груди Эрнеста поднялся комок, и он ощутил приближение тошноты, вполне естественной для столь беззащитного человека; отец мгновенно это почувствовал и продолжал: – Которую выставили из этого дома при обстоятельствах, описывать которые в подробностях значило бы неподобающим образом засорять твой слух… Я отбросил ужасное подозрение, начинавшее переходить в уверенность, и предположил, что в промежутке между увольнением и отъездом из дома она усугубила свой прежний грех грехом воровства и, увидев часы в твоей спальне, присвоила их. Мне даже подумалось, что ты, возможно, обнаружил пропажу после того, как эта женщина уехала, и, догадываясь, кто взял часы, побежал за каретой, чтобы их у неё отнять; но когда я рассказал о своих догадках приказчику, тот заверил меня, что личность, оставившая ему часы, клятвенно заявила, что они были подарены ей сыном её хозяина, который имел полное право распоряжаться ими по своему усмотрению, потому что они были его собственностью… Он сказал мне далее, что, находя обстоятельства, в которых часы были предложены на продажу, несколько подозрительными, настойчиво потребовал, чтобы женщина рассказала ему во всех подробностях, как она их получила, прежде чем он согласится купить их у неё… Он сказал, что поначалу она, как неизменно поступают все женщины подобной пробы, попыталась уклониться от прямого ответа, но под угрозой немедленной передачи её властям в случае отказа рассказать всю правду описала, как ты бежал за каретой, пока, по её словам, не потемнел лицом, и, догнав, настаивал, чтобы она приняла от тебя все твои карманные деньги, нож и часы. Она добавила, что свидетелем данной трансакции был мой кучер Джон, которого я сейчас же уволю. Так вот, Эрнест, будь любезен ответить, правдива или ложна эта безобразная история?
Эрнесту не пришло в голову прервать рассказ отца возражением, что лежачего не бьют, или спросить, почему бы ему не выбрать для избиений кого-нибудь себе по росту. Мальчик был слишком потрясён и растерян, чтобы ещё проявлять изобретательность; ему оставалось только покориться судьбе и пробормотать, что история правдива.
– Этого я и опасался, – сказал Теобальд. – А теперь, Эрнест, будь добр, позвони.
Когда на вызов явились. Теобальд пожелал, чтобы послали за Джоном, и когда тот пришёл, посчитал причитавшееся ему жалование и высказал пожелание, чтобы он немедленно покинул дом.
Джон держался спокойно и почтительно. Он принял своё увольнение как должное, ибо Теобальд достаточно прозрачными намёками дал ему понять, за что его прогоняют, но когда он увидел бледного, раздавленного Эрнеста, сидящего на краешке стула у стены столовой, внезапная мысль как бы озарила его, и он, обернувшись к Теобальду, произнёс с сильным северным акцентом, воспроизводить который я не стану и пытаться:
– Послушайте, хозяин, я догадываюсь, в чём всё дело – так вот, прежде чем уйду, надо бы поговорить.
– Эрнест, – сказал Теобальд, – выйди.
– Нет, мастер Эрнест, не уходите, – сказал Джон, прислонясь к дверному косяку. – Так вот, хозяин, – продолжил он, – можете делать со мной что хотите. Я был вам хорошим слугой, и не скажу, чтобы вы были мне плохим хозяином, но скажу так, что если вы будете сильно давить на мастера Эрнеста, у меня есть в деревне кое-кто, что услышат про то и передадут мне; и если я услышу про то, я вернусь и переломаю вам все кости, так что вот так!
Джон дышал возбуждённо, и вид его был такой, что он, казалось, с удовольствием занялся бы ломкой костей, не сходя с места. Теобальд сделался пепельного цвета – не от пустых угроз, как он впоследствии объяснял, разоблачённого и разозлённого негодяя, а от неслыханного нахальства со стороны собственного слуги.
– Я предоставлю мастера Эрнеста, Джон, – гордо возразил он, – угрызениям его собственной совести («Слава Богу, и слава Джону», – подумал Эрнест). Что же до вас лично, то я признаю, что вы были отличным слугой, пока не случилось это несчастье, и я с удовольствием выдам вам рекомендацию, если пожелаете. У вас есть что добавить?
– Ничего, кроме того, что уже сказал, – угрюмо отвечал Джон, – но что сказал, на том стою, и буду стоять, хоть рекомендация, хоть не рекомендация.
– О, насчёт рекомендации можете не опасаться, Джон, – примирительно заметил Теобальд. – Но уже темнеет, и если вы не поспешите, у вас не будет возможности покинуть дом раньше завтрашнего утра.
На это Джон ничего не ответил, а пошёл к себе, быстро собрался и был таков.
Кристина, узнав о происшедшем, сказала, что всё может понять, но чтобы Теобальд подвергался таким дерзким нападкам со стороны собственного слуги, да ещё в связи с поведением собственного сына – это непростительно! Теобальд – самый бравый человек на свете, он без труда мог бы схватить нахала за шиворот и вышвырнуть вон из дома, но насколько более достойным, насколько более благородным был его ответ! Как бы прозвучал он в романе или со сцены – впрочем, сцена сама по себе аморальна, но ведь наверняка есть такие пьесы, из которых получаются пристойные зрелища. Она так и видит перед собой полный зал зрителей, застывших в изумлении от джонова злодейства и затаивших дыхание в напряжённом ожидании ответа. И тогда актёр – возможно, это будет великий и добропорядочный мистер Макреди[155]155
Уильям Чарльз Макреди (1793–1873), английский актёр, главным образом, шекспировского репертуара.
[Закрыть] – скажет: «Я предоставлю мастера Эрнеста, Джон, угрызениям его собственной совести». О, это грандиозно! Какой шквал аплодисментов! И тут выходит она сама, обвивает руками шею мужа и называет его своим «мужем – львиное сердце». Занавес падает, в зале переговариваются, что, мол, эта сцена, которой они только что были свидетелями, списана с реальной жизни и на самом деле имела место в доме его преподобия Теобальда Понтифика, который женился на одной из мисс Оллеби, – и прочая, и прочая.
В отношении же Эрнеста, уже закравшиеся в её душу подозрения только усилились, но она предпочла оставить всё как есть. Её позиция на данный момент была крепка. Его непорочность и чистота были официально и твёрдо установлены, но в то же время во всём этом деле оказалось столько простора для интерпретаций, что ей удалось объединить в одном мысленном портрете две противоречащие идеи, представив себе Эрнеста как Иосифа и Дон Жуана[156]156
Иосиф, младший сын патриарха Иакова, проданный братьями в рабство в Египет, отверг сексуальные домогательства жены своего хозяина (Быт 39:7 и сл.). Дон Жуан – легендарный сердцеед.
[Закрыть] в одном лице. Именно этого она всегда втайне желала, и вот теперь сын удовлетворил её тщеславие; этого довольно; сам он в расчёт не идёт.
Не подлежит сомнению, что не вмешайся Джон – и расплатой Эрнесту за его грех была бы нищета, тюрьма, болезнь[157]157
Шекспир. «Мера за меру» (перев. Т. Щепкиной-Куперник).
[Закрыть]. А так мальчик всего лишь «должен считать себя наказанным» сими карами плюс муками бесплодного раскаяния, причиняемыми совестью; но за исключением повышенной строгости теобальдова надзора за выполнением каникулярных заданий и всё той же холодности со стороны родителей, никакого явно выраженного наказания не последовало. И всё же Эрнест нынешний говорит мне, что вспоминает это время как начало осознания в себе глубокой и активной антипатии к обоим своим родителям, что, как я понимаю, означает, что он почувствовал пробуждение в себе мужчины.
Глава XLII
Примерно за неделю до конца каникул отец снова вызвал его в столовую и сообщил, что возвращает ему его часы, но будет вычитать уплаченную за них сумму – ибо, полагает он, легче заплатить несколько шиллингов, чем оспаривать право собственности на эти часы, тем более что Эрнест действительно подарил их Эллен, – будет вычитать из его карманных денег частями, на протяжении двух полугодий. Ему, следственно, придётся возвращаться в Рафборо в этом полугодии всего лишь с пятью шиллингами на карманные расходы. Если он хочет больше, пусть зарабатывает наградные.
Эрнест обращался с деньгами не так бережно, как положено примерному мальчику. Не бывало, например, такого, чтобы он сказал себе: «Вот, у меня есть соверен, и его должно хватить на пятнадцать недель, итого, я могу тратить ровно один шиллинг и четыре пенса в неделю», – и тратить в неделю ровно шиллинг четыре. Деньги утекали у него с той же быстротой, что и у любого другого мальчика, и буквально через несколько дней после возвращения в школу он был уже совершенно на мели. Когда деньги кончались, он понемножку залезал в долги, а когда залезал уже настолько, что перспектива расплатиться становилась туманной, начинал жить без излишеств. Как только деньги появлялись, он тут же расплачивался; если после этого что-то оставалось, а оставалось редко, он тут же тратил; если нет, снова лез в долги.
Его бюджет рассчитывался исходя из того, что в школу он приезжает с фунтом стерлингов в кармане, из коей суммы он отдаёт долги, – скажем, шиллингов пятнадцать. Пять шиллингов уходило на всевозможные школьные взносы, после чего еженедельное пособие в шесть пенсов, выдаваемое каждому мальчику на питание, наградные (он решил, что в этом полугодии наберёт их немало) и возобновлённый после выплаты долгов кредит должны были сообща продержать его на плаву до конца семестра.
Незапланированный дефицит в 15 шиллингов означал катастрофу для бюджетной системы моего героя. Эмоции так ясно отразились на его лице, что Теобальд заявил, что намерен «незамедлительно узнать правду, и НА СЕЙ РАЗ без тянущейся днями и неделями лжи». Горькая правда не замедлила явиться на свет, именно же, что бедолага Эрнест добавил погрязание в долгах к прочим своим порокам – праздности, лживости и, возможно, – ибо теперь и это возможно, – безнравственности.
Как случилось, что он задолжал? Задолжали ли другие мальчики? Эрнест, поколебавшись, ответил, что да, задолжали.
В каких заведениях они задолжали?
Это было уже слишком, и Эрнест ответил, что не знает!
– О, Эрнест, Эрнест, – воскликнула мать, присутствовавшая при разговоре, – не злоупотребляй во второй раз за такой короткий срок терпением самого добросердечного в мире отца. Дай затянуться прежней ране, прежде чем наносить следующую.
Легко сказать, но что было делать бедному Эрнесту? Как мог он подвести обслуживавших школу лавочников, признавшись, что те отпускают свои товары мальчикам в долг? Подвести миссис Кросс, эту добрую душу, продававшую горячие рогалики с маслом на завтрак, или гренки, а то и четверть цыплёнка в сухарях с картофельным пюре за шесть пенсов? Хорошо, если она на этих шести пенсах зарабатывала фартинг[158]158
фартинг = 1/4 пенса.
[Закрыть]. Когда мальчики вваливались гурьбой в её лавку после «гончих», не было случая, чтобы Эрнест не услышал, как она кричит служанкам: «А ну-ка, девоньки, ташшите нам чего-нибудь вкусненького!» Все её обожали, и что ж, теперь он, Эрнест, должен на неё наябедничать? Чудовищно!
– Ну, вот что, Эрнест, – сказал отец, обдавая его суровейшим из своих взглядов, – я намерен положить этому конец раз навсегда. Или ты облачишь меня своим полным доверием, как положено сыну, и тем самым позволишь мне разобраться с этим делом как священнику и умудрённому опытом человеку, или ты должен отчётливо понимать, что я сообщу обо всём доктору Скиннеру, который, как я могу себе представить, примет более строгие меры, чем принял бы я.
– О, Эрнест, Эрнест, – всхлипывала Кристина, – прояви мудрость, доверься тем, кто уже доказал тебе, что слишком умеют быть снисходительными.
Настоящий романтический герой в такой ситуации не смутился бы и на мгновение. Ни лесть, ни обман, ни запугивание не заставили бы его разболтать школьные тайны. Эрнест подумал о мальчиках своего идеала: они-то скорее позволят вырвать себе язык, чем дадут выпытать у них хоть слово. Но Эрнесту было далеко до своего идеала, и выстоять в таком плотном кольце у него просто не хватало сил; я вообще сомневаюсь, что кто бы то ни было сумел долго противостоять такому моральному давлению, какое приходилось выносить ему; он, во всяком случае, не сумел и, покорчившись ещё немного, пал беспомощной жертвой пред торжествующим врагом. Он пытался утешить себя мыслью, что папа не так часто давил на его доверие, как мама, и что, пожалуй, лучше сказать обо всём отцу, чем позволить ему передать дело на рассмотрение доктора Скиннера. Папина совесть тоже «тараторила», но всё же поменьше, чем мамина. Глупыш забыл, что он сам не давал отцу столько поводов предать его, сколько давал Кристине.
И тогда всё раскрылось. Он задолжал столько-то миссис Кросс и столько-то миссис Джонс, и столько-то в пивной «Лебедь с бутылкой», не говоря уже о шиллинге там и о шести пенсах сям, и о двенадцати ещё где-то. А Теобальд с Кристиной не унимались; чем больше они узнавали, тем острее свербел в них зуд к новым открытиям; это их долг, не правда ли, узнать всё, всё, ибо они-то ещё могут спасти своего родимого от этого рассадника зла, но есть ведь и другие папы и мамы, которые тоже обязаны спасать своих родимых, если это ещё возможно! Итак, кто ещё из мальчиков задолжал этим гарпиям?
Снова жалкая попытка сопротивления, но применили испанский сапог, и Эрнест, уже и без того деморализованный, покаялся и сдался властям предержащим. Он выдал всё, придержав только самую малость из того, что знал, или думал, что знает. Его пытали, подвергали допросу с пристрастием и перекрёстному допросу, отсылали подумать в свою комнату и снова допрашивали. Выплыло наружу курение на кухне у миссис Джонс: кто из мальчиков курил, а кто нет; кто из мальчиков задолжал и, хотя бы приблизительно, сколько и кому; кто из мальчиков богохульствовал и употреблял неприличные выражения. Теобальд стоял на своём: на сей раз Эрнест должен, как он выражался, «облачить его своим полным доверием»; итак, на свет Божий был извлечён список учащихся, которым доктор Скиннер сопровождал полугодовой табель, и мистер и миссис Понтифик досконально, пункт за пунктом, прошлись по всем уголкам души каждого из мальчиков – в меру, естественно, того, какую информацию удавалось выжать из Эрнеста; и это притом, что не далее как в минувшее воскресенье Теобальд прочёл более страстную, чем обычно, проповедь об ужасах инквизиции. И какие бы глубины порока ни раскрывались перед ними, эти двое ни разу не дрогнули, а всё копали и выведывали, пока не подошли вплотную к предметам совсем уже деликатным, каких они до тех пор не касались. Но тут бессознательное «я» Эрнеста перехватило инициативу и оказало сопротивление, на какое его сознательное «я» было неспособно: оно сбросило его со стула – в обморок.
Послали за доктором Мартином; тот объявил, что мальчик серьёзно болен, и прописал полный покой и отсутствие всяческих раздражителей. Так суровая необходимость предоставить ребёнку покойную жизнь до конца каникул вынудила ретивых родителей довольствоваться уже полученным. О нет, сложа руки они не сидели, но ведь Сатана подсовывает злокозненные замыслы не только праздным, но и деятельным, и вот он подкинул в район Бэттерсби одну такую работёнку, которую Теобальд с Кристиной тут же и взяли на себя. Было бы обидно, рассуждали они, если бы Эрнесту пришлось уйти из Рафборо сейчас, отучившись там три года; было бы трудно найти для него другую школу и объяснить, почему он ушёл из Рафборо. Кроме того, доктор Скиннер и Теобальд считались старыми друзьями, а обижать старых друзей нехорошо; всё говорило за то, чтобы мальчика из школы не забирать. А приличным поступком будет вот какой: конфиденциально проинформировать доктора Скиннера о сложившейся в его школе ситуации и предоставить ему список учащихся с присовокупленными к каждому имени примечаниями, основанными на добытых у Эрнеста данных.
Теобальд был образцом аккуратности; пока его сын лежал больной на втором этаже, он составил, руководствуясь школьным списком, таблицу, в которую внёс свои комментарии; и вот какую форму приняла эта таблица (я, разумеется, изменил в ней фамилии). Один крестик означал проступок, совершаемый время от времени, два – часто, три – постоянно.

Джонс
Курение:XXX
Употребление пива в «Лебеди неприличные с бутылкой»:0
Богохульство, неприличные выражения:X
Примечания:начнет курить в следующем полугодииПетерс
Курение:X
Употребление пива в «Лебеди неприличные с бутылкой»:XX
Богохульство, неприличные выражения:XXXСидорс
Курение:XX
Употребление пива в «Лебеди неприличные с бутылкой»:XX
Богохульство, неприличные выражения:X
И таким манером – по всему списку.
Само собой разумеется, дабы не подвести Эрнеста, доктора Скиннера свяжут обязательством блюсти секретность, прежде чем сообщат ему хоть слово, но уж предоставив Эрнесту такую защиту, он не сможет пожаловаться на неполноту информации.








