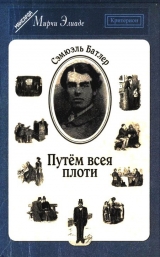
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 37 страниц)
Глава XXXVI
Братья и сёстры мисс Понтифик были заранее извещены в письмах, и все до единого мгновенно примчались в Рафборо. Ко времени их приезда бедняжка была уже давно в бреду, и я даже рад, имея в виду покой её души в последние мгновения жизни, что она так и не пришла в сознание.
Я знал этих людей с самого их рождения, знал так, как может знать человека только тот, кто играл с ним в детстве. Я знал, что все они – может быть, Теобальд меньше остальных, но в той или иной степени все – портили ей жизнь, как могли, покуда смерть отца не позволила ей стать самой себе хозяйкой, и мне было неприятно смотреть, как они один за другим слетались в Рафборо и первым делом вопрошали, вернулось ли к сестре сознание настолько, чтобы она могла с ними увидеться. Все знали, что, заболев, она послала за мной, и что я оставался в Рафборо до конца; и я признаюсь, что был зол на них за ту смесь подозрительности, презрения и назойливого любопытства, с какой они на меня косились. Думаю, все они, кроме Теобальда, и вовсе перестали бы меня замечать, если бы не догадывались, что я знаю нечто такое, что им самим не терпелось узнать и что они имели шанс узнать от меня, – ибо было совершенно ясно, что я каким-то образом замешан в составлении завещания их покойной сестры. Никто из них не мог, конечно, подозревать, как оно было составлено для посторонних глаз, а боялись, думаю, того, что мисс Понтифик завещала все деньги на общественные нужды. Джон в самой своей вкрадчивой манере сказал мне, что, как ему помнится, сестра говорила ему, что подумывает направить деньги на создание коллегии помощи нуждающимся драматургам; я не возразил и не подтвердил, и его подозрения, не сомневаюсь, усилились.
Когда наступил конец, я попросил адвоката мисс Понтифик в письменном виде известить её братьев и сестёр о том, как она распорядилась своими деньгами; они были вне себя от гнева, что, в общем, не противоестественно, и разъехались по домам, не дожидаясь похорон и не удостоив меня ни малейшим знаком внимания. Это было, пожалуй, самой доброй услугой, какую они только могли мне оказать, ибо их поведение так меня разозлило, что я даже почти примирился с завещанием Алетеи – благодаря удовольствию, которое вызвала во мне злость, этим завещанием порождённая. Если бы не это, завещание было бы мне, как острый нож, ибо благодаря ему я оказывался в положении, которого стремился изо всех сил избежать, и, кроме того, под грузом большой ответственности. Но делать было нечего, оставалось только следовать естественному ходу событий.
Мисс Понтифик выразила желание быть похороненной в Пэлеме, и я, следственно, за нескольких дней организовал перевоз туда её тела. Я не был в Пэлеме уже около шести лет, со смерти моего отца. Мне часто хотелось туда съездить, но я как-то всё не решался, хотя сёстры мои побывали там два или три раза. Мне было бы больно видеть, как в доме, который долгие годы был моим домом, живут теперь чужие люди; чинно позвонить в колокольчик, к которому я не притрагивался с тех пор, как мальчишкой баловался с ним; почувствовать, что более не имею никакого отношения к саду, в котором я в детстве собирал пахучие букетики и который считал своим ещё долго после того, как стал взрослым; увидеть комнаты, лишённые всех знакомых черт и оттого совершенно незнакомые, хотя и знакомые до боли. Будь к тому достаточная причина, я принял бы все эти вещи как должное и, конечно, они оказались бы хуже в предвидении, чем в реальности; но, поскольку никакой особой причины ехать в Пэлем у меня не было, я и не ездил. И вот теперь ехать было необходимо, и я должен признаться, что никогда в жизни не был подавлен так, как по прибытии в родные места с мёртвой подругой моего детства.
В деревне я обнаружил больше перемен, чем мог ожидать. Туда дотянулась железная дорога, и на месте старого коттеджа мистера и миссис Понтифик высилось новенькое станционное здание жёлтого кирпича. От всего хозяйства осталась только столярная мастерская. Я встречал много знакомых лиц и удивлялся, как сильно все они постарели за каких-нибудь шесть лет. Многие из очень старых умерли, а просто старые стали очень старыми взамен тех. Я чувствовал себя, как подменённое эльфами дитя из сказки, вернувшееся домой после семилетнего сна. Все были рады меня видеть, хотя я, кажется, никогда не давал им к этому повода, и всякий, кто помнил стариков Понтификов, говорил о них тепло и выражал удовлетворение от того, что их внучка пожелала лежать рядом с ними. На погосте, стоя в полумраке пасмурного, ветреного вечера неподалёку от могилы старой миссис Понтифик, на месте, которое я выбрал для Алетеи, я думал о тех временах, когда она, которой отныне предстояло лежать здесь, и я, которому тоже однажды предстояло где-нибудь лечь, хотя и невесть когда и где, резвились, влюблённые друг в друга дети, на этом самом месте. Наутро я проводил её в могилу, а по прошествии времени поставил в её память простую плиту, точно такую же, какие стоят над могилами её деда и бабушки. Я начертал на ней даты и места её рождения и смерти и не добавил никакой эпитафии, кроме той, что этот камень установлен тем, кто знал её и любил. Памятуя о её любви к музыке, я хотел было выгравировать на камне несколько тактов, по возможности найдя что-нибудь подходящее к её характеру, но я также знал, что ей претила любая претенциозность, даже и в надгробиях, и делать этого не стал.
Однако прежде чем прийти к такому заключению, я подумал, что найти подходящую музыку может для меня Эрнест, и написал ему об этом. Вот что я получил в ответ:
«Милый крёстный,
посылаю вам самый лучший отрывок, какой мог придумать; это тема последних шести больших фуг Генделя, вот она (следовала нотная линейка).
Она больше подошла бы для мужчины, особенно для старика, который очень всему сочувствовал, чем для женщины, но ничего лучше я придумать не могу. Если вам она не понравится для тёти Алетеи, я сохраню её для себя.
Ваш любящий крестник Эрнест Понтифик».
И это мальчуган, который готов был купить сладости на два пенса, ни на полпенни больше? С ума сойти, подумалось мне, как эти младенцы и грудные дети[142]142
Пс 8:3.
[Закрыть] обскакивают нас! Пятнадцати лет выбрать для себя эпитафию как для «старика, который очень всему сочувствовал», а стиль! – э, да такое впору самому Леонардо да Винчи. Потом я решил, что это просто возомнивший о себе юный павиан, каковым он, собственно, и был – как, впрочем, множество других молодых людей его возраста.
Глава XXXVII
Если в самом начале, когда мисс Понтифик взяла Эрнеста под своё покровительство, Теобальд и Кристина были не совсем довольны, то теперь, когда эта связь так преждевременно прервалась, они стали совсем недовольны. Они твердили, что из разговоров сестры с уверенностью заключили, что та собиралась сделать Эрнеста своим наследником. Я-то думаю, что она об этом не обмолвилась ни словом, ни намёком. А вот Теобальд в своём письме, которое я скоро приведу, дал Эрнесту понять, что она именно намекала, но ведь когда Теобальду надо было показать когти, любая мелочь, лёгкая, как воздух[143]143
Шекспир. «Отелло», акт 4, сц. 3 (в переводе Б. Пастернака – «всякий вздор»).
[Закрыть], легко могла принять в его воображении какую угодно форму. Лично я не думаю, чтобы до самого момента, когда стало известно, что Алетея при смерти, у них вообще возникал вопрос о том, как она собирается распорядиться своими деньгами, а если бы, как я уже говорил, они полагали вероятным, что за их спиной, без даже отписания им пожизненной ренты, она сделает наследником Эрнеста, то тут же начали бы воздвигать на пути дальнейшего сближения тёти с племянником всяческие преграды.
Впрочем, это никак не лишало их права огорчаться тем, что ни они, ни Эрнест не получали вообще ни гроша, и своё разочарование касательно сына они могли высказывать вслух, чего касательно самих себя им не позволила бы гордость. Собственно, по обстоятельствам, это было с их стороны даже благопристойно – испытывать разочарование.
Кристина сказала, что завещание просто-напросто подделано, и она убеждена, что его можно легко оспорить, стоит только им с Теобальдом предпринять соответствующие шаги. Теобальду, сказала она, следовало бы обратиться прямо к лорду-канцлеру, ну, не к полному составу суда, а так, в кабинете, где он бы изъяснил в подробностях всё дело; или, даже ещё лучше, если бы она обратилась к лорду-канцлеру сама – и я не доверюсь своей способности описать те эмпиреи, в которые вознесла её эта идея. Кончалось это, кажется, так Теобальд умирает, и лорд-канцлер (который несколько недель тому назад овдовел) делает ей предложение, которое она твёрдо, но не без грациозности отвергает; она всегда, говорит она, будет видеть в нём друга… в каковой момент вошёл повар с сообщением, что прибыл мясник, и что сударыня пожелают заказать на обед?
Теобальд, надо думать, предполагал, что за этим отписанием наследства мне что-то кроется, но Кристине ничего об этом не говорил. Он чувствовал себя обиженным и злился, что нельзя прямо пойти к Алетее и высказать ей всё, что он о ней думает, точно так же, как ему никогда нельзя было прямо пойти к отцу. «Какое хамство, – ворчал он про себя, – взять вот так напортить людям, а потом от них скрыться; единственная надежда, что я, по крайней мере, встречусь с ними лицом к лицу на Небесах». Впрочем, и это было для него сомнительно, ибо, когда люди творят подобное зло, вряд ли можно ожидать, что они вообще попадут на небеса; что же до возможности встретиться с нею в другом месте, то сия мысль ему и в голову не могла прийти.
Человек, пребывающий в таком раздражении и не очень привычный к тому, чтобы что-то делалось поперёк его воли, непременно на ком-нибудь отыграется, а Теобальд давно уже взрастил себе некий орган, с помощью которого мог выпускать пар с наименьшим риском и наибольшими результатами для себя. Этим органом был, как легко догадаться, не кто иной, как Эрнест, и именно на Эрнеста, следственно, он и вывалил всё, что было на душе, причём не лично, а в письме.
«Тебе следует знать,
– писал он, –что твоя тётушка Алетея дала понять нам с матерью, что желала сделать тебя своим наследником – в случае, конечно, такого твоего поведения, которым ты заслужил бы её доверие; так вот, она не оставила тебе ничего, а всё принадлежавшее ей перешло к твоему крёстному мистеру Овертону. Нам с матерью хотелось бы надеяться, что, проживи она дольше, тебе удалось бы завоевать её доброе расположение, но теперь думать об этом уже поздно.Все твои занятия плотницким ремеслом и строительством органов должны быть немедленно прекращены. Я с самого начала не верил в эту затею, и не вижу резона это своё мнение изменять. Я ничуть не огорчаюсь, что этому будет положен конец, ни также ты сам, я уверен, не раскаешься в этом в последующие годы.
Ещё несколько слов касательно твоих перспектив на будущее. У тебя есть, как ты, полагаю, знаешь, небольшое наследство, которое является юридически твоим согласно завещанию твоего деда. Это отписание было сделано по недоразумению и, на мой взгляд, исключительно вследствие недосмотра со стороны нотариуса. Скорее всего, намерение было ввести в силу данный завещательный отказ после смерти твоей матери и моей смерти; тем не менее, согласно букве завещания, деньги перейдут в твоё распоряжение, если ты доживёшь до двадцати одного года. Однако же из них будут сделаны некоторые крупные вычеты. Есть налог на наследство, и, кроме того, я не уверен, что мне не причитается компенсация за расходы на твое обучение и содержание с рождения до совершеннолетия; я, скорее всего, не стану настаивать на реализации этого моего права в самой полной мере, если ты будешь прилично себя вести, но некая достаточно существенная сумма должна быть вычтена, и собственно тебе останется, следовательно, совсем немного – скажем, тысяча, ну, самое большее, две – но когда придёт время, тебе будет представлен подробнейший отчёт.
И это – позволь мне предупредить тебя самым серьёзнейшим образом – это всё, чего ты вправе ожидать от меня (даже Эрнест понимал, что это было отнюдь не от Теобальда), во всяком случае, до моей смерти, которая, как знать, может не наступить ещё много лет. Это небольшая сумма, но достаточная, если к ней будет приложена целенаправленность и серьёзность намерений. Мы с твоей матерью дали тебе имя Эрнест в надежде, что оно постоянно будет напоминать тебе о…»
– но, право, дальше цитировать эти излияния я не в силах. Всё та же старая игра в потрясание завещанием, сводящаяся практически к тому, что Эрнест ни на что не годен, и если станет продолжать в том же духе, то ему, скорее всего, придётся сразу после окончания школы или в лучшем случае колледжа, идти босиком на улицу просить милостыню; а что они, Теобальд с Кристиной, настолько хороши, что мир сей едва ли их достоин.
Написавши сие, Теобальд почувствовал себя вполне умиротворённым и послал своей очередной миссис Томпсон щедрую добавку к причитающейся ей, и без того не скудной, порции супа и вина.
Эрнеста отцовское письмо глубоко, до глубины души расстроило; подумать только – чтобы даже любимая тётушка, единственная из всех родичей, кого он по-настоящему любил, отвернулась от него и была о нём дурного мнения! Это был самый немилосердный удар судьбы. В сумятице своей болезни мисс Понтифик, думая исключительно о его благосостоянии, упустила сделать какое-нибудь письменное упоминание о нём, которое доказало бы беспочвенность подобных инсинуаций со стороны его отца; а после того как выяснилось, что болезнь заразна, она уже с ним не виделась. Я об этом письме Теобальда не знал, а о крестнике своём думал слишком мало, чтобы угадать, в каком состоянии он мог находиться. Письмо я обнаружил много лет спустя в кармане старого эрнестова портфеля вместе с другими письмами и школьными бумагами, которые я уже использовал в этой книге. Сам Эрнест о письме забыл, но, увидев его у меня, вспомнил, что оно в своё время послужило первым толчком к восстанию против отца, восстанию, которое он считал праведным, хотя провозгласить его открыто не решался. И среди самых немаловажных причин тому было опасение, что ему придётся по долгу совести отказаться от дедова наследства: ведь если оно было оставлено по ошибке, как мог он его принять?
До самого конца полугодия Эрнест оставался несчастным и безразличным ко всему. Некоторых из своих однокашников он любил, других, которых считал более достойными, чем он сам, боялся; собственно, он был склонен идеализировать и считать выше себя всякого, за вычетом разве тех, кто очевидно был много ниже его. Он ставил самого себя крайне низко, и поскольку ему болезненно недоставало физической силы и жизненной энергии, и поскольку он со стыдом осознавал, что отлынивает от учёбы, он не находил в себе ничего, что могло бы составить ему доброе имя; он полагал, что дурен от природы, что он из тех, кому недоступно даже раскаяние, хотя он и стремится к нему до слёз. Итак, он бежал тех, кого по-мальчишески боготворил, нимало не подозревая, что, может быть, обладает полным набором не худших, чем у них, способностей, хотя и другого рода, и всё больше якшался с теми, за кем водилась репутация людей пониже классом, но с кем он, по крайней мере, мог чувствовать себя на равных. К концу полугодия он утратил в собственных глазах то достоинство, в которое был возведён за время пребывания в Рафборо его тётушки, и им снова овладело привычное уныние, перемежавшееся, впрочем, приступами тайной гордыни, не уступавшей силой самомнению его матери.
– Понтифик, – сказал ему доктор Скиннер, обрушившийся на него как-то раз в коридоре, как моральный оползень, не дав ему возможности улизнуть, – вы что же, никогда не смеётесь? Вы всегда такой противоестественно важный?
Доктор не имел в виду ничего плохого, но мальчик побагровел и убежал прочь.
И только в одном месте ему было хорошо – в старой церкви святого Михаила, когда там упражнялся его друг органист. Примерно в это время стали выходить недорогие издания великих ораторий, и Эрнест покупал их все немедленно по выходе; он порой продавал букинисту свои школьные учебники и на вырученные деньги покупал арию-другую то из «Мессии», то из «Творения», то из «Илии».
Конечно, это было форменное мошенничество по отношению к папе и маме, но Эрнест всё равно уже низко пал – так он думал – и желал как можно больше музыки и как можно меньше Саллюстия[144]144
Саллюстий, римский историк I в. до н. э.
[Закрыть], или как его там. Иногда органист, уходя домой, оставлял Эрнесту ключи, и тот мог поиграть сам, а потом запирал орган и церковь, поспевая к отбою. Порой он бродил вокруг церкви, пока органист играл, и любовался надгробиями и древними витражами, услаждая одновременно зрение и слух. Однажды старик-настоятель, заметив, с каким интересом Эрнест наблюдает за установкой нового витража, купленного в Германии и считавшегося работой Альберта Дюрера[145]145
Альбрехт (а не Альберт, как у Батлера) Дюрер (1471–1528), немецкий художник.
[Закрыть], заговорил с ним и, услышав, что тот любит музыку, сказал своим дребезжащим голосом (ему было за восемьдесят):
– Тогда вы, вероятно, знаете доктора Берни[146]146
Чарльз Берни (1726–1814), английский историк музыки, органист и композитор.
[Закрыть], который написал историю музыки. Я чрезвычайно хорошо знавал его, когда он был молодым человеком.
В груди Эрнеста всё затрепетало, ибо ему было известно, что доктор Берни в свою бытность школьником в Честере похвалялся справа налево, будто видел Генделя с трубкой в зубах в кофейне[147]147
Кофейни, быстро распространившиеся в Лондоне с сер. XVIII в., стали форумами политических и литературных дискуссий и сыграли большую роль в культурном развитии страны.
[Закрыть] у Биржи – и вот теперь перед ним стоял человек, видевший если и не самого Генделя, то кого-то, кто видел его.
Да, в его пустыне были оазисы, но, несмотря на это, мальчик чаще всего выглядел бледным и осунувшимся; казалось, у него есть некая тайна, удручавшая его, – да она и в самом деле была, и его можно понять. Он возвысился было, пусть и вопреки себе, в школе, а теперь впадал во всё более глубокую немилость у учителей, не вырастая при этом во мнении мальчиков, которые, как он был убеждён, и понятия не имели, каково это – иметь на душе гнетущую тайну. Вот это Эрнест воспринимал наиболее болезненно; ему не было дела до мальчиков, которым он нравился, он боготворил тех, кто его сторонился; впрочем, так оно часто случается с мальчиками, и не в одной только Англии.
Наконец, положение достигло кризисной точки, дальше которой идти уже было некуда, ибо в конце полугодия – второго после смерти его тётушки – Эрнест принёс домой документ, который Теобальд заклеймил «позорным и возмутительным». Я мог бы и не объяснять, что намекаю на школьный табель.
Этот документ всегда был для Эрнеста источником беспокойства, ибо дома в него скрупулёзно вникали, а его самого подвергали долгому перекрёстному допросу. Он иногда «подписывался» на всякие учебные надобности, например, портфель или словарь, а потом продавал их, чтобы пополнить свой карманный бюджет и, как я уже говорил, купить либо ноты, либо табак. Такие приписки, как он думал, таили в себе опасность неминуемого разоблачения, и у него каждый раз камень спадал с души, когда перекрёстный допрос заканчивался благополучно. На этот раз Теобальд поднял много шума из незапланированных расходов, но долго задерживаться на них не стал; совсем иначе обстояло дело с успеваемостью, поведением и моральными характеристиками, содержавшимися в табеле. Вот как выглядела страница, где находились эти пункты:
ТАБЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ И УСПЕВАЕМОСТИ ЭРНЕСТА ПОНТИФИКА.
ПЯТЫЙ КЛАСС, ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1851 г.
Классические языки и литература: ленив, апатичен, прогресса нет.
Математика: =//=, =//=, =//=.
Богословие: =//=, =//=, =//=.
Поведение на уроках: послушен.
Общее поведение и прилежание: неудовлетворительно в силу крайне низкой пунктуальности и невнимательности к исполнению своих обязанностей.
Наградные по месяцам: 1 ш., 6 п., 6 п., 0 п., 6 п. Всего 2 ш. 8 п.
Число наградных баллов: 2, 0, 1, 1,0. Всего 4.
Число штрафных баллов: 26, 20, 25, 30, 25. Всего 126.
Число чрезвычайных штрафов: 9, 6, 10, 12, 11. Всего 48.
Рекомендую поставить количество карманных денег в зависимость от наградных.С. Скиннер, директор.
Глава XXXVIII
Так Эрнест оказался в немилости с самого начала каникул; но вскоре произошло событие, затянувшее его в такие мрачные бездны, по сравнению с которыми все его прошлые грехи стали казаться невинной забавою.
Среди прислуги приходского дома была одна замечательно хорошенькая девушка по имени Эллен. Она происходила из Девоншира, из семьи рыбака, утонувшего, когда она была ещё ребёнком. Мать открыла в деревне, где жил её муж, лавку и кое-как ухитрялась зарабатывать на жизнь. До четырнадцати лет Эллен оставалась с нею, а потом пошла в услужение. Четыре года спустя, когда ей было лет восемнадцать, а на вид, по пышности развития, и все двадцать, её порекомендовали Кристине, которая, прожив к тому времени в Бэттерсби около года, как раз искала горничную.
Как я уже сказал, девушка была замечательно хороша собой – само воплощение совершенного здоровья и добросердечия, с таким безмятежным спокойствием на челе, что едва ли не всякий, видевший её, пленялся ею; казалось, у неё всё всегда идёт хорошо, и всегда будет идти хорошо, и никакие мыслимые стечения обстоятельств не смогут заставить её надолго рассердиться на себя или на других. Она была среднего роста, бела и румяна, с прекрасным разрезом серых глаз и губами полными и умиротворёнными, как у египетского сфинкса. Мне сразу, как только я узнал, что она из Девоншира, показалось, что я вижу в ней отдалённые признаки египетской крови, потому что я слышал когда-то, хотя и не уверен, насколько эти рассказы обоснованы исторически, что египтяне селились на берегах Девоншира и Корнуолла задолго до того, как Британию завоевали римляне. Волосы у неё были тёмно-каштановые, а фигура если в чём-то и не достигала совершенства, то только в том, что несколько, может быть, чересчур дышала здоровьем. Одним словом, это была одна из тех девушек, глядя на которых так и хочется спросить – как это она может оставаться незамужней ещё хоть неделю или даже день.
Её лицо (как, в общем, и все лица, хотя допускаю, что они могут лгать) было точным отражением её нрава. Она была само воплощённое добродушие, и все в доме, даже, думаю, в известном смысле и Теобальд, её любили. Кристина же и вовсе приняла в ней самое сердечное участие и дважды в неделю призывала к себе в столовую и готовила к конфирмации[148]148
В протестантских церквях – обряд воцерковления, совершаемый в подростковом возрасте.
[Закрыть] (ибо по какой-то случайности та её не прошла), рассказывая о географии Палестины и о дорогах, по которым ходил апостол Павел в своих долгих странствиях по Малой Азии.
Когда епископ Тредуэлл прибыл-таки в Бэттерсби и провёл там конфирмацию (сбылись мечты Кристины – он ночевал в Бэттерсби, и она устроила в его честь пышный обед и без конца называла его «милордом»), его так поразила красота её лица и скромная манера держаться во время наложения рук, что он спросил о ней Кристину. Услышав в ответ, что Эллен – одна из её служанок, епископ порадовался, как подумала или решила подумать Кристина, тому обстоятельству, что такая хорошенькая девушка смогла найти такое отличное место.
Эрнест во время каникул вставал очень рано, чтобы до завтрака успеть поиграть на пианино и не беспокоить папу с мамой – или чтобы они не беспокоили его. Пока он играл, Эллен обычно подметала пол и вытирала пыль в гостиной, и скоро Эрнест, всегда готовый подружиться чуть ли не с кем попало, полюбил её всем сердцем. Обычно он не был восприимчив к чарам прекрасного пола; собственно говоря, ему до сих пор почти не доводилось иметь дело с женщинами, если не считать тётушек Оллеби, тёти Алетеи, матери, сестры Шарлотты и миссис Джей; а когда временами случалось раскланиваться с дочерью Скиннера, то хотелось провалиться сквозь землю от смущения; с Эллен же его застенчивость куда-то испарилась, и они сделались закадычными друзьями.
Пожалуй, хорошо, что Эрнест не бывал дома подолгу, пусть его привязанность к Эллен, при всей глубине и сердечности, была чисто платонической. Он был не просто невинен, но прискорбно, я бы даже сказал, преступно невинен. Он избрал Эллен на том основании, что она никогда на него не ругалась, а только улыбалась и была с ним ласкова; кроме того, ей нравилось слушать, как он играет, и оттого ему ещё больше хотелось играть. Эти утренние упражнения на фортепиано были, собственно, самым главным, если не единственным в глазах Эрнеста преимуществом каникул, ибо в школе доступа к инструменту у него не было, разве что полулегального, при посещении нотного магазина мистера Персолла.
Приехав на каникулы этим летом, он был потрясён бледностью и болезненным видом своей любимицы. Весёлость покинула её, румянец сбежал со щёк, она, похоже, чахнула. Она говорила, что боится за свою мать, чьё здоровье совсем плохо, да и сама она, видно, не жилец на этом свете. Эта перемена, разумеется, не ускользнула от внимания Кристины.
– Я всегда замечала, – сказала она, – что самые розовощёкие и пышущие здоровьем девушки раньше всех и сдают. Я давала ей каломель и джеймсов порошок; и как бы она ни противилась, я должна показать её доктору Мартину при его следующем визите.
– Хорошо, дорогая, – сказал Теобальд, и при следующем визите доктора Мартина послали за Эллен. Доктор Мартин очень скоро обнаружил то, что могло быть вполне очевидно для Кристины и без него, если бы она допускала хотя бы возможность такого рода недомогания в отношении служанки, живущей под одной крышей с нею и Теобальдом, чистота чьей брачной жизни должна была предохранять от малейшего налёта грязи всех юношей и дев, хоть как-то с ними соприкасающихся и не состоящих в браке.
Когда стало ясно, что через три-четыре месяца Эллен станет матерью, природная добросердечность Кристины начала было склонять её поступить в этом деле со всей возможной снисходительностью, но её охватил панический ужас при мысли, что всякое проявление ею и Теобальдом милосердия истолкуют как терпимость, пусть и частичную, к столь страшному греху; и вот она ринулась в другую крайность – единственное, что можно сделать в такой ситуации, это заплатить Эллен её жалование и – вон со всеми пожитками из дома сего, его же сугубо и изрядно избрала чистота и непорочность градом обители своея. Помыслив, какую страшную заразу распространит дальнейшее, хотя бы недельное пребывание Эллен в доме, она не могла долее медлить.
Тут же возник и вопрос – жуткая мысль! – а кто же соучастник преступления? Возможно ли, что это её родной сын, её дорогой Эрнест? Он растёт. Она может понять и простить влюбившуюся в него молодую женщину; что же до него самого – он не хуже любого сверстника оценит чары хорошенького личика. Если он невинен, то всё в порядке, но ах! – а вдруг он не невинен?
Такая мысль была невыносима, но делать вид, будто ничего не произошло, было бы обыкновенной трусостью; всё упование её на Господа Бога своего[149]149
Ср. Пс 145:5.
[Закрыть], она готова с радостью принять и мужественно нести все страдания, какие Ему угодно будет ниспослать ей. Ребёнок будет либо мальчиком, либо девочкой – это, по крайней мере, ясно. Столь же ясно и то, что мальчик будет похож на Теобальда, а девочка на неё, Кристину. Сходство, будь то телесное или духовное, обычно проявляется через поколение. Вина родителей не лежит на невинных плодах позора, о нет! – а такой ребёнок, как этот… И её понесло по волнам её привычных грёз.
Ребёнка как раз рукополагали в епископа Кентерберийского[150]150
Глава англиканской церкви.
[Закрыть], когда Теобальд вернулся из очередного пастырского посещения и услышал ошеломительную новость.
Об Эрнесте Кристина ничего не сказала и была, по-моему, изрядно раздосадована, когда вину переложили на другие плечи. Впрочем, она легко утешилась двумя рассуждениями: во-первых, её сын чист, а во-вторых, она совершенно уверена, что он не был бы чист, когда бы не сдерживающие его религиозные убеждения, для чего, собственно, таковые религиозные убеждения и предназначены.
Теобальд был согласен с тем, что нельзя терять ни минуты и необходимо немедленно заплатить Эллен её жалование и отправить вон. На том и порешили, и не прошло и двух часов после визита доктора Мартина, как Эллен, упрятав лицо в платок, уже сидела рядом с кучером Джоном, отвозившим её на станцию, и горько рыдала.








