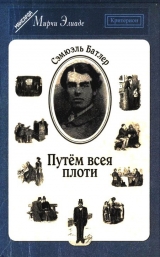
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
Глава LXIV
После оглашения приговора Эрнеста отвели в камеру дожидаться отправки к месту несения наказания.
Он был настолько ошеломлён внезапностью событий последних суток, что ещё не осознавал своего положения. Между его прошлым и будущим открылась бездна; и всё же он дышал, его пульс бился, он мог мыслить и говорить. Ему казалось, что такой удар должен бы его раздавить, но он не был раздавлен; от более мелких промахов ему часто приходилось страдать куда острее. И только когда он представлял себе, как мучительно будет его падение для отца с матерью, он был готов отдать всё, чтобы только не было этого кошмара. У матери сердце будет разбито. Будет, иначе быть не может, он знал это, и знал тоже, кто тому причиной.
Всё утро у него болела голова; теперь же, когда он подумал о родителях, его пульс участился, боль резко усилилась. Он едва добрёл до тюремной кареты, а езда в ней оказалась совершенно нестерпимой. Прибыв в тюрьму, он был уже настолько слаб, что без посторонней помощи не мог дойти до галереи, по которой ведут узников по приезде. Тюремный надзиратель, сразу распознав в нём священника, не стал подозревать его в симуляции, как заподозрил бы обычного заключённого, и послал за врачом. Этот джентльмен, прибыв, объявил, что у Эрнеста начальная стадия воспаления мозга, и его тут же отправили в больницу. Два месяца он пребывал между жизнью и смертью, ни разу не приходя в полное владение своим рассудком и часто впадая в беспамятство; но, наконец, вопреки ожиданиям доктора и сиделки, начал медленно поправляться.
Говорят, для побывавших на пороге смерти возвращение сознания ещё мучительнее, чем былая его потеря; так было и с моим героем. То, что он не умер во время одного из приступов беспамятства, казалось ему, больному, обессиленному, беспомощному, верхом изощрённой жестокости. Он думал, что, может быть, ещё поправится, но только для того, чтобы чуть позже снова погрузиться в бездну стыда и скорби; тем не менее, он день ото дня именно поправлялся, хотя так медленно, что и сам этого не замечал.
И вот в один прекрасный день, недели через три после того, как он впервые пришёл в сознание, сиделка, ухаживавшая за ним и очень хорошо к нему относившаяся, выкинула какое-то шутливое коленце, и это его позабавило; он рассмеялся; она захлопала в ладоши и объявила, что он снова станет нормальным человеком. В нём загорелась искра надежды, вернулось желание жить. Почти с самого этого момента его мысли всё реже обращались к ужасам прошлого и всё чаще к тому, как лучше всего встретить будущее.
Самым большим его страданием были мысли о родителях, о том, как он посмотрит им в глаза. Ему по-прежнему представлялось наилучшим и для себя, и для них, если он полностью порвёт с ними, заберёт деньги, какие уж ему удастся забрать у Прайера, и уедет куда-нибудь на край света, где не будет никого из знавших его в школе и колледже, и начнёт жизнь с начала. А может быть, он отправится на золотые прииски в Калифорнию или Австралию, о которых в то время ходили самые неимоверные слухи; и может быть, даже разбогатеет там, а много лет спустя вернётся уже стариком и поселится в Кембридже. Он строил эти свои воздушные замки, и искра жизни разгоралась пламенем, и он затосковал по здоровью и по свободе, которая теперь, когда уже прошла такая часть его срока, была не так уж далека.
Дальше всё стало вырисовываться более отчётливо. Что бы ни случилось, священником ему не быть. Для него будет практически невозможно найти место в приходе, даже если бы он этого хотел, а он этого и не хотел. Теперь он ненавидел ту жизнь, которую вёл с тех пор, как начал готовиться к рукоположению; он не мог бы привести тому никаких доводов, он просто испытывал отвращение в этой жизни и больше её не желал. Раздумывая над перспективой снова стать простым мирянином, пусть даже сколь угодно запятнанным, он возрадовался постигшему его и даже это своё тюремное заключение, казавшееся поначалу несказанным несчастьем, стал воспринимать как благо.
Может быть, такое резкое изменение обстоятельств его жизни ускорило перемены в его убеждениях, подобно тому, как коконы шелковичных червей, когда их перевозят в корзинах по железной дороге, от перемены температуры и от тряски созревают раньше положенного им срока. Как бы то ни было, его доверие к рассказам о смерти, воскресении и вознесении Иисуса Христа и, следовательно, вера во все остальные христианские чудеса улетучились у него раз навсегда. Исследование, которое он провёл по назиданию мистера Шоу, сколь бы поверхностным оно ни было, произвело на него глубокое впечатление, и теперь, когда он достаточно оправился, чтобы читать, он сделал Новый Завет предметом пристального изучения, штудируя его в том духе, какого пожелал ему мистер Шоу, именно же, как тот, кто не желает верить и не желает не верить, а заботится только о том, чтобы выяснить, следует ли ему верить или нет. Чем дальше он читал в этом духе, тем больше ему казалось, что чаша весов склоняется в сторону неверия, пока, наконец, никаких сомнений более не оставалось, и он вполне отчётливо увидел, что пусть всё остальное будет правдой, но повесть о том, что Христос умер, снова ожил и был унесён с земли сквозь облака на небо, непредвзятыми людьми нашего времени принята быть не может. И это хорошо, что он понял это, пока ещё не поздно. Так или иначе, он бы всё равно столкнулся с этим вопросом – рано или поздно. Он, возможно, увидел бы это много лет назад, если бы его не одурачивали люди, которым платили за то, чтобы его одурачивать. Что, спрашивал он себя, если бы он сделал это открытие не сейчас, а спустя годы, когда бы уже глубоко вошёл в жизнь священника? Хватило бы ему мужества посмотреть правде в глаза или, что более вероятно, не изобрёл ли бы он какого-нибудь убедительного повода продолжать мыслить, как прежде? Хватило бы ему мужества уйти даже с нынешней викарной должности?
Он знал, что нет, не хватило бы, и он не знал, за что благодарить больше – за то, что ему была показана его ошибка, или за то, что он был взят в оборот так, что ему вряд ли удастся ошибаться и впредь, и взят в тот самый момент, когда он сделал это открытие. Цена, которую ему пришлось заплатить за такое благодеяние, мизерна по сравнению с самим благодеянием. Разве это цена за то, что твой ранее очень трудный долг сделался для тебя совершенно ясен и легко выполним? Ему было жаль отца с матерью, ему было жаль мисс Мейтленд, но себя ему уже не было жаль совсем.
Он только недоумевал, как это он до сих пор не замечал, что до такой степени ненавидит это своё священническое поприще. Он знал, что особой любви к нему не испытывал, но если бы его спросили, ненавидит ли он по-настоящему, он сказал бы «нет». Надо полагать, люди нуждаются в чём-то внешнем, чтобы разобраться, что им нравится, а что нет. Наши самые устойчивые пристрастия происходят большею частью не от самоанализа или иного осознанного мыслительного процесса, а от принуждения, заставляющего сердца наши открыться благой вести, провозглашённой для них кем-то другим. Мы слышим, как кто-то говорит, что вот то-то есть то-то, и в сей же миг заложенное в нас зерно мысли врывается в наше сознание и восприятие.
Всего год назад он принудил себя открыться проповеди мистера Хока; потом он принудил себя открыться Колледжу духовной патологии; теперь он, как борзая на охоте, преследует чистый и наивный рационализм; может ли он быть уверен, что нынешний его образ мыслей продержится дольше, чем предыдущие? Нет, уверен он не был, но ощущал, что стоит теперь на более твёрдой почве, чем когда-либо прежде, и сколь мимолётными ни случись быть его нынешним суждениям, он не сможет ими поступиться, доколе не увидит причины их изменить. А это, рассуждал он, было бы для него совершенно невозможно, оставайся он в окружении таких людей, как его родители, или Прайер с его друзьями, или настоятель его прихода. Все эти месяцы он наблюдал, размышлял, впитывал, не более осознавая процесс своего умственного развития, чем школьник осознаёт развитие телесное, но смог ли бы он признаться себе в этом развитии, смог ли бы поступать в меру своих возросших сил, если бы оставался в близком общении с теми, кто доказательно заверил бы его, что он галлюцинирует? Всё так сошлось против него, что его собственных сил для противостояния не хватало, и он теперь сомневался – а хватило бы для его освобождения шока не столь сильного, какой был ниспослан ему?
Глава LXV
Лёжа в больничной постели и медленно, день за днём поправляясь, он пришёл, наконец, к заключению, к которому рано или поздно приходят почти все, именно же, что на свете очень мало таких, кто хоть на полушку заботится об истине или хоть сколько-нибудь убеждён, что верить в истинное праведнее и лучше, чем в неистинное, пусть вера в неистинное выглядит на поверхностный взгляд в высшей степени удобной и целесообразной. И, однако же, только этих немногих можно назвать верующими хоть во что бы то ни было, тогда как все прочие – просто замаскированные неверующие. Эти последние, может статься, в конечном счёте и правы. На их стороне большинство и благосостояние. У них есть всё, чем рационалист измеряет правильное и неправильное. Правильное, считает он, есть то, что кажется правильным большинству разумных, обеспеченных людей; более надёжного критерия у нас нет, но на чём замешаны выведенные таким образом заключения? Попросту говоря, на том, что заговор молчания вокруг предметов, чья истинность или неистинность при объективном рассмотрении стала бы совершенно очевидной, считается не только допустимым, но и праведным, и так считают именно те, что претендуют на звание – и получают за это деньги – верховных хранителей и учителей Истины.
Эрнест не видел никакой логической возможности миновать такое заключение. Он видел, что веру первых христиан в сверхъестественную природу Христова воскресения можно объяснить и без привлечения чудес. Объяснение лежит прямо перед глазами, стоит только применить немного усилий; его снова и снова предлагали миру, и ни разу никто всерьёз не пытался его опровергнуть. Как это возможно, что Дин Арнольд, например, который сделал Новый Завет своей специальностью, не смог или не пожелал увидеть то, что так очевидно для Эрнеста? Могла ли быть этому иная причина, кроме как нежелание это увидеть, и коли так, не изменник ли он делу истины? Так, но при этом, не почтенный ли и не преуспевающий ли он муж, и не точно ли так, как Дин Арнольд, поступают и все вообще почтенные и преуспевающие мужи, такие, например, как все епископы и архиепископы, поступающие точно так, как поступил Дин Арнольд, и не сделало ли это их поступок праведным, будь то акт людоедства или детоубийства, а даже и укоренившаяся неправдивость ума?
О чудовищный, о гнусный подлог! Слабый пульс Эрнеста участился, бледное лицо вспыхнуло, когда эта отвратительная сторона жизни предстала перед ним со всей логической последовательностью. Не то потрясло его с такой силой, что все люди лжецы, – это как раз ещё ничего, но вот эта хотя бы тень сомнения, что даже не лжецы могут тоже оказаться лжецами. Если так, то надежды не остаётся вовсе; если так, то лучше умереть, и чем скорее, тем лучше. «Господи, – восклицал он про себя, – не верю из этого ни единому слову. Укрепи и утверди моё неверие[230]230
Искаженная цитата из Мк 9:24 («Верую, Господи! Помоги моему неверию»).
[Закрыть]». Казалось ему, что отныне он никогда не сможет увидеть направляющегося на рукоположение епископа, не сказав себе: «То шёл бы Эрнест Понтифик, кабы не милосердие Божье»[231]231
Знаменитое высказывание английского христианского мученика XVI в. Джона Бредфорда при виде замерзающего нищего: «То шёл бы я, кабы…».
[Закрыть]. И не его была тут заслуга или вина. Нет, хвалиться ему нечем; живи он во времена Христа, он и сам, может быть, стал бы одним из первохристиан, а то и апостолом, как знать. Но в целом ему есть за что быть благодарным.
Итак, заключение о том, что бывает лучше верить в ошибочное, чем в истинное, должно быть немедленно отметено с негодованием, сколь очевидной ни была бы приводящая к нему логика; так, но где выход? Вот он: наш критерий истины, именно же, что истина есть то, что представляется таковой большинству разумных и преуспевающих людей, – не есть непогрешимый критерий. Это хорошее правило, под него подпадает подавляющее большинство случаев, но из него есть и исключения.
И каковы же они? – спрашивал себя Эрнест. A-а, это вопрос непростой; их так много, и правила, которым они подчиняются, порой так мудрёны, что ошибки всегда были и всегда будут неизбежны; вот почему никому не удавалось свести жизнь к точной науке. Есть некий приблизительный, годящийся для повседневного обихода тест на истинность, и есть некоторое – не слишком большое, чтобы с ним нельзя было без особого труда справиться, – число правил, которым подчиняются исключения; но есть все прочие случаи, когда решение принять трудно – настолько трудно, что уж лучше следовать своим инстинктам, чем какому бы то ни было мыслительному процессу.
Значит, высший апелляционный суд – внутреннее чутьё. А что такое внутреннее чутьё? Это род веры в свидетельство того, чего нельзя видеть. И так мой герой вернулся почти к тому, с чего начал, именно же, что праведный верою жить будет[232]232
Авв 2:4.
[Закрыть].
И именно так праведные – иными словами, разумные люди – поступают в тех повседневных делах, что им ближе всего. Мелкие вопросы они решают своим умом. Более важные – такие, скажем, как телесное здоровье своё или своих близких, вложение денег, поиски выхода из серьёзных неприятностей, – обычно поручают другим, о чьих способностях если и знают, то только понаслышке; то есть поступают согласно вере, а не знанию. Так английский народ поручает благополучие своего военно-морского флота первому лорду адмиралтейства, который, не будучи моряком, ничего в этих делах смыслить не может, а может только верить. Нет никаких сомнений, что именно вера, а не разум есть последний и решительный аргумент.
Даже Евклиду, которого меньше, чем любого из когда-либо живших авторов, можно обвинить в легковерии, не удаётся это преодолеть. У него нет наглядной, демонстрируемой исходной посылки. Ему нужны постулаты и аксиомы, лежащие вне всякой демонстрации, без которых он ничего не может. Всё его здание, действительно, выстроено на доказательствах, но его фундамент есть вера. И, опять-таки, он не может пойти дальше, чем сказать человеку, что тот глупец, когда упорствует в несогласии с ним. «Что абсурдно», – говорит он и отказывается от дальнейших обсуждений. Вера и авторитет оказываются, следственно, столь же необходимыми для него, как и для всех остальных. «Но тогда верою во что, – спрашивал себя Эрнест, – постарается праведник жить в наши времена?» и отвечал: «Во всяком случае, не верою в сверхъестественный элемент христианской религии».
И как же ему лучше всего убедить своих соотечественников перестать верить в этот сверхъестественный элемент? Глядя на вопрос с практической стороны, он счёл, что наиболее обещающий ключ к разрешению ситуации может предоставить архиепископ Кентерберийский. Решение – где-то посредине между ним и папой Римским. Папа, пожалуй, сильнее всех в теории, но на практике архиепископ вполне бы справился. Если бы только Эрнесту удалось на чём-нибудь подцепить архиепископа, насыпать ему, так сказать, соли на хвост – и он обратил бы всю англиканскую церковь в свободомыслие одной смелой вылазкой. Ведь есть на свете сила убеждения, перед которой не устоять даже архиепископу – даже такому архиепископу, чьи мыслительные способности не обострило тюремное заключение за оскорбление действием. Перед лицом фактов, как их выстроит Эрнест, его высокопреосвященству ничего другого не останется, как их признать; будучи же человеком благородным, он немедленно оставит пост архиепископа, и спустя несколько месяцев христианства в Англии не останется вовсе. Так, во всяком случае, должно быть. Но не было, не было у Эрнеста уверенности, что архиепископ не возьмёт, да и не ускачет прямо в тот миг, как он замахнется на него щепоткой соли; и это было до такой степени нечестно, что кровь закипала у него в жилах. И если такому суждено было случиться, Эрнест должен попробовать силки, птичий клей или соль на хвост из засады.
Отдадим ему справедливость – он так заботился отнюдь не о себе самом. Он знал, что его постоянно околпачивали; он знал также, что большею частью выпавших на его долю невзгод он главным образом, хотя и косвенно, обязан влиянию христианского вероучения; и всё же, если бы всё заканчивалось на нём самом, он бы не очень задумывался, но ведь есть ещё его сестра, его брат Джои, а также сотни и тысячи юных существ по всей Англии, чью жизнь отравляют своею ложью те люди, которым по долгу службы положено всё хорошо знать, но которые манкируют своими обязанностями и увиливают от трудностей, вместо того, чтобы разбираться с ними. Именно поэтому он считал, что гнев его правомерен, и что надо подумать, нельзя ли хоть что-нибудь сделать, чтобы избавить других от всех тех бессмысленно потраченных, исполненных страдания лет, через которые пришлось пройти ему. Если рассказы о чудесах Христовой смерти и воскресения не содержат в себе правды, то и вся религия, основанная на исторической истинности этих рассказов, оказывается в руинах. «Что же это такое, – восклицал он со всей заносчивостью юности, – они сажают цыганку и гадалку в тюрьму за то, что те вымогают деньги у глупцов, верящих в их сверхъестественные способности, – так отчего же не священника, притворяющегося, что может отпускать грехи или превращать хлеб и вино в тело и кровь Того, кто умер две тысячи лет тому назад? Где ещё, – спрашивал он себя, – встретишь такое чистое трюкачество, как когда епископ кладёт руки на голову юноше и делает вид, что сообщает ему духовную власть творить это чудо? Вот, все говорят, терпимость; хорошо; но ведь терпимость, как и всё другое, имеет свои пределы; и потом, если терпимо относиться к епископу, то почему не к гадалке?». Он объяснит всё это архиепископу Кентерберийскому, дайте срок, но пока, пока до него не добраться, Эрнесту пришло в голову, что можно с пользой для дела поэкспериментировать на не столь возвышенной душе – душе тюремного капеллана. Ведь только тот, кто делает первый и наиболее очевидный шаг, на какой только способен, достигает в итоге великого, и вот однажды, когда мистер Хьюз – ибо именно так звали тюремного капеллана – с ним беседовал, Эрнест поднял вопрос о христианском свидетельстве и попытался развязать дискуссию. Мистер Хьюз всегда очень хорошо к нему относился, но он был вдвое старше моего героя и давно уже был сыт по горло всеми этими выкладками, которые пытался ему подсунуть Эрнест. Я не думаю, чтобы он более Эрнеста верил в фактическую, объективную правдивость рассказов о воскресении и вознесении, но он знал, что это вопрос несущественный, что настоящая проблема гораздо глубже.
Мистер Хьюз был человек, уже много лет облечённый авторитетом, и он отмахнулся от Эрнеста, как от мухи. Он проделал это так хорошо, что мой герой с тех пор ни разу не решился лезть к нему с этими вопросами, а ограничивался предметами, которыми планировал заняться по выходе из тюрьмы; и здесь мистер Хьюз был всегда рад выслушать его со всей доброжелательностью и сочувствием.
Глава LXVI
Эрнест поправлялся; большую часть дня он уже мог сидеть. Прошло три месяца его заключения, и хотя он был ещё слишком слаб, чтобы выписаться из изолятора, опасность рецидива давно миновала. Однажды, беседуя с мистером Хьюзом о своём будущем, он снова выразил намерение эмигрировать в Австралию или Новую Зеландию с деньгами, которые он получит назад у Прайера. Каждый раз, говоря об этом, он замечал, что мистер Хьюз мрачнеет и замолкает; он полагал, что капеллан, наверное, хотел бы, чтобы он вернулся к прежней профессии, и не одобряет его очевидного стремления заняться чем-то другим. И вот теперь он без обиняков спросил мистера Хьюза, почему тот так противится идее эмиграции.
Мистер Хьюз попробовал было отмолчаться, но не тут-то было. Что-то в его манере говорило, что он знает что-то неизвестное Эрнесту, но почему-то не хочет говорить. Это встревожило Эрнеста настолько, что он стал умолять капеллана не мучить его неизвестностью, и тот, поколебавшись немного, решил, что Эрнест уже достаточно окреп, и как мог осторожно выложил ему весть о том, что все его деньги пропали.
Дело в том, что на второй день после моего возвращения из Бэттерсби я зашёл к своему адвокату, который сказал мне, что написал Прайеру с требованием вернуть деньги согласно его распискам. Прайер ответил: он дал указание своему брокеру закрыть все операции, что, к сожалению, обернулось большой потерей денег; остаток же будет передан моему адвокату в следующий день биржевого платежа, то есть примерно через неделю. Когда срок настал, мы ничего от Прайера не услышали и, отправившись к нему домой, обнаружили, что в тот самый день, когда мы к нему обращались, он съехал с квартиры со всеми своими немногочисленными пожитками, и больше о нём не было ни слуху ни духу.
От Эрнеста я знал фамилию брокера, и тут же направился к нему. Он сообщил мне, что Прайер закрыл все свои счета в день вынесения Эрнесту приговора, получив наличными 2315 фунтов – всё, что осталось от эрнестовых пяти тысяч. С тем он был таков, причём у нас нет и намёка на его местопребывание, чтобы предпринять какие-нибудь шаги и хотя бы попытаться вернуть деньги. Единственное, что тут реально оставалось, это списать всю сумму в убытки. Могу добавить, что ни я, ни Эрнест, так никогда и не услышали ничего о Прайере и понятия не имеем о том, куда он делся.
Я оказался в трудном положении. Я, конечно, знал, что через несколько лет у Эрнеста будет денег во много раз больше того, что он потерял, но я знал также, что он этого не знает, и боялся, что потери всего, что у него было (а именно так он это воспримет), в придачу ко всем прочим злоключениям, он не перенесёт.
Из найденного в кармане Эрнеста письма тюремные власти знали адрес Теобальда и не раз писали к нему по поводу болезни сына. Я же, не получая ничего от Теобальда, полагал своего крестника в добром здравии. По выходе из тюрьмы ему будет двадцать четыре, и если я стану следовать указаниям его тётушки, ему придётся ещё четыре года по мере сил спорить с судьбой. Передо мной стоял выбор: или пусть он подвергается такому риску, или я частично нарушу данные мне инструкции – чего мне никто не помешал бы сделать, сочти я, что мисс Понтифик того бы пожелала, – и дам ему ту самую сумму, которую он должен был бы получить у Прайера.
Если бы мой крестник был постарше и потвёрже укреплён хоть в какой-нибудь колее, мне следовало бы поступить именно так, но он был всё ещё очень юн и на редкость незрел для своего возраста. Если бы, однако, я знал о его болезни, я не посмел бы взваливать на его плечи ещё больше груза, чем он уже нёс; но, не имея поводов беспокоиться о его здоровье, я полагал, что несколько лет лишений преподадут ему отнюдь не лишний для него урок – как важно не фокусничать с деньгами. Итак, я решил, что буду зорко следить за ним после выхода из тюрьмы и дам побарахтаться на глубине, пока не увижу, что он выплывает или, наоборот, тонет. В первом случае я позволю ему плыть и дальше, пока ему не подойдёт к двадцати восьми, когда я смогу постепенно подготовить его к предстоящему богатству, а во втором поспешу на выручку. Итак, я написал ему, что Прайер бежал, и что по выходе из тюрьмы он может получить присланные отцом 100 фунтов. После этого я принялся ждать, какой это произведёт эффект, не ожидая услышать ответ раньше трёх месяцев, ибо, наведя справки, выяснил, что заключённому не позволяется получать писем прежде, чем он отбудет три месяца своего срока. Я написал также и Теобальду и сообщил ему об исчезновении Прайера.
Вышло так, что управляющий тюрьмою прочёл моё письмо и готов был в виде исключения нарушить правило, если бы состояние Эрнеста это позволило; но болезнь помешала, и управляющий оставил дело на усмотрение капеллана и доктора, которые и должны были сообщить Эрнесту эту новость, когда сочтут его достаточно окрепшим, чтобы её перенести, – что теперь и состоялось. Тем временем я получил официальное уведомление в том, что моё письмо получено и будет передано заключённому в должном порядке; думается, мне не сообщили о болезни Эрнеста просто в силу бюрократической ошибки, но, так или иначе, я ничего не знал о ней до того самого момента, когда встретился с ним, по его собственному пожеланию, через несколько дней после того, как капеллан сообщил ему сущность написанного мною.
Эрнест был страшно потрясён, узнав о потере денег, но незнание мира не позволило ему осознать всю меру постигшего его несчастья. Он никогда ещё не испытывал серьёзной нужды в деньгах и не знал, что она такое. Вообще потеря денег переживается тяжелее всего теми, кто достаточно зрел, чтобы её до конца осознать.
Человек может устоять, когда ему скажут, что ему предстоит сложная операция, или что у него некая болезнь, от которой он скоро умрёт, или что он останется инвалидом или слепым до конца своих дней; как бы страшны ни были такие новости, огромное множество сынов человечества они не сокрушают; право, даже большинство приговорённых к казни довольно хладнокровно идут на виселицу; но даже самые сильные падают духом перед лицом финансового краха, причём чем человек неординарнее, тем в более глубокую прострацию он, как правило, впадает. Чрезвычайно распространённое последствие денежных потерь – самоубийство, тогда как в качестве средства избавиться от телесных страданий к нему прибегают редко. Если мы знаем, что у нас есть в кубышке, так что мы можем умереть в тепле и покое своей постели, не заботясь о тратах, мы проживаем свою жизнь до дна, как бы мучительны ни были испытываемые нами терзания. Иову, надо думать, потеря его стад и отар отозвалась чувствительнее, чем потеря жены и детей – ведь он мог бы наслаждаться своими стадами и отарами без своей семьи, но не мог бы наслаждаться семьёй – во всяком случае, долго, – если бы потерял все свои деньги. Потеря денег – худшая из мук не только сама по себе, но и потому ещё, что порождает все остальные. Вообразите человека с некоторым достатком и без профессии; вообразите теперь, что у него отняли вдруг все его деньги. Надолго ли хватит ему здоровья пережить все вызванные этим перемены в его образе жизни, в его повседневных привычках? Надолго ли, опять-таки, переживут этот крах уважение и сочувствие друзей? Окружающие могут за нас очень переживать, но доныне их отношение к нам основывалось на посылке, что по части денег мы находимся в таком-то и таком-то положении; когда сие рушится, формулировка социальной задачи в отношении нас должна быть изменена: мы обретали уважение к себе на ложных посылках. Итак, согласимся, что три самые серьёзные потери, какие могут выпасть на долю человека, – это потеря денег, здоровья и репутации. Потеря денег из них самая худшая, и намного; за нею следует потеря здоровья, и только потом репутации; эта последняя следует третьей в реестре наихудших оттого, что если деньги и здоровье при этом целы и невредимы, то потеря репутации окажется, как правило, следствием несоблюдения лишь наносных социальных условностей, а не нарушения тех древних, более устоявшихся канонов, чей авторитет сомнению не подвергается. В таком случае человек может отрастить новую репутацию с такой же лёгкостью, с какой ящерица отращивает хвост, или, если у него есть деньги и здоровье, благополучнейшим образом обходиться вообще без репутации. Потерявший же деньги встанет на ноги единственно только в том случае, если ещё достаточно молод, чтобы перенести такое корчевание и пересадку без последствий более серьёзных, чем временное помутнение рассудка; и я именно полагал, что мой крестник достаточно молод.
Согласно тюремным правилам, он имел возможность получить и послать письмо после трёх месяцев заключения, и также имел право на одно свидание с другом. Получив моё письмо, он сразу же пригласил меня, и я, разумеется, пришёл. Я нашёл его сильно изменившимся и очень слабым; даже переход из больницы в камеру, где мне было разрешено с ним встретиться, и возбуждение от этой встречи оказались для него слишком большим напряжением. Поначалу он был просто неживой, и мне было так больно видеть его в таком состоянии, что я готов был уже прямо не сходя с места нарушить все данные мне инструкции. Однако я сдержался и заверил, что помогу ему, как только он выйдет из тюрьмы, а когда решит, что будет делать, пусть приходит ко мне за деньгами, которые ему для этого понадобятся, если не получит их от отца. Чтобы не сконфузить его, я сказал, что его тётушка на смертном одре поручила мне нечто в этом роде, буде возникнет критическая ситуация, так что я фактически просто отдам то, что оставила ему она.
– В таком случае, – сказал он, – я не возьму 100 фунтов у отца, и я никогда больше не увижу ни его, ни мать.
– Возьми эти 100 фунтов, Эрнест, – сказал я, – возьми все деньги, какие только можешь, а потом не встречайся с ними, если не хочешь.
Нет, на это Эрнест не пойдёт. Если он возьмёт деньги, он не сможет порвать с ними, а он хочет именно порвать. Я подумал, что если моему крестнику достанет силы воли выполнить задуманное и полностью порвать с отцом и матерью, он много выиграет в жизни, – и так я и сказал.
– То есть они вам не нравятся? – спросил он с удивлённым видом.
– Не нравятся? – отвечал я. – Это же страшные люди.
– Ну, – воскликнул он, – это лучшее, что вы для меня сделали! Я-то считал, что всем… всем немолодым людям нравятся мои мать с отцом.
Он собирался назвать меня старым, но мне было только пятьдесят семь, и я не собирался этого терпеть и скорчил мину, заметив его заминку, что и привело его к «немолодым».
– Раз уж на то пошло, – сказал я, – могу добавить, что в вашей семье все страшные люди, кроме тебя и тёти Алетеи. В каждой семье большинство – чудовища; если в каждой большой семье найдётся один-два приличных человека, то и на том спасибо.
– Спасибо вам, – ответил он с искренней благодарностью. – Теперь я, пожалуй, всё выдержу. Я приду к вам, как только выйду отсюда. До встречи. – Ибо надзиратель сообщил нам, что отведенное для свидания время истекло.








