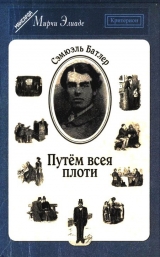
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 37 страниц)
Джордж Бернард Шоу:
Рецензия на «Воспоминания о Сэмюэле Батлере» Фестинга Джонса[290]290
Рецензия включена в издание романа «Путём всея плоти» 1936 года. Публикуется в сокращении.
[Закрыть]
Батлер рассказал в романе «Путём всея плоти» историю своего детства с таким устрашающим великолепием, что лучше нельзя было придумать. «Путём всея плоти» – одно из вершинных человеческих достижений в этом жанре; и жизнь Батлера будет лишь полувразумительна для тех, кто не распознал его родителей в мерзейшем Теобальде и его Кристине, самими своими именами возвещающих, что они сделали своих богов столь же ненавистными для своего сына, как и самих себя.
Но мораль жизни Батлера в том, что даже гений не может пройти через такое воспитание, какому подвергли Батлера, и не поранить, не изувечить при этом свою душу. Именно его гений, постоянно пробивавшийся к истине, ещё в детстве подсказал ему, что этот его набожный отец, неизбывное чувство благодарности к которому всегда казалось ему недостаточным, и эта благочестивая ангелоподобная мать, под чьим неусыпным надзором ему так посчастливилось пребывать, были в лучшем случае достойными жалости, извращёнными и живущими в страхе пустышками, и что он ненавидел их, боялся и презирал всем своим существом. К сожалению, на этом дело кончиться не могло. Батлер был от природы до того привязчив, что бессердечным людям ничего не стоило его обмануть. Ребёнком он искал любви дома – и в ответ его чувствами пользовалась мать, чтобы выпытывать его тайны, и бил отец, дрессировавший его в точности так, как если бы он был цирковым животным, с той разницей, что не учил ничему забавному. А ребёнок всё верил, что любит своих дорогих родителей, что у него счастливая нежная семья с незапятнанной репутацией и неоспоримым социальным престижем. Когда он понял, как его дурачили и как он дурачил себя сам, он ринулся в другую крайность с таким неистовством, что взял для себя за правило в искусстве жизни не принуждать себя любить то, что на самом деле тебе противно или неинтересно и считать такое принуждение глупейшей и злейшей ошибкой. Соответственно мы и находим Батлера «ненавидящим», из принципа, всё, что не соприродно ему и не даётся легко при самой первой пробе. Он «ненавидел» Платона, Еврипида, Данте, Рафаэля, Баха, Моцарта, Бетховена, Блейка, Россетти, Браунинга, Вагнера, Ибсена – собственно говоря, всех, кто не приходился ему по вкусу непосредственно и мгновенно, как ребёнку леденец. Исключением был Гендель, потому что он приучился любить музыку Генделя в дни своих детских иллюзий; но я подозреваю, что если бы он не слышал музыку Генделя до того, как принял для себя своё правило, он осудил бы его как показушного тамбурмажора и признал бы одним из Семи Надувал христианского мира.
Правда, это непрерывное осуждение великих мужей как самозванцев и мошенников высказывается с едким юмором, который выдаёт подсознательное ощущение глупости такого подхода и спасает Батлера от причисления его к вульгарным ничегонелюбцам; но всё равно это назойливые и даже зловещие выкрутасы, ибо ясно, что Батлер действительно не на шутку сужал свой горизонт и парализовал критические способности тем, что не давал себе труда ни задуматься, к чему, собственно, вели наши великие учители, ни постараться вникнуть в их своеобразную творческую манеру.
Вообще публичные манеры Батлера были ужасные. В частной жизни это был самый обходительный, самый чуткий, самый деликатный – пожалуй, даже слишком – человек. Но если ему не нравилось чьё-то открыто высказываемое мнение или труд или кому-то не нравился он; одним словом, если человек не вызывал у него абсолютного одобрения, он обходился с ним, как моральный урод, осмеивал его, оскорблял, не замечал при встрече. Иными словами, вёл себя точно так, как вёл бы себя его отец, если бы имел его мужество, остроумие и донельзя плохие манеры. В войне группировок, никогда не прекращающейся в Лондоне, он подвергал издёвкам сподвижников Дарвина и не только негодовал на поверхностный снобизм, из-за которого они недооценивали самого Батлера и из-за которого Дарвин считал ниже своего достоинства прояснить мелкое недоразумение, приведшее Батлера к вполне естественному обвинению Дарвина в нечестной игре, но и отплачивал им той же монетой. Ибо наравне с кликой Дарвина неизбежно существовала и клика Батлера. Жало Батлера было до того острым, что он, можно сказать, один был кликой сам по себе, постольку поскольку вел себя в духе клики; но с такими сторонниками, как мисс Сэвэдж, Фестинг Джонс, Гогин, Поли, не говоря уже об Эмери Уолкере, Сидни Кокереле и растущем круге батлеристов, к которому принадлежал и я, он отнюдь не был один contra mundum[291]291
Против всего мира (лат.).
[Закрыть]. Поскольку лучшие умы были всегда с Батлером, Дарвина, простодушного натуралиста, не осознававшего пропасть морального ужаса, которая разделяла его узкую тему, естественный отбор, и батлерову всеобъемлющую философскую концепцию эволюции, можно простить за его неумную оценку Батлера как «человека хитрого и неразборчивого в средствах» <…> Но в том же самом духе, однако без должного оправдания, клика Батлера принизила бедного Гранта Алиена, который был – сама отзывчивость, само великодушие, – и, кстати, признавал Батлера человеком гениальным, «с печатью гения на лбу». Батлер с безотчетным, но колоссальным высокомерием просто-напросто обругал его за наглость, заявляя, что такой вещи, как гений, не существует, и понося Алиена за то, что тот не был готов объявить: Батлер прав по части эволюции, а Дарвин – просто изворотливый лжеучёный.
И всё же, когда сказано всё, что может быть сказано против Батлера, факт остаётся фактом: когда он бывал значителен, он был так мощно значителен, и когда он бывал остроумен, он был так глубоко и осмысленно остроумен, что мы вынуждены проявлять неограниченное снисхождение к его слабостям и принимать их как черты привлекательные. Его чрезмерная и обидчивая застенчивость; его ребяческая вера в то, что всё случающееся с ним, даже самое обычное и тривиальное, достаточно интересно даже не просто в качестве документа-подлинника, но и что это стоит продавать как беллетристику; его сельско-пасторская убеждённость, что иностранцы с их причудливыми языками и рабочий люд с его неблагородными диалектами – это забавные существа, чьи словечки можно цитировать, как словечки умненьких детей; то, как он опекал и баловал своих любимцев, а противников срезал и изничтожал – всего этого, вкупе с его вздорной и извращённой самоограниченностью и нудным учительством, хватило бы, чтобы осудить пятьдесят обычных человек; но всё это столь полно искупается принадлежностью к Батлеру – собственно, в этом весь Батлер и есть, – что его биографу и в голову не приходит что-то скрывать, оправдывать или извинять.
В других отношениях Батлер жил не по своим заповедям. Б стране Erewhon он был бы отдан под суд за серьёзный проступок – легковерие – и сурово наказан. Казус Поли вывел бы его за черту сочувствия. А Поли за столь удачное одурачивание Батлера был бы посвящён в рыцари. Хорошо, конечно, называть снисходительность Батлера к Поли деликатностью, но в отношении кого угодно другого мы назвали бы её нравственной трусостью. Не уверен, не было ли это чем-то похуже. Порождённое приходским домом вожделение к покровительству и облагодетельствованию было у Батлера в крови; он и понятия не имел, как деморализовывал других, когда ему удавалось взять их на содержание. Если бы Поли, позорно прикарманивавший его пенсию <…> под предлогом своей бедности, тогда как на самом деле зарабатывал 900 фунтов как адвокат, <…> а Батлер был на грани банкротства, – если бы Поли открыто признал и продемонстрировал свою независимость, я твёрдо убеждён, что Батлер тут же с ним бы и поругался. А так, когда смерть выявила обман, единственное, о чём Батлер жалел, так это о том, что Поли нет в живых, чтобы его можно было простить. Тут Батлер был весь в отца. Не зря в «Путём всея плоти» заставил он своего Эрнеста, прототипом которого был сам, отдать детей на попечение барочника, объяснив это тем, что если бы он растил их сам, неумолимая наследственность заставила бы его обходиться с ними так же плохо, как его отец обходился с ним.
Если прямо и твердо не сказать этого о Батлере, его пример развратит мир. От идиотической его недооценки и пренебрежения мы уже переходим, несмотря на его собственные предостережения, к его обожествлению как человека, который не может поступать дурно <…>.
Очень жаль, между прочим, что Батлер не осуществил своего намерения разобраться с вопросом о браке, как он разобрался с эволюцией. Повторение им старой и не самой удачной поговорки, что дешевле покупать молоко, чем держать корову, <…> вполне в духе Батлера, ибо это очевидный пережиток того поверхностного гедонизма, который, как представлялось викторианцам середины века, логически следует из сделанного ими открытия, что Книга Бытия не есть научное описание происхождения видов, а данные евангелистами описания Воскресения не сходятся с точностью полицейских протоколов. <…> Вместо того, чтобы заключить, что всё это не составляет подлинной сути веры, что для этой подлинной сути абсолютно неважно, верят ли они или не верят тому или иному преданию или притче, оказавшимся с нею связанными, они упорствовали в том, что это важно, да так грандиозно важно, что они не могли отбросить самую топорную, не имеющую ни к чему никакого отношения историю о чуде, не обрушив с грохотом всего этического здания религии.
Альтернативой веры в неумные высказывания о Боге казался им безоглядный материалистический гедонистский атеизм. А ведь ещё сто лет назад Руссо сказал: «Отбросьте эти ваши чудеса, и весь мир падёт к ногам Христа». И вот извольте. Поскольку образование, которое получил Батлер, состояло в том, чтобы скрыть от него религиозные открытия Руссо, он вообразил, что утратил веру, тогда как утратил лишь суеверие, и что, отбросив чудеса, он отбросил Христа, Бога, Церковь и всяческие обязательства преследовать что бы то ни было, кроме собственного удовольствия.
Его ум был слишком могуч, чтобы долго терпеть такого рода насилие; но ему не было бы нужды терпеть и секунды, если бы его университет рассматривал Вольтера и Руссо как классиков и провидцев, а не как «неверных». Ведь именно в Шрусберийской школе и в Кембридже каноника Батлера научили лгать сыну, будто его мать убил «Erewhon». То есть его школьное и университетское образование внедрило в него невежество более концентрированное и опасное, чем невежество неграмотного пахаря. Как глупо всё это выглядит сейчас, если не считать того, что сотни каноников батлеров по-прежнему развращают своих сыновей в приходских домах и, возможно, бьют их, когда поймают за чтением Батлера – Батлера! – который грудью стоял за самые основания веры, когда Дарвин «изгонял из вселенной разум»!
После 1877 года Батлер – более не великий моралист «Erewhon’a», не предтеча нынешней благословенной реакции в направлении креативистской эволюции, но г-н Сухарь, дилетант, который копается во всякой мелочовке, касающейся Табакетти и Гауденцио Ферраре, Шекспировых сонетов и женского авторства «Одиссеи». Для массы людей, самое спасение души которых зависело от того, можно или нельзя полагаться на «Erewhon» и «Life and Habit», не было ни малейшего дела до того, кто автор «Одиссеи» и было ли Шекспиру 17 или 70, когда он написал сонеты к мистеру W. H.
Тем временем, интеллектуальный и художественный мир, к которому взывал Батлер, начинал остро интересоваться двумя новыми гигантами – Рихардом Вагнером и Генриком Ибсеном, причём последний могуче продолжал борьбу молодого Батлера против идеалов Батлера старого. И что же смог сказать о них Батлер? «Ибсен, вполне вероятно, – рискну даже сказать, наверняка – чудесный человек, но та малость, которую я о нём знаю, вызывает во мне неприязнь и, что ещё хуже, скуку». Не только сказавши, но и написавши такое, мог ли Батлер делать вид, будто самое худшее, что мы могли бы узнать о его отце-канонике или о его деде, учителе и епископе, в смысле высокомерия, надменности, снобизма, помпезности, фарисейства, невежества наполовину подлинного, наполовину намеренного и злонамеренного, не воплотилось в квадрате и в кубе в их талантливом внуке и сыне? Или вот ещё: «Карлейл для меня слишком похож на Вагнера, о котором Россини сказал, что у того des beaux moments mais des mauvais quarts d’heure[292]292
Здесь: «среди общего мрака бывали моменты просветления» (искаж. фр.).
[Закрыть] – не уверен в своём французском». И что же, нам стоило прислушиваться к человеку, не имевшему ничего лучше сказать об авторе «Кольца» через двадцать лет после того, как эта музыкальная супер-эпопея была подарена миру? Не правда ли, мы вправе были ответить, что если уж Батлер был настолько грубый обыватель или настолько узколобый невежда, что не мог быть корректен к Вагнеру, то к Россини-то он мог прислушаться – к Россини, который с неожиданным и трогательным великодушием настойчиво опровергал приписываемые ему глупые анти-вагнеровские колкости и сказал самому Вагнеру – которого в тогдашней музыкальной Европе поливали грязью, как никого другого, а Россини считался величайшим, – что если бы серьёзная музыка была возможна в итальянских оперных театрах, он мог бы что-нибудь сделать, ибо «j’avais du talent»[293]293
У меня был некоторый талант (фр.).
[Закрыть]. Какой позорной выглядит Батлерова ухмылка рядом с такой возвышенной скромностью! Батлер, уж конечно, ничего этого не знал; а мог бы и узнать, и это заняло бы у него меньше времени, чем заучивание наизусть сонетов Шекспира.
Не надо других объяснений тому, почему у Батлера ничего не вышло с книгами по искусству и литературе и с путевыми заметками. Он сам всё объяснил, сказав, что неудача, как и успех, накапливается, и потому неизбежно, что чем дольше он живёт, тем меньше у него надежды на успех. Правда же в том, что он провёл первую половину жизни, говоря то важное, что у него было сказать, и вторую половину, балуясь живописью и музыкой и записывая прелести «недели в милой Люцерне» (как вполне могли бы выразиться осмеянные им сёстры), не поднявшись над посредственностью в живописи и рабским подражанием в музыке и не обретя знаний и чувства меры в критике. Как страшно узнать, что этот гений, получивший самое лучшее образование, какое только могли дать ему наши самые дорогостоящие и элитные заведения, имевший при этом сильное природное чутьё к музыке и литературе, с высокомерием низкого невежды отвернулся от Байройта, но каждое Рождество совершал благочестивое паломничество на Суррейскую пантомиму и писал своему другу-музыканту скрупулёзные отчёты об её грубой буффонаде!
В этот поздний период мы видим Батлера согбенным и озабоченным в пору бедности и избалованным в пору богатства, но постоянно беспокойным, потому что он знал – что-то не в порядке, но что, понять не мог, хотя его гений постоянно пробивается сквозь туман и озаряет его чудесные записные книжки с их чудаковато раздутыми тривиальностями, глубокими размышлениями, броскими остротами, смешными притчами и доморощенными шутками и розыгрышами во ублажение Гогина и Джонса или назло Батлерам.
Отчего же, встаёт вопрос, я, который сказал, и сказал справедливо, что Батлер был «в своём роде величайшим английским писателем второй половины XIX века», теперь нападаю на него мёртвого, столь безжалостно вскрывая его провалы? Я это делаю ровным счётом потому, что хочу продолжить его работу по разоблачению фальши и лжи нашего «среднего образования» и преступности обращения с детьми как с дикими зверями, которых надо укрощать и ломать, а не как с человеческими существами, которым надо давать развиваться. Батлер подверг своего отца осмеянию и бесславию и воскликнул: «Вот что ваша школа, ваш университет, ваша церковь с ним сделали». И мир ответил: «Ну да, всё правильно, но твой отец был дрянь и тряпка, не все образованные люди такие». Так вот, если мы, как стало, наконец, возможным благодаря этим безжалостно правдивым мемуарам, скажем: «Вот что ваша школа, и ваш университет, и ваш сельский приход сделали не с дрянью и тряпкой, а с гением, который всю жизнь яростно противостоял их влиянию», мы сможем сделать за Батлера следующий шаг, и его дух закричит: «Отлично! Давайте, не жалейте меня, сыпьте соль на раны! Бог в помощь!».
Ибо обманываться нам нельзя. Англией по-прежнему управляют из Лангарского приходского дома, из Шрусберийской школы, из Кембриджа с их приложениями в лице биржи и адвокатских контор; и даже если бы человеческая продукция этих заведений состояла сплошь из гениев, они всё равно в итоге посадили бы на мель любую современную цивилизованную страну, выстраивая и поддерживая себя в соответствии с их собственными понятиями, ценой нищеты и рабства четырёх пятых её населения. Если мы не вспашем и не засыплем солью моральный фундамент этих мест, мы пропали. Вот мораль жизни Батлера.








