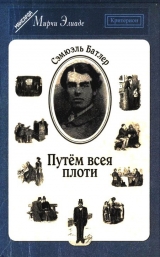
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
Глава LI
Эрнеста назначили в приход одного из центральных районов Лондона. Он почти ничего о городе не знал, но его инстинктивно туда тянуло. На второй день после рукоположения он приступил к своим обязанностям, испытывая при этом примерно те же ощущения, что и его отец, втиснутый в одну карету с Кристиной в день своей свадьбы. Не прошло и трёх дней, а он уже осознавал, что свет четырёх счастливых кембриджских лет погас – и ужаснулся непоправимости сделанного шага, сделанного, как он теперь понимал, слишком поспешно.
Последовавшие за этим выходки, летописать которые велит мне мой долг, я, собрав всю свою доброжелательность, могу как-то оправдать тем, что потрясение от перемен, вызванных внезапным взрывом религиозности, рукоположением и расставанием с Кембриджем, было слишком сильно для моего героя и на время вывело его из равновесия, пока ещё мало поддерживаемого опытом и, как естественное следствие, хрупкого.
В каждом из нас есть известное количество шлаков, которые надо переработать и выбросить, прежде чем мы начнём вырабатывать качественный продукт; можно даже сказать, что чем более долговечным хотим мы сделать этот окончательный продукт, тем неизбежнее нам проходить через такую пору – может быть, очень долгую, – когда всё кажется вполне безнадёжным. Все мы должны перебеситься – в том числе и духовно. Лично я если и склонен упрекать моего крестника, то отнюдь не в том, что у него было от чего перебеситься, а в том, что сидевшие в нём бесы были слишком уж ручные и неинтересные. Чувство юмора и склонность решать самому за себя – эти всходы, которые до совсем недавнего времени, а прошло всего несколько месяцев, – выглядели довольно многообещающе, теперь как будто побило запоздалыми морозами, тогда как старинная привычка принимать на веру любую чушь, какую бы ни подсказали ему облечённые авторитетом, вернулась с удвоенной силой. Наверное, этого и следовало бы ожидать от любого оказавшегося на месте Эрнеста, особенно если принять во внимание его прошлое, но это удивило и разочаровало некоторых из его кембриджских друзей, не столь горячих голов, как он, которые начинали было верить в его способности. Ему самому казалось, что религия несовместима с полумерами или с компромиссом. Сложилось так, что он принял сан; сейчас ему было жаль, что так сложилось, но ведь уже сложилось, он на это пошёл и должен идти до конца. Поэтому он решил узнать досконально, что от него ожидается, и действовать соответственно.
Настоятель у него был приверженец высокой церкви, умеренных и не слишком чётко сформулированных взглядов, человек пожилой, знававший на своём веку довольно викариев и давным-давно понявший, что отношения между викарием и настоятелем, точно как и отношения между начальником и подчинённым в любой другой сфере деятельности, – просто-напросто деловые отношения. Ныне у него служило два викария, из коих Эрнест был младший; старшего звали Прайер[198]198
Pryer, буквально, «выведывающий», «высматривающий».
[Закрыть], и когда сей джентльмен стал делать попытки сблизиться – как вскорости и случилось, – Эрнест из своего унылого одиночества с радостью на них отозвался.
Прайеру было лет двадцать восемь. Он окончил Итон[199]199
Старинная (1440 г.) и очень престижная частная школа в Англии.
[Закрыть] и Оксфорд. Был он высокого роста и считался красивым; я видел его всего раз, и то минут пять, и счёл мерзким типом – как по манерам, так и по виду. Может быть, это потому, что он меня поддел. Мне надо было закончить какую-то фразу, и я, за неимением лучшего, процитировал Шекспира, сказав, что одна естественная черта роднит весь мир[200]200
«Троил и Крессида».
[Закрыть].
– А, – отозвался Прайер наглым, покоробившим меня тоном, – но одна неестественная черта роднит весь мир ещё сильнее, – и смерил меня взглядом, в котором сквозило, что он считает меня старым занудой и ему глубоко плевать, шокирован я или нет. После такого вполне естественно, что нравиться мне он не мог.
Однако я опередил события; на самом деле, я познакомился с его коллегой-викарием только спустя три или четыре месяца после переезда Эрнеста в Лондон; теперь же мне надо заняться тем, какое влияние оказал Прайер на моего крестника, а не на меня. Кроме того, что он считался красивым, он безукоризненно одевался и вообще был из такого разряда, что Эрнест непременно должен был его бояться, но и попасть под его обаяние. Стиль его одежды был стиль очень высокой церкви, а его знакомства – исключительно из круга в высшей степени высокой церкви, однако в присутствии настоятеля он держал свои взгляды при себе, и у старого джентльмена, хотя он и косился на кое-кого из друзей Прайера, не было повода для недовольства достаточно явного, чтобы с ним порвать. Кроме того, проповеди Прайера пользовались популярностью, и вообще, говоря в целом, не лишено вероятия, что викариев хуже, чем он, нашлось бы много, а лучше – много меньше. Придя впервые к Эрнесту, он начал с того, что окинул моего героя с головы до ног проникающим взором и, похоже, не остался недоволен – ибо пришло время отметить, что Кембридж, обходясь с Эрнестом лучше, чем он привык, благотворно повлиял на его внешность. Можно даже сказать, что Прайер одобрил его настолько, что стал вести себя с ним прилично, а всякий, так поступавший, немедленно завоёвывал сердце Эрнеста. Очень скоро он выяснил, что партии высокой церкви, и даже самому Риму есть что сказать в свою защиту такого, о чём Эрнест и не помышлял. Это было первое отклонение в полёте бекаса.
Прайер представил его кое-кому из своих друзей. Это всё были молодые клирики, принадлежавшие к высочайшему ярусу высокой церкви, но Эрнеста удивило, насколько они, находясь среди своих, напоминали обычных людей. Это было для него настоящим потрясением; другим, ещё более сильным, оказалось то, что, как выяснилось, мысли, против которых он воевал, считая смертельными для своей души, и от которых, как ему казалось, он должен был избавиться раз навсегда при рукоположении, по-прежнему одолевали его; и также он ясно видел, что молодые джентльмены, составлявшие круг Прайера, находятся в таком же нелёгком положении, как и он сам.
Печально, очень печально. Единственным выходом, который видел Эрнест, было немедленно жениться. Но ведь он не знал никого, на ком бы хотел жениться. Собственно, он не знал ни одной женщины, женитьбе на которой он не предпочёл бы смерть. Это было одной из задач Теобальда с Кристиной – держать его подальше от женщин, и они настолько в том преуспели, что женщины сделались для него таинственными, непостижимыми объектами в пространстве, которых, если невозможно избежать, надо терпеть, но никак не искать и не поощрять. Что же до мужчин, которые любят женщину, или хотя бы просто хорошо к ней относятся, то Эрнест допускал, что так бывает, но считал огромное большинство заявлявших об этом вслух лгунами. И вот теперь стало ясно, что он слишком долго надеялся на чудо, и что ему ничего не остаётся, как подойти к первой встречной, которая согласится его выслушать, и предложить ей безотлагательно выйти за него замуж.
Он заговорил об этом с Прайером и очень удивился, узнав, что сей джентльмен при всём своём повышенном интересе к тем из своей паствы, кто молод и хорош собою, твёрдо стоит на стороне целибата священников, и точно так же все прочие благопристойные молодые клирики, с которыми познакомил его Прайер.
Глава LII
– Видите ли, Понтифик, дорогуша, – сказал ему Прайер во время моциона в Кенсингтонском саду спустя несколько недель после знакомства, – видите ли, Понтифик, дорогуша, ругаться с Римом – это, конечно, самое милое дело, но ведь Рим низвёл врачевание человеческой души на уровень некой науки, тогда как у нашей родной церкви, хоть она и гораздо более чиста во многих отношениях, нет сколько-нибудь выстроенной системы ни патологии, ни её диагностики – я, конечно, имею в виду духовную патологию и духовную диагностику. Наша церковь не прописывает лекарств на основе сколько-нибудь устоявшейся системы, хуже того, когда её врачи в меру своих способностей находят болезнь и указывают лекарство, у неё нет дисциплинарных средств, которые обеспечивали бы фактическое применение указанного лечения. Если наши пациенты предпочитают манкировать нашими указаниями, принудить их мы не можем. На самом деле, это, может быть, и хорошо, если учесть все обстоятельства, ибо по сравнению с римским священством мы в духовном отношении просто коновалы, да даже и надеяться не можем на значительный прогресс в борьбе с окружающим нас грехом, нищетой и страданием, если в каких-то аспектах не вернёмся к практике наших праотцев и большей части христианского мира.
И в каких же аспектах, осведомился Эрнест, предлагает его друг вернуться к практике праотцев?
– Ну, ну, дружище, нельзя же быть таким невеждой. Вопрос стоит ребром: либо священник – это воистину духовный наставник, способный рассказать людям о жизни такое, чего им самим не прознать, либо он совершенное ничто – у него просто нет raison d’être. Если священник не является таким же целителем и наставником для души человека, каким врач является для его тела, что он тогда такое? Многовековая история показала – и вы, конечно, должны знать это не хуже меня, – что как невозможно человеку исцелять тело своих пациентов, не пройдя соответствующей подготовки в лечебнице под руководством умелых учителей, точно так же и душу нельзя излечить от её скрытых недугов без помощи людей, искушённых в душеведении, – то бишь священников. О чём говорит добрая половина наших служебников и богослужебных правил, если не об этом? Как, во имя мирового разума, можем мы в точности определить природу духовного расстройства, пока не наберёмся опыта лечения подобных случаев? Как обрести опыт без специальной подготовки? Мы теперь же должны начать экспериментировать сами, не дожидаясь помощи, которую мог бы предоставить нам обобщённый опыт наших предшественников, – просто в силу того, что их опыт никто никогда не обобщал и не координировал. А потому каждому из нас придётся поначалу сгубить множество душ, которые можно было бы спасти, зная несколько самых базовых принципов.
На Эрнеста это произвело огромное впечатление.
– Что же до людей, занимающихся самолечением, – продолжал Прайер, – то они не более в состоянии исцелить собственную душу, чем исцелить собственное тело или вести собственные судебные дела. В двух последних случаях все достаточно ясно осознают, как нелепо самим пытаться делать то, что должно делать профессионалам, и прибегать к их помощи считают чем-то само собой разумеющимся; но ведь душа – вещь замысловатая и сложная для лечения, и в то же время для человека гораздо важнее правильно обходиться с нею, чем с телом или деньгами. Как относиться к практике церкви, которая потворствует тому, что люди полагаются на совет непрофессионалов в делах, от которых зависит их благополучие в вечности, тогда как им не придет в голову подвергать опасности свои мирские дела таким нездоровым поведением?
Эрнест не усмотрел тут ни одного слабого места. Эти идеи смутно витали и в его мозгу, но ему никогда не приходилось их ухватить и расставить по местам. А уловить ложные аналогии и неуместность метафор ему недостало сообразительности; по сути дела, он был просто младенцем в руках своего коллеги-викария.
– И к чему же, – продолжал Прайер, – всё это нас ведёт? Во-первых, к необходимости исповеди, и протестовать против этого столь же нелепо, как и против анатомирования при обучении студентов-медиков. Да, конечно, этим молодым людям приходится видеть и делать много такого, о чём нам с вами и думать не хочется, но если они к этому не готовы, им лучше избрать другую профессию; они даже могут заразиться трупным ядом и умереть, но они вынуждены идти на такой риск. Так и мы, если мы стремимся стать священниками на деле, а не только по названию, мы должны познать самые мельчайшие и самые отвратительные детали греха, чтобы уметь распознавать его на самых разных стадиях. Кому-то из нас придётся в таких экспедициях даже погибнуть. Но с этим ничего не поделаешь; в любой науке есть свои мученики и жертвы, и никто из них не заслужит большей благодарности от человечества, чем те, кто падёт на ниве духовной патологии.
Эрнесту становилось всё занятнее, но, по кротости души, он ничего не сказал.
– Я не желаю такого мученичества для себя, – продолжал Прайер, – наоборот, я изо всех сил постараюсь его избежать, но если Богу будет угодно, чтобы я погиб при исследовании того, что считаю самым рациональным для Его прославления, – тогда, говорю я, не моя воля, а Твоя, о Господи, да будет[201]201
Лк 22:42.
[Закрыть].
Это было уже слишком, даже и для Эрнеста.
– Мне рассказывали об одной ирландке, – сказал он улыбаясь, – которая говорила, что она – мученица пьянства[202]202
Англичане (и не только они) считают пьянство национальной чертой ирландцев.
[Закрыть].
– Так и есть, – возразил Прайер с теплотой в голосе – и начал разглагольствовать о том, что эта добрая женщина была экспериментатором, чей эксперимент, пусть и имеющий катастрофические последствия для неё самой, полон назидания для других. Так что она действительно мученица или свидетельница о страшных последствиях невоздержанности во спасение тех, кто, если бы не её мученичество, втянулся бы в пьянство. Она была человеком несбыточной мечты, и её провал при взятии определенного рубежа послужил доказательством, что рубеж неприступен, и что надо оставить всякую попытку его взять. Это было для человечества почти так же колоссально, как если бы рубеж был взят. Кроме того, – добавил он несколько поспешно, – границы добродетели и порока страшно размыты. Половина пороков, которые мир громче всего осуждает, имеют в себе семена добра, и лучше с умеренностью им предаваться, чем избегать совершенно.
Эрнест робко попросил привести пример.
– Нет-нет, – отвечал Прайер, – я не буду приводить примеров, а приведу формулу, которая охватывает все примеры. Она в том, что не может быть полностью порочным образ поведения, который не оказался истреблён в среде самых видных, самых энергичных, самых развитых народов, несмотря на многовековые попытки его искоренить. Если порок, несмотря на все усилия такого рода, сохраняет свои позиции в среде высших рас, то он наверняка основан на некой непреложной истине или на неком факте человеческой природы и должен обладать каким-нибудь компенсирующим достоинством, игнорировать которое мы просто не можем себе позволить.
– Но, – неуверенно заметил Эрнест, – не значит ли это отбросить всякие различия между праведностью и неправедностью и оставить людей безо всякого нравственного руководства?
– Не о людях речь, – последовал ответ, – это наша забота быть для них наставниками, ибо сами они были, есть и всегда будут неспособны направлять себя самостоятельно. Мы должны говорить им, что им должно делать, а при идеальном состоянии дел мы должны иметь возможность заставлять их это делать – надо думать, такое идеальное положение наступит тогда, когда мы будем лучше подготовлены профессионально, и ничто так не продвинет нас по этому пути, как отличное знание нами духовной патологии. Для этого необходимы три вещи: во-первых, абсолютная свобода эксперимента для нас, духовенства; во-вторых, абсолютное знание того, что думают и делают миряне, и какие мысли и действия приводят к каким духовным кондициям; и, в-третьих, сплочённость наших рядов. Если мы хотим чего-то добиться, мы должны быть тесно сплочённым организмом, при этом резко отделённым от мирянства. И мы должны быть свободны от уз, которые налагают жена и дети. Не могу выразить того ужаса, который охватывает меня, когда я вижу, как английские священники живут в гласном браке – по-другому это не назовёшь. Это прискорбно. Священник должен быть абсолютно бесполым, если не на практике, то уж точно в теории, причём теория эта должна быть общепризнанной настолько, чтобы никто не смел её оспаривать.
– Но разве, – сказал Эрнест, – Библия не сказала уже людям, как им надлежит и как не надлежит поступать, а наше дело разве не в том, чтобы настаивать на том, что содержится в Библии, а всё остальное оставить в покое?
– Если начинаешь с Библии, – было ему ответом, – то ты уже на три четверти пути к неверию, и не успеешь оглянуться, как пройдёшь и оставшуюся часть. Библия не вовсе бесполезна для нас, духовенства, но для мирян она – камень преткновения, который необходимо убрать с их дороги решительно и как можно скорее. Я, разумеется, говорю это в предположении, что они её читают, а они, к счастью, делают это редко. Если люди читают Библию так, как её читает средний английский прихожанин, то это достаточно безвредно; но если они станут читать её сколько-нибудь внимательно – а им только дай! – это их погубит.
– В каком же смысле? – спросил Эрнест, всё более и более изумляясь, но и чувствуя всё более и более, что находится в руках человека весьма твёрдых убеждений.
– Ваш вопрос показывает, что вы не читали Библию. Бумага не знает более ненадёжной книги. Послушайтесь моего совета и не читайте её, пока не станете на несколько лет постарше, когда это будет более безопасно.
– Но вы, конечно, верите Библии, когда она говорит вам о том, скажем, что Христос принял смерть и воскрес из мёртвых? В это вы, конечно же, верите? – сказал Эрнест, вполне готовый услышать, что Прайер ничему подобному не верит.
– Не верю, а знаю.
– Но откуда, если свидетельство Библии вас не удовлетворяет?
– Из свидетельства живого голоса церкви, о котором я знаю, что он непогрешим и исходит от Самого Христа.
Глава LIII
Вышеизложенный разговор, как и другие ему подобные, произвел на моего героя глубокое впечатление. Случись ему назавтра прогуляться с мистером Хоком и послушать, что тот имеет сказать с других позиций, в него это попало бы с такой же силой, и он был бы точно так же готов отбросить всё сказанное Прайером, как сейчас был готов отказаться от всего, что когда-либо слышал от кого бы то ни было, кроме Прайера. Но мистера Хока под рукой не оказалось, и победил Прайер.
Умы-эмбрионы, как и тела-эмбрионы, проходят через ряд замысловатых метаморфоз, прежде чем принять окончательный вид. Не стоит удивляться, что тот, кто в конце станет католиком, может пройти через несколько стадий – сначала методист, потом либерал, и так далее; это ничем не более необычно, чем то, что человек сначала представляет собой просто клетку, а потом – беспозвоночное животное. Впрочем, нельзя ожидать от Эрнеста, чтобы он это знал; эмбрионы ведь не знают. Эмбрионы на каждой стадии своего развития полагают, что именно сейчас дошли до наиболее подходящей для себя кондиции. Это, говорят они, уж точно должна быть финальная стадия, поскольку её конец стал бы таким страшным потрясением, какого не переживёт ничто сущее. Всякое изменение есть потрясение; всякое потрясение – смерть pro tanto[203]203
Как следствие (лат.).
[Закрыть]. То, что мы называем смертью, на самом деле всего лишь потрясение сильное настолько, чтобы уничтожить нашу способность видеть прошлое и настоящее в их сходстве. Смерть – это когда нас заставляют видеть между нашим настоящим и нашим прошлым больше различий, чем схожих черт, так что мы уже не можем назвать настоящее в прямом смысле продолжением прошлого, и нам менее хлопотно думать, что настоящее – это то, что мы изволим называть новым.
Но оставим это. Очевидно, духовная патология (должен признаться, что сам не знаю, что такое «духовная патология»; впрочем, Эрнест с Прайером, несомненно, знали) была в большом спросе. Эрнесту казалось, что он открыл эту идею сам и был знаком с ней всю свою жизнь, что он, собственно говоря, ничего другого и не знал никогда. Своим друзьям по колледжу он писал длинные письма, подробно излагая свои взгляды, как если бы был одним из отцов Апостольского века. Ветхозаветные авторы выводили его из терпения. «Сделайте одолжение, – нахожу я в одном из писем, – прочтите пророка Захарию и скажите честно, что вы о нём думаете. Это такая плесень, сплошные ужимки; тошно жить во времена, когда такую белиберду всерьёз любят – хоть как поэзию, хоть как пророчество». И всё это потому, что Прайер настроил его против Захарии. Чем провинился Захария, мне неведомо; лично я счёл бы Захарию очень хорошим пророком; может быть, дело в том, что он был библейский автор, причём не из самых знаменитых, и именно поэтому Прайер и выбрал его, чтобы на его примере умалить Библию по сравнению с церковью.
А вот что он пишет несколько позже своему приятелю Доусону:
«Мы с Прайером всё так же гуляем и оттачиваем мысли друг друга. Поначалу мыслил он один, но теперь я, полагаю, сравнялся с ним и подхихикиваю, замечая, что он уже начинает менять кое-какие из своих взглядов, которых, когда мы познакомились, держался твёрдо.
Тогда он, кажется, на всех парах мчался к Риму; но теперь, похоже, его сильно заинтересовало одно моё предложение, которое может быть интересно и вам. Понимаете, мы должны как-то вдохнуть в церковь новую жизнь; мы не удерживаем своих позиций ни против Рима, ни против безверья
(замечу мимоходом, что Эрнест, я думаю, не то что никогда не говорил с неверующим, но вряд ли и встречал такового).И вот я несколько дней назад предложил Прайеру идею – и он очень живо ею увлёкся, как только понял, что у меня есть средства провести её в жизнь, – что нам надо основать духовное движение наподобие „Молодой Англии“, как лет двадцать назад, целью которого будет одним махом превзойти во мнении людей, с одной стороны, Рим, и с другой – скептицизм. Для этой цели я не вижу лучшего средства, чем учредить организацию, скажем, колледж, чтобы поставить изучение природы греха и способов обхождения с ним на более прочную, чем нынешняя, научную основу. Нам нужен, заимствуя полезное выражение Прайера, Колледж духовной патологии, где молодые люди(надо полагать, Эрнест себя к разряду молодых людей уже не относил)могли бы изучать природу грехов души и их излечение, как студенты-медики изучают строение организма своих пациентов и способы ухода за ним. Такого рода колледж, согласитесь, позволит нам приблизиться как к Риму, с одной стороны, так и к науке, с другой: к Риму, потому что позволит повысить квалификацию священства, проторяя тем самым путь к его большей действенности; к науке, потому что заставит признать, что даже либеральная мысль имеет свою ценность для духовных изысканий. Этой цели мы с Прайером решили посвятить себя отныне всей душой без остатка.Конечно, мои идеи пока ещё не оформились, и всё будет зависеть от тех, кто начнёт закладывать практические основы колледжа. Я пока ещё не священник, а Прайер священник, и если колледж открывать мне, то Прайер может его на время возглавить, а я бы поработал номинально как его подчинённый. Это предложил сам Прайер. Это ли не великодушие с его стороны?
Плохо то, что у нас мало денег; правда, у меня есть пять тысяч фунтов, но Прайер говорит, что надо минимум десять. Когда мы более или менее станем на ноги, я смогу жить при колледже и получать жалование от фонда, так что получится то же самое, или почти то же самое, как если бы я вложил деньги в приобретение бенефиция; к тому же мне очень немного надо; я никогда не женюсь, это точно; священнику и думать об этом не следует; а человек неженатый может прожить почти что на гроши. Всё так, но я по-прежнему не вижу способов достать столько денег, сколько нам нужно; Прайер считает, что коли мы вряд ли сумеем заработать больше, чем зарабатываем сейчас, то надо добывать деньги расчётливым вложением капитала. Прайер знает людей, которые получают приличный доход из очень малого, я бы даже сказал, из ничего, покупая какие-то штуки на, как они это называют? – на бирже ценных бумаг; я об этом пока мало что знаю, но Прайер говорит, что быстро научусь; он даже считает, что у меня к этому особый талант, и что при должном руководстве из меня получится хороший бизнесмен. Ну, об этом судить не мне; но вообще человек может добиться всего, если только постарается всей душой, и хотя деньги для самого себя заботить не должны, они меня очень заботят, как подумаю о том, сколько добра я мог бы сделать с их помощью, спасая души от ужасных мучений на том свете. Да что говорить, если дело пойдёт, а я не вижу, что могло бы этому помешать, то невозможно переоценить его важность и размеры, которые оно может впоследствии…»
– и прочая, и прочая.
Я снова спросил Эрнеста, не возражает ли он, чтобы я это печатал. Он поморщился, но сказал:
– Не возражаю, если это поможет вашему рассказу; но не слишком ли это длинно?
Я отвечал, что это позволит читателю самому увидеть, как всё происходило, вдвое скорее, чем я стал бы ему это объяснять.
– Что ж, тогда, конечно, печатайте.
Я продолжаю ворошить эрнестовы письма и натыкаюсь на такое:
«Спасибо за ваше недавнее; в ответ посылаю черновик письма, которое я послал в „Таймс“ пару дней тому назад. Они его не напечатали, но в нём довольно полно воплощены мои идеи по вопросу о приходской дисциплине, причём Прайер письмо полностью одобряет. Поразмыслите о нём хорошенько и потом верните мне, потому что оно с такой точностью представляет моё кредо, что я не могу себе позволить его потерять.
Очень бы хотелось обсудить эти вопросы в живом общении; в одном я убеждён совершенно точно: невозможность отлучать от церкви стала для нас страшной помехой. Нам следовало бы отлучать и богатых, и бедных без различия и безо всякого стеснения. Если бы нам вернули это право, мы, думаю, сумели бы очень скоро положить конец огромной доле греха, нищеты и страданий, которые окружают нас сегодня».
Эти письма были написаны спустя всего несколько недель после рукоположения Эрнеста; но это ещё пустяки по сравнению с тем, что он писал немного позже.
В порыве рвения в корне преобразовать англиканскую церковь (и через сие всю вселенную) средствами, подсказанными ему Прайером, он надумал поближе узнать обычаи и помыслы бедняков и для этого поселиться среди них. Эту идею он, полагаю, почерпнул из «(Элтона Локка» Кингсли[204]204
В этом романе Чарльза Кингсли (1819–1875) показано превращение радикала-чартиста в умеренного либерала-реформатора.
[Закрыть], романа, который он, при всей своей тогдашней приверженности к высокой церкви, проглотил, как проглотил и «Жизнь Арнольда» Стенли, и романы Диккенса, и всё то из литературного хлама эпохи, что с наибольшей вероятностью могло ему навредить; как бы то ни было, этот замысел он осуществил на практике – снял жильё на Эшпит-Плейс[205]205
Буквально: «зольная яма».
[Закрыть], небольшой улочке в районе театра Друри-Лейн[206]206
Построен в 1663 г., действует доныне.
[Закрыть], в доме, владелицей которого была вдова извозчика.
Сия леди занимала весь первый этаж. В передней кухне снимал угол лудильщик. Заднюю сдавали настройщику кузнечных мехов. На второй этаж въехал Эрнест; свои две комнаты он обставил весьма уютно – всё-таки надо знать меру даже и в аскетизме. Два верхних этажа были поделены на четыре квартиры. Там жил портной по имени Холт, вечно пьяный мужлан, по ночам избивавший свою жену так, что её вопли будили весь дом; над ним жил тоже портной, и тоже с женой, но без детей; эти были уэслианцы, заглядывавшие в рюмку, но не шумные. Две задние комнаты снимали две одинокие дамы, с хорошими, как заключил Эрнест, связями – ибо хорошо одетые, приличного вида молодые люди частенько поднимались и спускались по лестнице мимо его дверей, навещая по меньшей мере одну из них – мисс Сноу: Эрнест слышал, как хлопала за ними дверь в её комнату. Некоторые, как ему казалось, приходили к мисс Мейтленд. Миссис Джапп, хозяйка, сказала Эрнесту, что это всё братья и кузены мисс Сноу, сама же она подыскивает место гувернантки, а пока ангажирована в театре Друри-Лейн. Эрнест спросил, ищет ли работу также и мисс Мейтленд с верхнего этажа, и услышал в ответ, что да, ищет – место модистки. Он верил всему, что бы ни говорила ему миссис Джапп.








