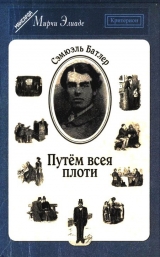
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
От переводчика
Сэмюэль Батлер закончил писать свой роман в 1883 году. Читателем, которого он, вероятнее всего, имел в виду, был английский джентльмен, то есть человек образованный. Образованность по тем временам означала, кроме многого другого, порядочное знание Библии и Шекспира. Я говорю всё это, исходя из того обстоятельства, что текст Батлера мало сказать изобилует – он нашпигован скрытыми (раскавыченными) и зачастую намеренно искажёнными цитатами из первой и из второго. Лёгкость, с какой обращается с ними автор, заставляет предполагать, что он ожидал похожей лёгкости и от читателя. Мне представляется маловероятным, чтобы российские читатели начала XXI века в большинстве своем так же легко распознавали эти цитаты. А тогда какая-то часть восприятия пропадёт, что особенно неправильно в отношении автора, которого (и даже о существовании которого) они (большинство читателей) узнают впервые, да ещё после ста лет его немалой популярности на родине и в других странах.
Поэтому я взял на себя труд (и риск обидеть подлинных эрудитов, которые, несомненно, окажутся в числе читателей, и у которых я прошу прощения за назойливость) эти цитаты распознавать и комментировать. То же относится и к именам, событиям и т. п., упоминаемым в тексте. Спешу добавить, что распознавать их удавалось, увы, совсем не с такой лёгкостью, какой ожидал автор, и, вполне возможно, удалось распознать не все.
Пользуюсь случаем поблагодарить Анастасию Старостину за ту роль, которую она сыграла в моей переводческой карьере вообще и в данной работе в частности.
Александр Дорман
ПУТЁМ ВСЕЯ ПЛОТИ
Глава I
Когда я был маленький – это было в начале века, – бродил, помню, по нашей деревне старик с палочкой, в бриджах и шерстяных чулках. Тогда, в 1807 году, ему должно было уже стукнуть восемьдесят, а раньше я, пожалуй, ничего и не припомню, ибо сам родился в 1802-м. На уши ему свисало несколько белых прядей, плечи его опали, колени подгибались, но был он ещё вполне бодр и пользовался большим уважением во всём нашем маленьком мирке – деревне Пэлем. Фамилия его была Понтифик.
Говаривали, что жена помыкала им как хотела; я слышал также, что за ней ему досталось в приданое сколько-то денег – вряд ли много. Жена была высокая, осанистая особа (помню, мой отец называл её «гром-бабой»), которая женила на себе мистера Понтифика, когда тот был ещё молод и слишком благодушен, чтобы отказать женщине, решившей его добиться. Супруги жили вполне счастливо, ибо мистер Понтифик обладал уживчивым характером и скоро научился стушёвываться при наиболее бурных проявлениях крутого нрава своей жены.
По профессии мистер Понтифик был плотник; одно время он, кроме того, вёл приходские книги; но на моей памяти он уже достаточно преуспел в жизни, чтобы больше не зарабатывать на жизнь своими руками. В юности он самостоятельно выучился рисовать. Я не утверждаю, что рисовал он хорошо, но и то, как он рисовал, было удивительно. Мой отец, который поселился в Пэлеме, в приходском доме, где-то около 1797 года, стал обладателем порядочной коллекции рисунков мистера Понтифика, выполненных на местные сюжеты с таким простодушным усердием, что они вполне могли бы сойти за работы кого-нибудь из добрых старых мастеров. Они висели, помнится, у отца в кабинете в рамках под стеклом, в котором отражалась зелень окаймлявшего окна плюща. Я размышляю порой, как это будет, когда они прейдут, как всё преходит, когда они уже будут не рисунками – а чем? В какие новые фазисы бытия перейдут они тогда?
Но художник – это ещё что; мистеру Понтифику непременно хотелось быть также и музыкантом. Собственными руками он смастерил орган для нашей церкви и другой, поменьше – этот он держал у себя дома. Играть он умел в той же мере, в какой умел рисовать – не весьма хорошо по стандартам профессионала, но гораздо лучше, чем можно было ожидать. Я и сам рано стал проявлять интерес к музыке, вследствие чего мистер Понтифик, узнавши об этом – а узнал он очень скоро, – тут же проникся ко мне симпатией.
Глядя на человека, который вот так раздувает угли сразу в нескольких утюгах, подумаешь, что он, скорее всего, небогат; предположение вполне естественное – но не в отношении мистера Понтифика. Его отец действительно работал подёнщиком, и сам он начал с нуля – его единственным капиталом были здравый смысл и крепкое телосложение; теперь же его двор изобиловал штабелями отменного леса, и всё его хозяйство являло вид добротного уюта. Ближе к концу восемнадцатого века, незадолго до появления в Пэлеме моего отца, мистер Понтифик приобрёл ферму акров на девяносто, чем значительно возвысился в жизни. В придачу к ферме шёл старомодный, но уютный дом с прелестным садом и с огородом. Теперь плотницкий бизнес сосредоточился в одной из надворных построек, когда-то бывших частью монастырских строений, остатки которых можно было видеть в закутке, раньше называвшемся «аббатским». Сам дом, весь обсыпанный жимолостью и обвитый ползучей розой, был украшением нашей деревни; да и его внутреннее убранство было образцом хозяйствования не менее, чем внешнее – образцом лепоты. Ходили слухи, что для своей парадной постели миссис Понтифик крахмалила простыни, и я легко могу в это поверить.
Ах, я помню эту её малую гостиную, наполовину занятую органом постройки мистера Понтифика, где пахло лежалыми грушами с pyrus japonica[4]4
Груша японская (лат.). Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть], которая росла рядом с домом; помню картину – портрет быка-рекордиста, висевшую над очагом и написанную собственноручно мистером Понтификом; рисунок не стекле с изображением человека, вышедшего в снежную ночь с фонарем, чтобы посветить экипажу, тоже работы мистера Понтифика; маленьких старичка и старушку, предсказывавших погоду; фарфорового пастушка с пастушкой; пёрышки цветущих трав в банке, вперемешку с оттеняющими их павлиньими перьями; фарфоровые чаши, наполненные засохшими лепестками роз… Всё это давно кануло в небытие, стало памятью, уже увядшей, но всё ещё благоуханной для меня.
Но – но эта кухня! и украдкой брошенные взгляды в объёмистый погреб! этот погреб, где носится бледное сияние от молочных бидонов – или это от рук и лица молочницы, снимающей сливки? Или ещё – эта кладовая, где среди прочих сокровищ миссис Понтифик хранила предмет особой гордости – свою знаменитую мазь для смягчения губ, образчик которой она ежегодно презентовала тем, кому изволила благоволить. Записанный на бумажке рецепт приготовления этого крема она подарила моей матери за год-два до смерти, но мы так никогда и не смогли приготовить его так, как готовила она. Когда мы были детьми, она время от времени передавала приветы моей матери и испрашивала для нас разрешение прийти к ней на чай. Ах, как она нас потчевала! Что же до её характера, мы в жизни не встречали столь приятной леди; с чем уж там приходилось смиряться мистеру Понтифику, не знаю, а нам жаловаться на неё резону не было. И потом мистер Понтифик играл нам на органе, а мы стояли вокруг него, разинув рты; он казался нам наиискуснейшим человеком на свете, кроме, разумеется, нашего собственного папы.
У миссис Понтифик не было чувства юмора, по крайней мере, я не припомню ни малейших его проявлений, а муж её знал толк в потехах, хотя угадать это по его виду мог далеко не всякий. Помню, отец раз послал меня к нему в мастерскую за клеем, и я застал как раз тот момент, когда старик Понтифик устраивал разнос своему помощнику. Он держал мальчишку – тупоголового малого – за ухо и говорил: «Ну, ты, недоумок! Что? Опять не на месте!? – Надо полагать, сам мальчишка был в данной случае заблудшей душой, и „не на месте“ находилось не что иное, как он сам. – Так вот, слушай, парень, – продолжал он, – некоторые мальчишки рождаются тупыми, и ты один из них; другие становятся тупыми – и это снова ты, Джим, – тебе тупость дана при рождении, и ты весьма преумножил своё достояние, – а некоторым (здесь наступила кульминация, на протяжении которой голова мальчишки, влекомая ухом, раскачивалась из стороны в сторону) тупость вбивают в голову, и с тобой, Бог даст, этого не случится, парень, потому что тупость из твоей головы я, наоборот, выбью, пусть мне и придётся для этого отбить тебе все печёнки». Но я ни разу не видел, чтобы старик действительно ударил Джима, он лишь хотел припугнуть его или даже притвориться, что пугает, не более того, ибо оба они прекрасно понимали друг друга. Ещё запомнилось мне, как он подзывал нашего деревенского крысолова словами: «Приближься, ты, три дня и три ночи!», – намекая, как я впоследствии узнал, на традиционные у крысоловов периоды запоя; но о подобных мелочах я больше ничего говорить не буду. Мой отец всегда светлел лицом, когда при нём упоминали имя старины Понтифика.
– Я тебе так скажу, Эдвард, – говаривал он, – старина Понтифик был не просто способный человек, он был талант, я других таких не знал.
Для меня, молодого человека, это было слишком.
– Батюшка мой дорогой, – отвечал я, – что он такого сделал? Ну, рисовал немного, но, даже расшибись он в лепёшку, разве выставили бы хоть одну его картинку в Королевской академии? Ну, построил он два органа, ну, мог сыграть менуэт из «Самсона» на одном и марш из «Сципиона»[5]5
«Самсон» и «Сципион», оратории Генделя.
[Закрыть] на другом; ну, был хорошим плотником и изрядным остряком; он был хорошим человеком, этого достаточно. Зачем приписывать человеку больше, чем у него есть на самом деле?
– Сынок, – отвечал на это отец, – не суди по делам, а по делам в их связи с обстоятельствами. Смог бы Джотто, полагаешь ты, или Филиппо Липпи[6]6
Джотто ди Бондоне (1266–1337), Фра Филиппо Липпи (1406–1469), итальянские живописцы.
[Закрыть] выставить свою картину на выставке? Был бы хоть у одной из тех фресок, что мы ходили смотреть в Падуе, даже отдалённый шанс попасть на выставку сейчас, в наше время? Да эти академики так взбесились бы, что даже не отписали бы бедняге Джотто, чтобы приехал забрать свою фреску. Да что там! – продолжал он, входя в раж. – Если бы старине Понтифику да везение Кромвеля[7]7
Оливер Кромвель (1599–1658), деятель английской революции XVII в.
[Закрыть], он бы сделал всё то, что сделал Кромвель, и сделал бы лучше; а если бы у него были такие возможности, как у Джотто, он бы сделал всё, что сделал Джотто, и сделал бы не хуже; а так он был деревенский плотник, и я берусь утверждать, что он ни разу на протяжении всей своей жизни не сделал ни одной работы спустя рукава.
– Положим, – не соглашался я, – но мы не можем судить о людях с таким количеством всяких «если». Если бы старина Понтифик жил во времена Джотто, он мог бы быть вторым Джотто, но он не жил во времена Джотто.
– Я тебе так скажу, Эдвард, – возражал отец посуровев, – мы должны судить о людях не столько по тому, что они совершают, сколько по тому, что в них есть для того, чтобы совершать, и как они дают нам это почувствовать. Если человек сделал достаточно – в живописи ли, в музыке или в житейских делах, – достаточно, говорю я, чтобы я почувствовал, что могу ему доверять в минуту опасности, – всё, он сделал достаточно. Не по тому буду я судить о человеке, что он в действительности нанёс на холст, и не по поступкам даже, которые он запечатлел, так сказать, на холсте своей жизни, но по тому, какие я вижу в нем чувства и устремления… Если я вижу, что он воспринимает как достойные любви вещи, которые и я воспринимаю как достойные любви, я большего не прошу; и может быть, он говорил не слишком грамотно, а всё же я его понимал; мы с ним en rapport[8]8
В сродстве (фр.).
[Закрыть]; и я повторяю, Эдвард, старина Понтифик был не просто способный человек, но и самый талантливый из всех, кого я знал.
Против этого возражать уже не приходилось, и сёстры взглядами заставляли меня умолкнуть. Как-то так случалось, что сёстры всегда своими взглядами заставляли меня умолкнуть, когда я не соглашался с отцом.
– А его преуспевающий сынок, – фыркал отец, порядком взбудораженный. – Он не достоин ваксить своему отцу сапоги! Гребёт тысячи фунтов в год, тогда как его отец имел к концу жизни, может быть, три тысячи шиллингов. Да, он преуспевающий человек, но его отец, который ковылял по улицам Пэлема в своих серых шерстяных чулках, широкополой шляпе и коричневом сюртуке, стоит сотни таких джорджей понтификов со всеми их экипажами, лошадьми и напускными манерами. – Впрочем, – добавлял он, – Джордж Понтифик вовсе не дурак.
Что подводит нас ко второму поколению семейства Понтификов, которым нам пришла теперь пора заняться.
Глава II
Старый мистер Понтифик женился в 1750 году, но ещё целых пятнадцать лет у них с женой не было детей. К концу этого срока миссис Понтифик произвела фурор во всей деревне, явив безошибочные признаки готовности наградить мистера Понтифика наследником или наследницей. Все уже давным-давно уже считали её случай безнадёжным, и когда врач, которого она посетила по поводу известных симптомов, объяснил ей их значение, она очень рассердилась и прямо в глаза заявила доктору, что он городит чушь. В ожидании родов она палец о палец не ударила, и была бы совершенно к ним не готова, если бы соседки не смыслили в этих делах гораздо лучше её и не подготовили бы исподволь всё необходимое. Может быть, она боялась гнева Немезиды, хотя, уверяю вас, и понятия не имела, кто такая (или что такое) эта Немезида; может быть, она боялась, что доктор ошибся и над ней станут насмехаться; но, как бы то ни было, она никак не желала признать очевидное, да так и не признавала до самого конца, когда в одну снежную январскую ночь не пришлось спешно – настолько спешно, насколько допускают ухабистые деревенские дороги, – посылать за доктором. Когда тот прибыл, то застал на месте не одного нуждающегося в его помощи пациента, а двух, ибо уже родился мальчик, которого в надлежащее время окрестили Джорджем в честь Его – царствовавшего тогда – Величества.
Насколько я могу судить, Джордж Понтифик унаследовал большую часть своей натуры от этой упрямой старушенции, своей матери – матери, которая, хотя и любила во всём свете одного только своего мужа (да и того лишь в известном смысле), была нежнейшим образом привязана к нежданному дитяти своих преклонных лет, впрочем, не слишком это выказывая.
Мальчик вырос в коренастого, светлоглазого парня с недюжинным умом и чуть-чуть, пожалуй, чрезмерной охотой к учебе. Окружённый у себя дома заботой, он любил отца и мать – в той мере, в какой его природа позволяла ему вообще кого-нибудь любить, – но больше никого. Здоровое чувство meum было у него развито сильно, а чувство tuum[9]9
«Моё» и «твоё» (лат.).
[Закрыть] слабо – он старался никак ему не потворствовать.
Мальчик рос на чистом воздухе в одной из лучших – в смысле географического расположения и здорового климата – деревень Англии и, резвясь вволю, хорошо развивался телесно; детские же мозги в те дни так не перегружали, как теперь; может быть, именно поэтому он проявлял такую жажду знаний. Семи или восьми лет он умел читать, писать и считать лучше любого своего сверстника во всей деревне. Мой отец тогда ещё не был настоятелем в Пэлеме и детства Джорджа Понтифика помнить не мог, но из слышанных мною разговоров отца с соседями я заключаю, что все считали мальчика необычайно живым и развитым не по годам. Родители, естественно, гордились своим отпрыском, а мать и вовсе была уверена, что однажды он станет одним из властителей и наставников мира сего.
Но одно дело считать, что твой сын обретёт великие жизненные блага, и совсем другое – наладить соответствующие отношения с фортуной. Джордж Понтифик благополучно мог стать плотником, всего лишь, и заместить своего отца в ранге одного из малых магнатов Пэлема, преуспев, тем не менее, в более истинном смысле, чем в том, в каком он преуспел, – ибо, полагаю я, не бывает в этом мире более прочного преуспеяния, чем то, что выпало на долю мистера и миссис Понтифик; случилось, однако же, что году примерно в 1780-м, когда Джорджу было пятнадцать, в Пэлем приехала погостить на несколько дней сестра миссис Понтифик, замужем за неким мистером Ферлаем[10]10
Многие фамилии в романе звучат, как значимые. Мы не берём на себя смелость утверждать, что имел или не имел в виду автор, но считаем долгом переводчика сообщать читателю, какие ассоциации могут вызывать у англоязычного читателя такие фамилии. Ферлай (Fairlie) переводится примерно как «благовидная ложь».
[Закрыть]. Этот мистер Ферлай был издатель преимущественно религиозной литературы и владел конторой на Патерностер-Роу; он сумел возвыситься в этой жизни, и с ним возвысилась его жена. Сёстры уже много лет не поддерживали близких отношений, и я не припомню в точности, как вышло, что мистер и миссис Ферлай стали гостями в тихом, но чрезвычайно уютном доме своих родичей; так или иначе, они приехали, и очень скоро юный Джордж сумел завоевать благорасположение своих тётушки и дядюшки. В умном и сообразительном мальчике, сыне хороших родителей, с хорошими манерами и крепким телосложением кроется потенциальная ценность, которую опытный бизнесмен, нуждающийся во множестве подчинённых, вряд ли проглядит. Визит ещё не закончился, а мистер Ферлай уже сообщил родителям Джорджа, что готов ввести его в своё дело, пообещав в то же время, что буде мальчик в деле преуспеет, искать, кто бы ему поспоспешествовал, долго не придётся. Интересы сына были слишком близки сердцу миссис Понтифик, чтобы отвергнуть такое предложение; скоро дело было улажено, и спустя две недели после отъезда Ферлаев Джордж отправился в экипаже в Лондон, где его встретили дядя с тётей, у которых, согласно договорённости, ему предстояло жить.
Так было положено начало жизненному взлёту Джорджа Понтифика. Теперь он модно одевался, к чему дотоле был непривычен, а от той деревенской неотёсанности в повадке и речи, что он привез с собой из Пэлема, избавился быстро и окончательно, и скоро в нём не осталось никаких признаков того, что он родился и воспитывался не в той среде, которую принято называть «образованным обществом». Юноша выполнял свою работу с большим прилежанием и с лихвой оправдывал сложившееся о нём у мистера Ферлая положительное мнение. Иногда мистер Ферлай отпускал его на каникулы в Пэлем, и вскоре родители почувствовали, как разительно отличаются новообретённые строй и манера его речи от прежних, пэлемских. Они очень им гордились и скоро заняли подобающую обстоятельствам позицию, отбросив всяческую претензию на родительскую опеку, в каковой и в самом деле не было ни малейшей нужды. Джордж отвечал им неизменно добрым отношением и до конца жизни сохранил к отцу и матери чувство привязанности более теплое, чем, как я могу себе представить, к какому бы то ни было вообще мужчине, женщине или ребенку за всю свою жизнь.
Наезды Джорджа в Пэлем не затягивались надолго, и потому чувство новизны ни у нашего молодого человека, ни у его родителей развеяться не успевало; пути до нас от Лондона меньше пятидесяти миль, к тому же без пересадок, так что дорога была необременительна. После многих дней, проведённых в сумраке Патерностер-Роу, которая была тогда – и остаётся поныне – скорее узким и мрачным ущельем, чем улицей, Джорджу особенно нравилось дышать свежим деревенским воздухом и бродить по зелёным лугам. Ему нравилось встречать знакомые лица фермеров и деревенских жителей, нравилось быть на виду и выслушивать выражения восторга по поводу того, каким он вырос пригожим да удачливым, – ибо не тот это был человек, чтобы держать свою свечу под кроватью[11]11
Мк 4:21; Лк 8:16.
[Закрыть]. Дядюшка обучал его по вечерам латыни и греческому; у него оказались способности к языкам, и он с лёгкостью и необыкновенной быстротой усвоил то, на что многим приходится тратить годы. Эти знания, полагаю, вселили в него чувство уверенности в себе, которое, хотел он этого или не хотел, отчётливо в нём проявлялось; во всяком случае, скоро он стал выступать знатоком, ценителем и судьёй литературы, а от этого уже недалеко до авторитетных суждений в живописи, архитектуре, музыке и всём остальном. Подобно своему отцу, он знал цену деньгам, но, в отличие от того, был более скуп в тратах и, одновременно, любил повыставляться; будучи, по сути дела, ещё мальчишкой, он уже был эдаким основательным бывалым человечком и строил своё преуспеяние на принципах, проверенных на собственном опыте и осознаваемых именно как принципы, а не на тех гораздо более глубоких убеждениях, которые в отце его были органичны – настолько, что он никогда не мог бы изъяснить их сколько-нибудь путно.
Отец, как уже было сказано, понять его не мог и ни во что не вмешивался. Сын явно превзошёл отца, и тот отлично осознавал это неким не поддающимся формулировке чутьём. По прошествии нескольких лет старик стал всякий раз, когда сын приезжал погостить, тоже наряжаться в лучшие свои одежды, и не переодевался в будничное, пока молодой человек не отбывал обратно в Лондон. Мне кажется, старый мистер Понтифик, наряду с гордостью и привязанностью к сыну, ощущал нечто вроде страха перед ним, как перед чем-то таким, чего он до конца не постигал и что, при всей внешней гармонии, было ему чуждо. Миссис же Понтифик ничего подобного не ощущала; для неё Джордж был чистым и абсолютным совершенством, и она с истинным наслаждением наблюдала в нём – или полагала, что наблюдает, – более сходства, как во внешности, так и в складе характера, с собою и со своей семейственной линией, чем с мужниной.
Когда Джорджу было лет двадцать пять, дядюшка принял его в партнёры на очень щедрых основаниях, и ему ни разу не пришлось пожалеть об этом своём шаге. Молодой человек привнёс новую энергию в предприятие, которое и так работало энергично, и к тридцати годам принадлежавшая ему доля годового дохода составляла не меньше 1500 фунтов стерлингов. Два года спустя он женился на девице семью годами младше себя, взяв в приданое кругленькую сумму. Жена умерла в 1805 году, когда родилась Алетея, их младшая, и Джордж никогда уже более не женился.








