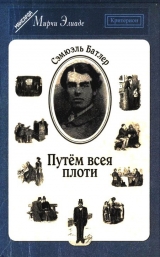
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц)
Глава XXVI
Вышеприведённое письмо показывает, насколько сильнее пеклась Кристина о вечном, чем о временном благополучии своих сыновей. Можно бы предположить, что к тому времени её религиозному задору пора бы уже поистощиться, но нет, у неё было ещё много в запасе. На мой взгляд, те, кто счастлив в этом мире, лучше и привлекательней тех, кто несчастлив, и, соответственно, в день всеобщего Воскресения и Страшного суда у них больше шансов удостоиться Небесных селений. Может быть, и у Кристины было такое же, пусть и неосознанное ощущение, и именно оно и послужило причиной тому, что Кристина так пеклась о земном счастье Теобальда; а может быть, причина тому – в её твёрдой убеждённости, что благополучие в вечности ему обеспечено без вопросов, и теперь оставалось только позаботиться о благополучии земном. Он должен «видеть в них послушных, любящих детей, внимательных к его желаниям, праведных, самоотверженных и усердных» – какая, заметьте, гирлянда добродетелей, в высшей степени удобных для родителей; он никогда не должен краснеть за неразумие тех, «кто обязан испытывать к нему глубочайшую благодарность и чья первейшая обязанность – делать всё, чтобы он был счастлив». Какой совершенный образец материнской заботы! Заботы, говорю я, в первую очередь о том, чтобы отпрыски не вздумали иметь собственные желания и собственные чувства, каковые суть верный источник проблем (реальных или воображаемых) без числа. Ведь именно здесь корень всех зол; впрочем, согласитесь ли вы с этим последним утверждением или нет, но мы безошибочно различаем у Кристины достаточно чёткое понимание долга детей перед родителями, равно как и того, что адекватное исполнение этого долга – задача настолько трудная, что её одолевали сомнения, справятся ли с нею Эрнест и Джои. Собственно говоря, вполне очевидно, что прощальный (по замыслу) взгляд, брошенный на них, был подозрительный взгляд. По отношению же к Теобальду подозрений не было; что он посвятит свою жизнь детям – об этом нечего даже и говорить, это трюизм.
Возможно ли, позвольте спросить, чтобы ребёнок едва только пяти лет от роду, воспитанный в такой атмосфере молитв, и псалмопений, и арифметики, и счастливых воскресных вечеров – не говоря уже о нескончаемых повседневных порках, сопровождающих вышеуказанные молитвы, псалмопения и так далее, о каковых порках наша авторша умалчивает, – как, скажите, это может быть, чтобы так воспитанный мальчуган мог расти здоровым и жизнерадостным, пусть даже мать по-своему его любит, что несомненно, и даже иногда рассказывает ему сказки? Может ли взгляд читателя, кто бы он ни был, не уловить признаков приближающегося гнева Божия, готового обрушиться на голову того, кто выпестован под сенью вот такого письма?
Я иногда подумываю, что римская церковь поступает мудро, не позволяя своим священникам жениться. В Англии всякий скажет вам, что дети священников часто бывают неудачными. Причина тому очень проста, но настолько хорошо забыта, что пусть меня простят за то, что я повторю её здесь.
От представителя духовенства ожидается, что он будет чем-то вроде человека-воскресенья. Ему не пристало ничто такое, что простительно для людей-будней. Это его работа, ему за это платят – чтобы он вёл жизнь более строгую, чем другие люди. Это его raison d’être[111]111
Оправдание жизни (фр.).
[Закрыть]. Если его прихожане ощущают, что он таков, они его одобряют, ибо через него как бы сами участвуют в том, что считают жизнью в святости. Вот почему священника часто называют также викарием – потому что его викарирующая[112]112
Викарирующими называются биологические виды, очень близкие между собой, но занимающие разные экологические или географические ниши.
[Закрыть] праведность должна замещать собою праведность тех, кто вверен его попечению. Но, как и у любого англичанина, его дом – его крепость, и у него, как и у всякого другого, чрезмерное напряжение на людях сопровождается разрядкой, наступающей в ту минуту, когда напрягаться более не нужно. Его дети – самые беззащитные из всех, с кем он имеет дело, и в девяти случаях из десяти он отведёт душу именно на них.
Далее, лицо духовного звания редко может позволить себе роскошь прямо взглянуть фактам в лицо. Поддерживать только одну сторону – его профессия, и потому беспристрастно судить о других сторонах для него просто невозможно.
Мы забываем, что всякий священник с бенефицием – это такой же наёмный поборник известных интересов, как и наёмный адвокат, старающийся убедить присяжных оправдать подсудимого. Мы должны слушать его так же беспристрастно, так же воздерживаясь от преждевременных суждений, так же полно принимая во внимание аргументы противной стороны, как слушающий дело судья. Если мы не знаем этих аргументов или не можем сформулировать их так, чтобы противная сторона признала нашу формулировку верным изложением её взглядов, мы вообще не имеем права претендовать на то, что сформировали собственное мнение. Беда в том, что, согласно действующему в стране законодательству, услышанной в данном случае может быть только одна сторона.
Теобальд и Кристина не были исключением из этого правила. Приехавши в Бэттерсби, они горели желанием исполнять свои обязанности, как положено по статусу, и посвятить себя целиком чести и славе Божьей. Но обязанностью Теобальда было видеть честь и славу Божью глазами церкви, которая за триста лет своего существования ни разу не увидела причины изменить хоть один из своих взглядов.
Не стоит думать, будто он когда-либо докатился до сомнений в безусловной компетентности своей церкви по любому вопросу. У него, как и у Кристины, было острое чутьё на всяческую смуту, и можно с уверенностью предположить, что, обнаружься у него или у неё первые, едва заметные, всходы маловерия, их бы тут же выпололи столь же категорически, как искореняли признаки самоволия у Эрнеста, только, надо полагать, с большим успехом. При этом Теобальд считал себя, и все вокруг его считали, и, пожалуй, он и на самом деле был, исключительно праведным человеком; в нём видели воплощение всех тех добродетелей, который делают бедных достойными уважения, а богатых – уважаемыми. Со временем супруги позволили уговорить себя до умопомраченья; они уверились в том, что даже просто пребывание с ними под одной крышей должно вызывать у людей чувство благодарности. Их дети, их слуги, их прихожане должны быть счастливы ipso facto[113]113
В силу самого факта (лат.).
[Закрыть], что они ИХ дети, слуги и прихожане. Нет иного пути к благоденствию – ни в нынешнем, ни в грядущем, – чем путь, которым идут они; нет иных хороших людей, кроме как те, кто во всём без исключения думает так же, как они; нельзя считать сколько-нибудь приличным человека, удовлетворение нужд которого причиняло бы неудобства им, Теобальду и Кристине.
Вот как получилось, что их дети были такими бледными и хилыми: они страдали ТОСКОЙ ПО ДОМУ. Они умирали с голоду, хотя их и закармливали, – потому что пичкали не тем, чем надо. Природа отплатила детям – но не Теобальду и Кристине. Да и с чего бы? Ведь это не они влачили голодное существование. В этом мире есть два типа людей – те, кто грешит, и те, против кого грешат; и уж если приходится принадлежать к одному из этих типов, то уж лучше к первому!
Глава XXVII
Но хватит уже подробностей из ранних годов моего героя. Достаточно сказать, что он в конце концов через них прошёл и к двенадцати годам выучил наизусть греческую и латинскую грамматику до последней страницы. Он прочёл почти всего Виргилия, Горация и Ливия и невесть сколько греческих пьес; он был силён в арифметике, досконально знал первые четыре тома Евклида и неплохо владел французским. Пора было поступать в школу, и вот его определяют в гимназию к знаменитому доктору Скиннеру[114]114
Слово «skinner» означает в буквальном смысле кожевенника, а в переносном – мошенника.
[Закрыть] из Рафборо[115]115
Слово «rough» («раф») означает нечто грубое, шершавое, неотёсанное; «боро» – распространённое окончание в названиях городков («городок», собственно, и обозначающее).
[Закрыть].
В свою бытность в Кембридже Теобальд шапочно знавал доктора Скиннера. Это был светоч и светило во всём, чем бы он ни занимался с самого детства. Это был воистину великий гений. Все это знали и, более того, говорили, что он – один из тех немногих, к которым слово «гений» применимо безо всякого преувеличения. Разве ему не присудили невесть сколько университетских стипендий ещё на первом курсе? Не был ли он впоследствии математическим гением старших курсов Кембриджа, первым медалистом почётного ректора и ещё не знаю кем? И потом, он был такой замечательный оратор; в дискуссионном клубе он не знал себе равных и был, разумеется, его президентом; в моральном отношении – а это слабое место многих гениев – он был безупречен; но самое главное из всех его выдающихся качеств, более, может быть замечательное, чем даже его гениальность, было то, что биографы назвали «простодушной и даже детской серьёзностью характера», серьёзностью, которая проявлялась в той торжественности, с которой он говорил даже о пустяках. О том, что в политике он стоял на стороне либералов, можно и не упоминать.
Внешность у него была не слишком пленяющей. Был он среднего роста, тучен телом, отличался неистовым взглядом серых глаз, мечущих пламя из-под огромных кустистых бровей, наводящих страх на всякого, кто приближался к нему. И всё же, если и имелось у него слабое место, то его можно было обнаружить именно в связи с его наружностью. В юности он был рыж, но когда получил свою первую степень, у него случилось воспаление мозга, и ему пришлось обрить голову; когда он снова появился на людях, на нём был парик, причём далеко не такой рыжий, какими были его натуральные волосы. С тех пор он не только никогда не расставался с париком, но с каждым годом этот парик все больше и больше терял рыжину, пока, наконец, к сорока годам от рыжего не осталось и следа – Скиннер положительно стал темно-гнедым.
Когда доктор Скиннер был ещё очень молод – не старше, кажется, двадцати пяти, – открылась вакансия директора гимназии в Рафборо, и его без колебаний пригласили. Результаты подтвердили правильность выбора. Ученики доктора Скиннера отличались всегда и во всём, в какой бы университет ни поступали. Он формировал их умы по образцу своего собственного и оставлял в них отпечаток, который не стирался до конца жизни и даже дальше; кем бы ни становился выпускник Рафборо, он навсегда оставался богобоязненным и серьёзным христианином, в политике же либералом, а то и радикалом. Конечно, находились мальчики, неспособные по достоинству оценить красоту и возвышенность натуры доктора Скиннера. Такого рода мальчики отыщутся, увы, в любой школе; в отношении таких рука доктора Скиннера была, и совершенно справедливо, тяжела. Всё время, пока между ними существовала связь, он поднимал руку на них, а они на него. Они не просто его не любили – они ненавидели всё, что он собою воплощал, и потом на протяжении всей жизни отвращались от всего, что напоминало им о нём. Впрочем, таких было меньшинство, и дух в школе царил решительно скиннерианский.
Как-то раз мне выпала честь сыграть с этим великим человеком партию в шахматы. Шли рождественские каникулы, и я приехал на несколько дней в Рафборо повидать по делу Алетею Понтифик (она там в то время жила). С его стороны было весьма любезно заметить меня, ибо я если и был литературным светилом, то самой малой величины.
Действительно, в промежутках между делами я много писал, но писал почти исключительно для сцены, причём для тех театров, что посвящали себя буффонаде и бурлеску. В этих жанрах я написал много пьесок, полных игры слов, с множеством комических песенок, и они имели немалый успех, но моим лучшим произведением был труд по английской истории периода Реформации, в котором я вывел Кранмера, сэра Томаса Мора, Генриха VIII, Екатерину Арагонскую и Томаса Кромвеля (в юности известного как Malleus Monachorum[116]116
Молот монахов (лат.).
[Закрыть]) и заставил их танцевать канкан. Я также инсценировал «Путешествие пилигрима»[117]117
Аллегорическая повесть Джона Буниана (1628–1688) о путешествии из града Уничтожения в Небесный град. Апполион и прочие – персонажи, а «Ярмарка суеты» – эпизод из этой книги. Название «Vanity fair» закрепилось в английском языке в качестве идиомы. Укрепившийся в русской традиции перевод «Ярмарка тщеславия» (роман У. Теккерея, 1811–1863) в контексте книга Буниана был бы неточен.
[Закрыть] для рождественской пантомимы и сделал очень важную сцену из «Ярмарки суеты» с мистером Великодушным, Аполлионом, Христианой, Милостивым и Уповающим в качестве главных персонажей. Оркестр играл отрывки из самых популярных вещей Генделя, но действие было сильно сдвинуто во времени, да и мелодии были не вполне теми, какими оставил их нам Гендель. Мистер Великодушный был очень тучен и имел красный нос; на нём был просторный жилет и блуза с огромным жабо на груди. Уповающий вечно замышлял всевозможные гадости, какие я только мог для него придумать; на нём был костюм франта своего времени, а во рту торчала сигара, которая беспрерывно гасла.
На Христиане ничего существенного не было; злые языки поговаривали, что платье, первоначально предложенное для неё помощником режиссёра, отверг как неадекватное сам лорд-гофмейстер, но это неправда.
Со всеми этими преступленьями на шее я, вполне естественно, ощущал себя великим грешником, играя в шахматы (которые терпеть не могу) с великим доктором Скиннером из Рафборо, историком Афин и редактором Демосфена. Кроме того, доктор Скиннер был из числа тех, что гордятся своим умением мгновенно располагать к себе людей, и вот, я весь вечер просидел на краешке стула. Но ведь директора школ и всегда внушают мне благоговейный страх.
Партия была длинной, и когда в половине десятого настало время ужина, у каждого из нас на доске всё ещё оставалось по несколько фигур.
– Что подать на ужин, мистер Скиннер? – спросила серебристым голоском миссис Скиннер.
Он долго не отвечал, а потом тоном едва ли не сверхчеловеческой торжественности произнёс «ничего» и чуть позже добавил: «Совсем ничего».
Мало-помалу мною овладело ощущение, что я подошёл как никогда близко к последней стадии всего сущего. В комнате, казалось, сгустилась тьма, когда на лице доктора Скиннера появилось выражение, свидетельствовавшее о том, что он собирается говорить. Это выражение набирало силу, и тьма всё сгущалась и сгущалась.
– Минутку, – сказал он наконец, и я почувствовал, что сейчас, может быть, закончится это напряжённое, уже становившееся невыносимым ожидание. – Минуточку. Может быть, чуть позже – стакан холодной воды. И маленький кусочек хлеба – с маслом.
На слове «с маслом» его голос упал до едва слышимого шёпота; и затем вздох, как бы облегчения, что фраза досказана до конца, и вселенная на этот раз устояла.
Ещё десять минут торжественного безмолвия, и партия завершилась. Доктор стремительно поднялся с места и расположился за обеденным столом.
– Миссис Скиннер, – игриво воскликнул он. – Что это за загадочные объекты, окружённые картофелем?
– Это устрицы, мистер Скиннер.
– Дайте мне, и также Овертону.
И таким манером он съел добрую порцию устриц, затем рубленой телятины, запечённой до румяной корочки в раковинах морских гребешков, потом ещё кусок яблочного пирога и ломоть хлеба с сыром. Это был его маленький кусочек хлеба с маслом.
Скатерть убрали, и на столе появились бокалы с чайными ложечками, пара лимонов и кувшин с кипятком. Великий человек расслабился. Его лицо засияло.
– Ну, а теперь запьём, – провозгласил он не терпящим возражения тоном. – Чем бы? Бренди с водой? Нет. Это будет джин с кипятком. Джин – более здоровый напиток.
И мы пили джин, горячий и крепкий.
На такого ли человека не подивиться, ему ли не посочувствовать? Не был ли он директором гимназии в Рафборо? Задолжал ли он когда-либо кому-либо? Чьего вола забрал он, чьего осла отнял, кого обсчитал? Сказал ли кто хоть полслова неодобрения о его моральных качествах? Если он разбогател, то средствами самыми благородными на свете – собственными учёными занятиями и литературными достижениями; не говоря уже о его выдающихся научных трудах, его «Размышления о Послании святого апостола Иуды и о нём самом» поставили его в ряд с самыми популярными богословами Англии; это было настолько исчерпывающее исследование, что никому из купивших эту книгу уже никогда не пришлось бы размышлять о данном предмете – воистину, всякий, имевший хоть какое-то отношение к теме, был исчерпан до последней степени. На одной только этой книге он заработал 5000 фунтов и имел все возможности до конца жизни заработать ещё 5000. Человек, совершивший всё это и мечтающий о куске хлеба с маслом, имеет право объявить об этом своём желании с известным пламенем и торжеством[118]118
Шекспир. «Отелло»: И пламя битв, и торжество побед (перев. Б. Пастернака).
[Закрыть]. К тому же, никогда не следовало принимать его слова буквально, не ища в них, как он сам любил говорить, «более глубокого и скрытого смысла». Всякий ищущий такового в самых даже невинных его высказываниях не будет разочарован. Он обнаружит, что «хлеб с маслом» на скиннерском означает пирожки с устрицами и яблочный пирог, а слово «вода» по-настоящему переводится как «горячий джин».
Но его труды, даже независимо от их ценности в денежном выражении, составили ему прочное имя в литературе. Так Галлион[119]119
Юлий Галлион (ок. 5 до н. э. – 65 н. э.), римский проконсул, старший брат философа, писателя и государственного деятеля Луция Аннея Сенеки (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.). Когда иудеи привели апостола Павла на его суд, прогнал их, велев самим разбираться в вопросах веры (см. Деян 18:12 и сл.).
[Закрыть], вероятно, полагал, что его слава будет зиждиться на его трактатах по естествознанию; мы ныне черпаем их содержание у Сенеки, с которого он их скомпилировал; по нашим сведениям, они могли содержать полную теорию эволюции, но они до нас не дошли, и бессмертие пришло к Галлиону оттуда, откуда он меньше всего на свете его ожидал, и по причине, которая меньше всего польстила бы его тщеславию. Он обрёл бессмертие потому, что не обратил должного внимания на самое видное из всех движений, с которыми когда-либо соприкасался (желаю всем желающим обрести бессмертие поучиться на его примере и не поднимать так много шума по поводу самых видных движений); и так же доктор Скиннер, если и обретёт бессмертие, то это, скорее всего, произойдёт по совсем другой причине, чем та, которую он так любовно лелеял в своём воображении.
Может ли такому человеку прийти в голову, что на самом деле он зарабатывает деньги тем, что развращает юношество; что кормящая его профессия – выдавать чёрное за белое в глазах тех, кто ещё слишком юн и неискушён, чтобы уметь его разоблачить; что он утаивает от тех, кого берётся учить, самую сущность аргументации – а ведь чтобы научиться аргументировать, они вправе полагаться на добросовестность того, кто по смыслу своей профессии должен быть правдивым; что он – просто необузданный полуиндюк, полугусак, который своей замшелой, жёлчной физиономией и кулды-мулдыкающим голосом может запугать робкого, но задаст стрекача, наткнувшись на сильного; что его «Размышления об апостоле Иуде» на самом деле от начала до конца содраны из разных мест без ссылки на источники и не заслуживают даже презрения, когда бы не вера столь многих людей в то, что они написаны честно? Может быть, только миссис Скиннер могла бы поставить его на место, если бы дело того стоило; но она была слишком занята ведением хозяйства и заботами о том, чтобы мальчиков хорошо кормили и ухаживали за ними в болезни – в чём, кстати сказать, вполне преуспевала.
Глава XXVIII
Эрнест был наслышан страшных рассказов о нраве доктора Скиннера и об издевательствах, которые младшим мальчикам в Рафборо приходилось терпеть от старших. К тому времени он уже натерпелся сполна, и перспектива ещё худших тягот, какого бы рода они ни были, ему отнюдь не улыбалась. Когда выезжали из дома, он ещё крепился, но когда ему сказали, что Рафборо уже недалеко, он, увы, разревелся. Отец и мать были с ним – они ехали в собственной карете; железная дорога тогда ещё до Рафборо не дошла, и те сорок миль, что отделяли его от Бэттерсби, легче всего было преодолеть именно так.
Заметив, что он плачет, мать почувствовала себя польщённой и приласкала его. Она сказала, что понимает, как грустно ему расставаться с таким счастливым семейством и жить среди людей, которые, хотя и будут, конечно, очень хорошо к нему относиться, а всё же никогда, никогда так исключительно хорошо, как его дорогие папа и мама; и, однако же, если говорить правду, она сама заслуживает гораздо большего сочувствия, чем он, ибо расставание причиняет ей больше страданий, чем, конечно, ему, и прочая, и прочая; Эрнест же, когда ему сказали, что его слёзы – это слёзы печали от расставания с домом, принял такое объяснение на веру и до истинной их причины доискиваться не стал. Подъезжая к Рафборо, он взял себя в руки и встретил доктора Скиннера довольно спокойно.
По прибытии они сели за ленч с доктором и его супругой, и затем миссис Скиннер провела Кристину по комнатам и показала, где будет спать её мальчуган.
Что бы ни говорили мужчины по поводу исследований человеческого рода, женщины твёрдо верят, что наиболее достойным объектом исследований для рода женского является женщина. Кристина была настолько поглощена исследованием миссис Скиннер, что ни на что другое её внимания уже не хватало; подозреваю, что и миссис Скиннер очень внимательно приглядывалась к Кристине. Кристина была очарована, как и всегда при новом знакомстве, ибо находила в новых знакомых (как и все мы, вероятно) нечто соприродное кресту; миссис же Скиннер, могу себе представить, повидала на своём веку столько кристин, что никаких новых откровений данный конкретный экземпляр в её сознание не привнёс; мне кажется, её личное мнение отражало авторитетное суждение одного известного директора школы, который сказал, что все родители – кретины, и особенно матери; впрочем, она была сама любезность и без конца расточала улыбки, что Кристина с удовольствием проглотила как дань именно ей, Кристине, ни для какой другой мамаши не доступную.
Тем временем Теобальд с Эрнестом находились с мистером Скиннером в библиотеке – комнате, где экзаменовали новеньких, а стареньким устраивали нагоняи и экзекуции. О, если бы стены этой комнаты умели говорить, о каких глупостях и жестокостях они бы порассказали!
Как и у всех других домов, у дома мистера Скиннера был свой особый запах. В библиотеке преобладал запах юфти, но наряду с ним там отдавало чем-то вроде аптеки. Этот аромат доносился из расположенной в углу небольшой лаборатории, одного обладания которой вкупе с небрежно оброненными в разговоре словечками «карбонат», «гипосульфит», «фосфат» и «валентность» было достаточно, чтобы даже самых заядлых скептиков убедить в том, что доктор Скиннер глубоко образован в химии.
Замечу в скобках, что доктор Скиннер баловался очень многими вещами, в том числе и химией. Это был человек множества малых познаний, каждое из которых опасно. Помню, Алетея Понтифик со свойственным ей ехидством сказала мне, что он напоминает ей Бурбонских принцев по их возвращении из ссылки после битвы при Ватерлоо, только с точностью до наоборот: те ничему не научились и ничего не забыли, а доктор Скиннер научился всему и всё забыл. Мне же в этой связи сейчас вспомнилось ещё одно из её ехидных высказываний о докторе Скиннере. Она как-то раз сказала мне, что он обладает кротостью змеи и мудростью голубки[120]120
Ср. Мф 10:16.
[Закрыть].
Но вернёмся в библиотеку. В ней висел над камином поясной портрет самого доктора Скиннера работы Пикерсгилла Старшего, чьи достоинства доктор Скиннер одним из первых оценил и затем пропагандировал. Других картин в библиотеке не было, зато в столовой находилась прекрасная коллекция, которую собирал со свойственным ему вкусом сам доктор. Впоследствии он существенно её пополнил, и когда, много позже, она пошла с молотка у Кристи[121]121
Крупнейший в Англии аукционный дом.
[Закрыть], в ней обнаружилось немало поздних и наиболее зрелых работ Соломона Харта, О’Нила, Чарльза Лендсира и множества других недавних наших академиков, имена которых мне сейчас не вспомнить. Так было собрано вместе и выставлено на обозрение публики много работ, которые в своё время привлекли внимание на выставках в Академии и последующая судьба которых возбуждала некоторое любопытство. Цены, за которые они пошли, вызвали разочарование душеприказчиков, но такие вещи, в конце концов, сильно зависят от игры случая. Некий беспринципный репортёр разругал коллекцию в одном известном еженедельнике. Кроме того, незадолго до этого на рынок была выброшена большая партия картин, так что на данном аукционе чуть не разразилась паника – как реакция на царившие ранее высокие цены.
Стол в библиотеке был завален книгами; между ними в беспорядке валялись рукописные страницы – вероятно, упражнения и экзаменационные листы учеников. Комната вообще производила гнетущее впечатление – как царившим в ней беспорядком, так и атмосферой учёности. Входя в неё, Теобальд с Эрнестом споткнулись о край большой дыры в турецком ковре, и поднявшаяся при этом пыль показала, как давно его не выбивали. Необходимо отметить, что вины миссис Скиннер тут не было никакой: сам доктор предупредил, что если кто тронет его бумаги, это будет смерти подобно. У окна стояла большая клетка с парой диких голубей, от чьего жалобного воркованья помещение делалось ещё более унылым. Стены от пола до потолка были уставлены книжными полками, и книги на каждой стояли в два ряда. Это было ужасно. На заметнейшем из заметных мест самой заметной полки стоял ряд роскошно переплетённых томов, озаглавленных «Труды Скиннера».
К сожалению, мальчики склонны к поспешным умозаключениям, и Эрнест решил, что доктор Скиннер знает все книги из этой кошмарной библиотеки и что ему тоже, если он хочет хоть чего-нибудь добиться, придётся изучить их все. Всё оборвалось в его груди.
Он сел на указанный ему стул у стены, а доктор Скиннер и Теобальд принялись обсуждать насущные темы дня. Говорил, собственно, один доктор. Он говорил о бушевавшем как раз тогда Хемпденском споре[122]122
Из истории так называемого «Оксфордского движения», оказавшего большое влияние на судьбы англиканской церкви. Речь идёт о неудавшейся попытке «трактарианцев» (течение в рамках движения) помешать назначению Ренна Диксона Хемпдена (ставшего впоследствии епископом Херефордским) профессором богословия из-за несогласия с его богословскими взглядами.
[Закрыть], он со знанием дела толковал о запрете на обращение в иностранный суд, он высказался о случившейся в то время революции на Сицилии и порадовался тому, что папа римский не пропустил по подвластной ему территории шедшие на подавление войска. Доктор Скиннер в складчину с другими учителями подписывался на «Таймс», и теперь он пересказывал мнения редакторов. В те дни грошовых газетёнок не существовало, и Теобальд подписывался только на «Спектейтор», ибо в политике стоял на стороне вигов[123]123
Партия вигов (XVII–XVIII вв.), либеральная, предшественница современной лейбористской.
[Закрыть], да раз в месяц получал «Церковный вестник», а других изданий в глаза не видывал, так что его поражала та лёгкость и плавность, с какой доктор Скиннер переходил от темы к теме. Действия папы в связи с Сицилианской революцией естественным образом привели доктора к реформам, которые его святейшество осуществлял на подвластных ему землях. Он со смаком пересказал анекдот, незадолго до того опубликованный в журнале «Панч» – что Пий-нет-нет[124]124
Pio Nono, прозвище папы Пия IX (1846–1878).
[Закрыть] должен бы называться Пий-да-да, так как, объяснил доктор, он жаловал своим подданным всё, о чём бы те его ни просили. Душа доктора Скиннера всегда живо отзывалась на игру слов.
Затем он перешёл к собственно реформам. Они открывали новую эру в истории христианского мира, им предстояло иметь исключительно важные и далеко идущие последствия, вплоть, может быть, до воссоединения англиканской церкви с римской. Доктор Скиннер недавно опубликовал брошюру по этому предмету, где продемонстрировал выдающуюся осведомлённость и с такой силой нападал на римскую церковь, что перспектива воссоединения выглядела после этого не очень обещающе. Поводом для его нападок послужили буквы A.M.D.G., которые он увидел на стене римско-католической часовни и которые, конечно, означали Ad Mariam Dei Genetricem[125]125
От Марии Бог родился (лат.).
[Закрыть]. Можно ли представить себе худшее идолопоклонничество?
Кто-то обратил моё внимание, замечу кстати, что я, должно быть, позволил своей памяти сыграть со мной злую шутку (на что она большой мастер), когда сказал, что доктор предложил Ad Mariam Dei Genetricem в качестве, если можно так выразится, полной тональности на базе ключа A.M.D.G., ибо, намекнули мне, это плохая латынь, а на самом деле доктор гармонизировал эти буквы так: Ave Maria Dei Genetrix[126]126
Радуйся, Мария, Богородица (лат).
[Закрыть]. Я не сомневаюсь, что доктор всё сделал правильно в смысле латинизма – я давно забыл те крохи латыни, которые когда-то знал, и лезть в учебники не собираюсь, – но я всё же почти уверен, что он сказал именно Ad Mariam Dei Genetricem, а если так, то можно не сомневаться, что Ad Mariam Dei Genetricem – достаточно хорошая латынь, во всяком случае, для церковной практики.
Ответ от тамошнего священника тогда ещё не поступал, и доктор Скиннер ликовал, но позже, когда ответ появился, и в нём торжественно провозглашалось, что A.M.D.G. не означает ничего более опасного, чем Ad Majorem Dei Gloriam[127]127
К вящей славе Божьей (лат.).
[Закрыть], то создалось такое ощущение, что, пусть эта уловка и не обманула бы ни одного англичанина с мозгами, а всё же жаль, что доктор Скиннер избрал для своей атаки именно этот пункт, ибо ему пришлось-таки оставить поле боя за противником. А когда за кем-то остаётся поле боя, то наблюдатели имеют прескверное обыкновение думать, что противная сторона просто не решилась довести дело до ума.
Доктор Скиннер рассказывал и рассказывал Теобальду о своей брошюре, и я сомневаюсь, чтобы тот чувствовал себя лучше, чем даже Эрнест. Ему было смертельно скучно, ибо в глубине души он ненавидел либерализм, хотя и стыдился в этом признаться, и, как я уже говорил, заявлял себя сторонником вигов. Он не хотел воссоединяться с римской церковью; он хотел обратить всех католиков в протестантство и не понимал, почему они сами этого не хотят; но доктор Скиннер говорил в таком истинно либеральном духе, а когда Теобальд попробовал было вставить словечко, заткнул его так резко, что ему пришлось дать доктору волю и слушать до конца, к чему он отнюдь не был приучен. Он всё гадал, как бы ему приблизить этот конец, и тут в обстановке что-то изменилось; именно же, выяснилось, что Эрнест плачет – очевидно, из-за острого, хотя и непередаваемого словами чувства тоски, достигшего невыносимых пределов.
Он был явно перевозбуждён событиями дня и сильно нервничал, и потому миссис Скиннер, как раз в этот миг вошедшая в библиотеку с Кристиной, предложила, чтобы он провёл послеобеденное время с миссис Джей, школьной экономкой, а знакомство с однокашниками отложили бы до утра. Итак, отец с матерью сказали ему сердечное прости, и мальчугана передали в руки миссис Джей.
О школьные наставники! Если кому-нибудь из вас попадёт в руки эта книга – помните! Когда какого-нибудь ополоумевшего от страха сорванца папа с мамой приведут к вам в ученики, и вы станете третировать его, как он того заслуживает, и потом сделаете так, что жизнь станет ему в тягость, – о, помните, что под личиной именно такого мальчика явится вам ваш будущий биограф и летописец. Взирая на несчастного клопа с распухшими от слёз глазами, сидящего на краешке стула у стены вашего кабинета, не упустите сказать себе: «А вдруг это и есть тот, кто, прояви я неосторожность, когда-нибудь сообщит миру, что я за человек». Если хотя бы два или три школьных наставника выучат и запомнят этот урок, я буду считать, что эти страницы написаны не зря.








