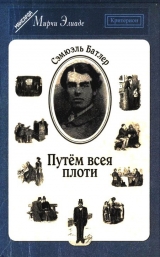
Текст книги "Путём всея плоти"
Автор книги: Сэмюель Батлер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 37 страниц)
Глава LXIX
Приходя к решению разорвать раз навсегда все связи со своим семейством, Эрнест не принимал во внимание самого своего семейства. Теобальд желал быть избавленным от сына, это правда, но лишь в том смысле, что тот будет находиться к нему не ближе, чем острова Антиподов; о том, чтобы совсем порвать с ним, он и мысли не держал. Хорошо зная своего сына, он был достаточно проницателен, чтобы понимать, что сам-то Эрнест как раз этого и захочет, и, возможно, именно по этой причине, наряду с прочими, был полон решимости связи сохранить, при условии, что это не повлечёт за собой визитов Эрнеста в Бэттерсби, ни также каких-либо постоянных расходов.
Незадолго до его выхода из тюрьмы отец с матерью совещались о том, какого курса им следует придерживаться.
– Мы не должны предоставлять его самому себе, – сказал с чувством Теобальд, – мы не можем этого желать.
– О нет, дорогой, нет, нет! – воскликнула Кристина. – Пусть все другие его покинут, пусть он как угодно удалился от нас, но он должен, как прежде, ощущать, что у него есть родители, чьи сердца бьются любовью к нему, какую бы жестокую боль он им ни причинил.
– Нет у него худшего врага, чем он сам, – сказал Теобальд. – Он никогда не любил нас так, как мы того заслуживали, а теперь из ложного стыда будет уклоняться от встречи с нами. Он будет избегать нас по мере сил.
– Значит, мы должны поехать к нему сами, – сказала Кристина, – и, хочет он этого или не хочет, быть рядом с ним, чтобы поддержать, когда он снова станет входить в мир.
– Если мы не хотим, чтобы он ускользнул, мы должны застать его прямо у ворот тюрьмы.
– Застанем, непременно застанем. Наши лица первыми развеселят его сердце, наши голоса первыми станут увещевать его вернуться на стези добродетели.
– Я думаю, – сказал Теобальд, – что если он увидит нас на улице, он повернётся и убежит. Он чрезвычайно эгоистичен.
– Тогда мы должны испросить разрешения пройти в тюрьму и встретить его до того, как он выйдет.
После долгих обсуждений решено было принять этот план, и Теобальд написал к управляющему тюрьмою с вопросом, допустят ли его на территорию, чтобы забрать Эрнеста, когда его срок истечёт. Ответ пришёл положительный, и наша чета выехала из Бэттерсби накануне выхода Эрнеста из заключения.
Эрнест на такое не рассчитывал и был немало удивлён, когда в девять без нескольких минут ему сообщили, что перед тем, как покинуть тюрьму, он должен явиться в комнату свиданий, ибо там его ждут посетители. Сердце у него ёкнуло, но он собрал всё своё мужество и поспешил в комнату свиданий. И, конечно же, там, у ближайшего к двери конца стола стояли двое – те, кого он почитал злейшими своими врагами на всём белом свете: его отец с матерью.
Бежать было некуда, но он знал, что если дрогнет, он пропал.
Мать плакала, и всё равно она вылетела навстречу и обхватила его руками.
– О, мальчик мой, мальчик мой, – всхлипывала она, не в силах сказать ничего более.
Эрнест стоял белее простыни. Сердце колотилось так, что было трудно дышать. Он позволил матери обнять себя, но тут же высвободился, отступил на шаг и молча стал напротив неё; слёзы катились у него из глаз.
Поначалу он не мог говорить. С минуту обе стороны хранили полное молчанье. Наконец, собравшись с силами, он тихо сказал:
– Матушка (впервые он назвал её иначе чем «мама»), мы должны расстаться. – С этим он повернулся к охраннику и сказал: – По-моему, я волен покинуть тюрьму, если того пожелаю. Вы не можете заставить меня оставаться здесь. Прошу проводить меня к выходу.
Теобальд сделал шаг вперёд.
– Эрнест, ты не должен, ты не оставишь нас таким манером.
– Не говорите мне ничего, – сказал Эрнест, и глаза его блеснули непривычным для него огнём. Вошёл другой охранник и отвёл Теобальда в сторону, а первый проводил Эрнеста к выходу.
– Скажите им, – сказал Эрнест, – от моего имени, что они должны думать обо мне как о мёртвом, ибо я для них умер. Скажите им, что самое моё большое страдание – это позор, который я навлёк на них, и превыше всего на свете я буду стремиться к тому, чтобы отныне не мучить их более; но скажите им также, что если они станут мне писать, я буду возвращать их письма нераспечатанными, а если приедут меня навестить, я стану защищаться, как только смогу.
Говоря это, он стоял уже у ворот тюрьмы; ещё миг – и он на свободе. Пройдя несколько шагов, он отвернул лицо в тюремной стене, прислонился к ней всем телом и зарыдал так, как рыдают люди с разбитым сердцем.
Отказаться от отца и матери ради Христа оказалось в конечном итоге не таким лёгким делом. Если человек был одержим бесами достаточно долго, они, будучи изгоняемы, станут его разрывать, сколь бы властно их ни изгоняли. Эрнест не задержался долго на месте – боялся, что мать с отцом выйдут и увидят его. Он взял себя в руки и нырнул в открывавшийся перед ним лабиринт узеньких улочек.
Он перешёл свой Рубикон – пусть не слишком героически и не весьма драматически, но ведь люди ведут себя драматически только в драмах. Как бы то ни было, вплавь или вброд, но он перебрался на тот берег, и вот он там. Он уже придумывал, как много должен был бы сказать, и винил себя за отсутствие духа; впрочем, это уже ничего не меняло. Он готов был многое простить отцу с матерью и, несмотря на это, негодовал на них за то, что они без всякого предупреждения навязали ему себя в тот самый момент, когда возбуждение от выхода из тюрьмы уже достигло критической точки. Так злоупотреблять его слабостью было с их стороны низостью, но это даже хорошо, что они злоупотребили, ибо это заставило его полнее, чем когда-либо, осознать, что его единственный шанс – в полном от них отделении.
Утро стояло серое, и уже начинали проявляться признаки зимнего тумана: было уже 30 сентября. Эрнест был одет в то, в чём его посадили, то есть, в одежду священника. Глядя на него, никто не отличил бы его нынешнего от него же шесть месяцев тому назад; да и для него самого, когда он брёл не спеша по невзрачной и людной улочке под названием Эйр-Стрит-Хилл (которую хорошо знал, ибо в той округе были у него знакомые клирики), месяцы заключения как будто выпали из его жизни, а ассоциации так увлекли его, что, оказавшись в прежнем окружении и в прежнем одеянии, он чувствовал, как втягивается в своё прежнее «я», как если бы шесть месяцев тюрьмы были сном, а теперь он просыпался, чтобы приняться за прерванные накануне дела. Так действовало неизменившееся окружение на неизменившуюся часть его самого. Но была в нём и изменившаяся часть, и воздействие неизменившегося окружения на неё было таким, что всё вокруг виделось ему почти таким же незнакомым, как если бы у него никогда не было иной жизни, кроме как в тюрьме, и вот теперь он входил в новый для себя мир.
Всю нашу жизнь, каждый её день и каждый час, мы заняты тем, что приспосабливаем наши изменившиеся и не изменившиеся «я» к изменившемуся и не изменившемуся окружению; собственно говоря, жизнь наша вся и состоит в этом процессе притирки, и ни в чём ином; когда нам это не совсем удаётся, мы делаемся глупы, когда совсем не удаётся – сходим с ума, когда приостанавливаем процесс – спим, когда вовсе бросаем попытку – умираем. В жизни тихой и небогатой событиями внутренние и внешние изменения столь малы, что процесс их притирки и утряски не затруднителен или вовсе незаметен; в иной жизни это бывает очень трудно, но и способности к притирке и утряске велики тоже; ещё в иной трудности велики, а способности к притирке малы. Жизнь удается или не удается в зависимости от того, равны или неравны приспособительные способности напряжению от притирки и утряски внутренних и внешних изменений.
Проблема состоит в том, что в конце жизнь заставит нас признать столь неразрывное единство вселенной, что нам придётся отрицать существование внешнего и внутреннего, но видеть всё как внешнее и внутреннее в одно и то же время, где субъект и объект – внешнее и внутреннее – едины, как и всё остальное. Это опрокинет всё наше мировоззрение, но ведь всякому мировоззрению должно быть хоть чем-нибудь да опрокинутым.
Самый лучший выход из этой проблемы – принимать для себя раздельность внутреннего и внешнего – субъекта и объекта, – когда это оказывается для нас удобно, и их единство, когда удобным оказывается таковое. Это нелогично, нелогичны лишь крайности, они же и абсурдны, а одно только среднее реально осуществимо и всегда нелогично. Не логика, но вера есть верховный судья. Говорят, все дороги ведут в Рим, а все философские системы, с какими я только сталкивался в жизни, ведут либо к полному абсурду, либо к заключению, уже не раз настойчиво проводимому на этих страницах, именно же, что праведник верою жить будет, иными словами, что разумные люди пройдут по жизни, руководствуясь эмпирическими правилами, интерпретируя их по своему удобству и не задавая слишком много вопросов, опять-таки удобства ради. Возьмите любой факт, продумайте его до самого бескомпромиссного конца, и в самом недолгом времени придёте к этому заключению как к единственному убежищу от какой-нибудь вполне осязаемой нелепости.
Но вернусь к моей повести. Дойдя до конца улицы и обернувшись, Эрнест увидел замызганную, мрачную стену своей печальной темницы, замыкавшую улицу с другого конца. С минуту он постоял в раздумье. «Вот там, – сказал он про себя, – меня окружали оковы, которые я мог видеть и осязать; здесь меня теснят другие, ничуть не менее реальные, – нищета и невежество мира сего. Там в мою задачу не входило попытаться сломать материальные оковы из железа и бежать из тюрьмы, но теперь, когда я свободен, я непременно должен стремиться сломать эти, другие».
Он где-то читал об узнике, который бежал из тюрьмы, перепилив свои нары железной ложкой. Он восхищался и дивился духу этого человека, но подражать ему не смог бы даже и пытаться; и вот теперь, перед лицом барьеров нематериальных, смирить его было уже не так легко, и он чувствовал, что даже будь его нары железными, а ложка деревянной, он рано или поздно найдёт способ перепилить железо деревом.
Он оставил за спиной Эйр-Стрит-Хилл и пошёл вдоль Лезер-Лейн в Холборн. Каждый новый шаг, каждое встреченное лицо, каждый знакомый предмет всё больше связывали его с прежней, до-тюремной жизнью, и в то же время напоминали, с какой бесповоротностью тюрьма разрезала его жизнь на две половинки, каждая из которых ничем не напоминала другую.
Он спустился по Феттер-Лейн на Флит-Стрит и по ней к Темплю[240]240
Темпль, здание лондонского общества адвокатов.
[Закрыть], куда я только что вернулся после летних каникул. Было около половины десятого; я как раз завтракал; услышав робкий стук в дверь, я открыл и обнаружил за нею Эрнеста.
Глава LXX
Он понравился мне уже в тот вечер, когда Таунли послал за мною, и на следующий день мне подумалось, как хорошо он сформировался. Понравился он мне и во время нашей с ним встречи в тюрьме, и мне захотелось почаще с ним видеться, чтобы составить о нём окончательное мнение. Я долго жил и знаю, что некоторые из тех, кто достигает великого, в юности не весьма мудры; зная, что он выйдет из тюрьмы тридцатого, я уже ожидал его, а поскольку у меня имелась гостевая спальня, я хотел, чтобы он пожил у меня, пока не решит, что делать дальше.
Будучи настолько старше его, я предполагал, что без труда добьюсь своего, но он и слушать не стал. Самое большее, на что он согласился, – это погостить у меня, пока не найдёт комнату, причём на её поиски отправится немедленно.
Он был всё ещё очень возбуждён, но за завтраком с домашней, не тюремной пищей и в уютной комнате понемногу успокоился. Я с удовольствием наблюдал, как он радуется всему, что видит: пламени в камине, креслам, утреннему «Таймсу», моему коту, красной герани на окнах, не говоря уже о кофе, хлебе с маслом, колбасе, варенье и прочем. Всё вокруг доставляло ему острейшее наслаждение. Платаны стояли ещё в листве, и он то и дело вскакивал из-за стола, чтобы полюбоваться ими; никогда прежде, говорил он, он не чувствовал, сколько наслаждения таится в этих простых вещах. Он ел, смотрел, смеялся и плакал в таком душевном волнении, которого я не в силах ни забыть, ни описать.
Он рассказал мне, как мать с отцом поджидали его в засаде, когда он выходил из тюрьмы. Я был вне себя от гнева и от души похвалил его за то, как он поступил. Он был очень мне благодарен за это. Другие, сказал он, стали бы внушать ему, что следует думать об отце и матери, а не о себе, и как утешительно найти человека, который видит так же, как и он. Если бы даже я думал иначе, мне бы не следовало ему этого говорить, но я был с ним одного мнения и почти настолько же признателен ему за единомыслие, насколько и он мне. При всей сердечности моей неприязни к Теобальду и Кристине я в этом своём отношении к ним составлял настолько безнадёжное меньшинство, что найти кого-то, со мною согласного, было уже радостно.
И вдруг наступил страшный для нас обоих момент. В дверь постучали; так стучится гость, а не почтальон.
– Мать честная! – воскликнул я. – Надо было создать видимость, будто никого нет дома. Это, наверное, твой отец. Но в такой ранний час? Быстро, в мою спальню.
Я открыл; конечно же, это были Теобальд с Кристиной. Не впустить их я не мог, и мне пришлось выслушать их версию случившегося, которая по сути совпадала с версией Эрнеста. Кристина горько плакала, Теобальд бушевал. Спустя примерно десять минут, в течение которых я уверял их, что не имею ни малейшего представления о том, где может находиться их сын, я проводил обоих до дверей. Я заметил их подозрительные взгляды на явные признаки того, что кто-то завтракал со мною; они ушли с видом довольно-таки вызывающим, но всё-таки ушли, и бедняга Эрнест вышел из спальни, бледный, испуганный и расстроенный. Он слышал голоса, но не разбирал слов, и отнюдь не был уверен, не берёт ли враг надо мной верх. Теперь уж мы заперли наружную дверь, и скоро он начал приходить в себя.
После завтрака мы обсудили ситуацию. Я уже забрал от миссис Джапп его одежду и книги, но оставил мебель, картины и пианино, разрешив ей ими пользоваться в качестве платы за хранение мебели – она могла сдавать комнату меблированной. Узнав, что его гардероб у меня, Эрнест достал костюм, который носил до своего рукоположения, и тут же переоделся, что, на мой взгляд, очень его украсило.
Дальше мы перешли к его финансовым делам. За день или два до своего ареста он получил от Прайера десять фунтов, из которых семь или восемь оставались в его кошельке, когда его сажали. По выходе ему эти деньги возвратили. За всё, что он покупал, он расплачивался сразу, так что долгов за ним не водилось. Кроме того, у него была одежда, книги и мебель. Он мог, как я говорил, получить 100 фунтов от отца, если бы решил эмигрировать, но и Эрнест, и я (ибо он убедил меня в своей правоте) сочли, что будет лучше от этого варианта отказаться. Вот и всё, что, насколько нам было известно, принадлежало ему.
Он сказал, что собирается снять пустой чердак в самом тихом доме, какой только сможет найти, скажем, за три-четыре шиллинга в неделю, и начать искать работу портного. Я считал маловажным, с чего он начнёт, потому что был вполне уверен, что в очень недолгом времени он найдёт что-нибудь для себя подходящее, если сможет хоть с чего-нибудь начать. Как раз начать-то и составляло сейчас главную трудность. Того, что он умел кроить и шить – имел, так сказать, органы портного – было мало: его надо было устроить в швейную мастерскую и найти кого-то, кто знал бы, как и чем ему помочь, кто наставлял бы его на первых порах.
Остаток дня он провёл в поисках комнаты, каковую скоро и нашёл, и в привыкании к свободе. Вечером я повёл его в Олимпик, где тогда играл Робсон в бурлеске по «Макбету»; миссис Кили, если я правильно помню, играла леди Макбет. Там в сцене убийства Макбет говорит, что не может убить Дункана после того, как увидел на лестничной площадке его сапоги. Леди Макбет кладёт конец колебаниям мужа, зажимая его голову подмышкой, шлёпая по мягким частям и выволакивая его, брыкающегося и вопящего, прочь со сцены. Эрнест смеялся до слёз.
– Что за гниль после этого ваш Шекспир, – воскликнул он непроизвольно. Я вспомнил его эссе о греческих трагиках и проникся к нему уважением его сильнее прежнего.
Назавтра он пустился на поиски работы, и я не видел его до пяти вечера, когда он вернулся и сказал, что не нашёл ничего. То же было и на второй день, и на третий. Куда бы он ни приходил, ему неизменно отказывали, а часто просто гнали прочь; я видел по выражению его лица, хотя он ничего не говорил, что он начинает тревожиться, и стал подумывать, что мне пора прийти к нему на выручку. Он рассказал, что побывал в огромном множестве мест, и везде слышал одно и то же. Оказалось, что придерживаться старой дорожки легко, а пробиваться на новую очень трудно.
На Лезер-Лейн он мимоходом, как бы из праздного любопытства и не выказывая никакой практической заинтересованности, поговорил с рыбным торговцем, когда покупал себе копчёную селёдку к чаю.
– Торговля? – сказал хозяин лавки. – Э, никто не поверит, сколько можно наторговать, ежели продавать помаленьку, на пенни да на два, ежели, конешно, знаешь, чего делаешь. Да вон, возьмите для примеру эти морские улитки. Прошлую субботу мы с моей малышкой Эммой вечером с восьми до полдвенадцатого продали этих улиток на 7 фунтов, и всё помалу, то на пенни, то на два, ну, может немножко на полпенни тоже, но немного. А всё почему? Из-за пару. Эт’ всё пар. Мы их всё парили и парили внизу, и как пар валил из подвала через решётку, так они всё покупали и покупали, а как не шёл, так ну никак. Ну, мы и парили их и парили, пока все не продали. Вот так вот оно и идёт; если знаешь своё дело – продашь, а не знаешь – так только напортачишь. Не, если б не пар, да я б на 10 шиллингов этих улиток за всю ночь не продал.
Наслушавшись ещё много житейской мудрости такого рода, Эрнест ещё более утвердился в намерении поставить на портняжное дело как на единственное ремесло, о котором он хоть что-нибудь знал. И, однако же, прошло три дня и четыре, а работы всё не было, как и в первый день.
Тогда я сделал то, что должен был бы сделать уже давно, именно же, зашёл к своему портному, который обшивал меня более четверти века, и спросил его совета. Он объявил замысел Эрнеста безнадёжным.
– Если бы, – сказал мистер Ларкинс, ибо именно так звали моего портного, – он начал в четырнадцать, тогда бы могло получиться, но в двадцать четыре человека нельзя заставлять работать в мастерской, где полно портных; он не сработается с ребятами, а они с ним; вряд ли можно ожидать от него, что он будет с ними на короткой ноге, дескать, «привет, мужики, как жисть», а от его товарищей – что он им понравится, коли не будет. Человеку надо сначала хорошенько опуститься, или по пьянству, или по естественной склонности к низменной компании, прежде чем он сможет ужиться с людьми, которые ему неровня.
Мистер Ларкинс говорил ещё очень много, а потом повёл меня посмотреть, где работают его собственные рабочие.
– И это ещё рай, – сказал он, – по сравнению с большинством мастерских. Какой джентльмен, по-вашему, мог бы две недели выдержать такой воздух?
Я поспешил прочь от этой душной, зловонной атмосферы. Мне стало ясно, что работой среди портных в пошивочной Эрнест и единого кирпичика своей тюрьмы не раскачает.
В заключение мистер Ларкинс сказал, что если бы даже мой протеже был работником куда лучше, чем этого можно от него ожидать, то всё равно ни один мастер не взял бы его на работу, боясь недовольства своих подмастерьев.
Я уходил от него с досадой на себя, что мог бы и сам всё это сообразить; я ещё крепче, чем прежде, призадумался – а не дать ли моему юному другу несколько тысяч да не отправить в колонии; и вдруг, вернувшись около пяти часов домой, обнаружил его там сияющего, с известием, что он нашёл всё, чего желал.
Глава LXXI
Выяснилось, что последние три-четыре дня он слонялся по улицам – ища, я полагаю, чем бы заняться, зная хотя бы, чего хочет, но не зная, как этого добиться. А между тем то, чего он хотел, на самом деле было найти так легко, что лишь такому высокообразованному учёному мужу, как он, могло это не удаться. Но, как бы то ни было, он давно уже был пуганой вороной и боялся каждого куста; он был подавлен и растерян, и с каждым днём мужество всё больше покидало его, и он каждый вечер возвращался ни с чем в свою конуру на Лейстол-Стрит. Он не откровенничал со мною о том, как он проводил эти вечера, а я не допытывался. Наконец, он заключил, что, как бы мучительно это для него ни было, он пойдёт к миссис Джапп: если, думал он, есть на свете кто-нибудь, кто может ему помочь, то только она. Он мрачно бродил вокруг да около от семи до девяти часов, а потом решился и направился прямо на Эшпит-Плейс, чтобы тут же сделать миссис Джапп своей, если можно так выразиться, духовницей.
Из всего того, что под силу смертной женщине, ничто не доставило бы миссис Джапп большего удовольствия, чем задача, которую вздумал взвалить на неё Эрнест; да и он, представляется мне, в своём перепуганном и надломленном состоянии, не мог бы придумать ничего лучшего, чем замыслил тогда. Миссис Джапп сделала бы так, что излить ей свои печали стало бы для него очень лёгко; более того, она выудила бы их из него прежде, чем он осознал бы, на каком он свете; но парки были против миссис Джапп, и встреча между моим героем и его бывшей квартирной хозяйкой была отложена sine die[241]241
На неопределённый срок (лат.).
[Закрыть], ибо едва только его решимость созрела и он направился к дому миссис Джапп, не успел он ещё пройти и сотни шагов, как вдруг на него натолкнулась какая-то прохожая.
Он уже отворачивался от неё, как отворачивался от очень многих, но тут какое-то её движение, когда она ступила в сторону и пошла прочь, привлекло его внимание. Он едва заметил её лицо и, гонимый решимостью его разглядеть, поспешил за нею и обогнал; обернувшись, он увидел, что это не кто иной, как Эллен, служанка, которую его мать выставила из дома восемь лет тому назад.
Ему бы надо было отнести нежелание Эллен его видеть на счёт истинной причины этого нежелания, но его нечистая совесть внушила ему, будто она прослышала о его позоре и теперь отвернулась от него с презрением. При всей решимости мужественно смотреть в глаза всему свету это было для него чересчур, и:
– Как! И ты сторонишься меня, Эллен? – вскричал он.
Девушка горько плакала и не понимала его.
– О, мастер Эрнест, – всхлипывала она, – оставьте меня; вы такой добрый, такой хороший, вам не к лицу разговаривать с такими, как я.
– Что ты несёшь, Эллен, – сказал он. – Не в тюрьме же ты сидела?
– Ох, нет-нет-нет, до этого всё же не дошло, – страстно воскликнула она.
– Ну а я сидел, – сказал Эрнест с натужным смешком. – Я только три-четыре дня как вышел – шесть месяцев принудительных работ.
Эллен ему не поверила, но уставилась на него, выдохнув «Господи помилуй, мастер Эрнест», причём её слёзы мгновенно высохли. Лёд между ними был сломлен, ибо в действительности Эллен в тюрьме таки сидела, и не раз, и хотя она Эрнесту не поверила, но само то, что он так сказал, сняло с неё напряжение. Все люди для неё делились на тех, кто сидел в тюрьме, и тех, кто не сидел. Первых она воспринимала как своих собратьев и более или менее христиан, ко вторым, за редким исключением, относилась с подозрением не без примеси презрения.
Эрнест рассказал ей обо всём случившимся за последние шесть месяцев, и мало-помалу она начала ему верить.
– Мастер Эрнест, – сказала она, когда они проговорили с четверть часа, – вон там, через дорогу, есть одно местечко, там подают требуху с луком. Вы же всегда любили требуху с луком, я помню, пойдёмте туда, поедим и поговорим спокойно.
И они пересекли улицу и вошли в заведение; Эрнест заказал ужин.
– Ну, а как ваша добрая милая матушка и ваш дорогой батюшка, мастер Эрнест? – Эллен уже оправилась и чувствовала себя с моим героем вполне в своей тарелке. – Ох-ох-хо, я любила вашего батюшку, да; вот был настоящий джентльмен, это точно, и ваша матушка тоже; с такой жить всякому было бы хорошо, тут и говорить нечего.
Удивлённый Эрнест не знал, что и сказать. Естественно было ожидать от Эллен негодования на то, как с ней поступили, и обвинений в адрес его отца с матерью за то, что она скатилась до своего нынешнего состояния. Но ничего этого не было и в помине. О Бэттерсби она вспоминала единственно только как о месте, где её щедро кормили и поили, не слишком обременяли работой и никогда не бранили. Услышав, что Эрнест поссорился с отцом и матерью, она, тоже вполне естественно, предположила, что виноват в этом только он.
– О, бедная, несчастная ваша матушка, – сказала она. – Она вас всегда так любила, мастер Эрнест, вы были её любимчиком; я и слышать не могу, что между вами что-нибудь такое. Как сейчас помню, как она меня звала к себе в столовую и учила закону Божьему, правда, правда, учила! Ой, мастер Эрнест, вам надо пойти к ней и помириться, нет, правда.
Эрнест опечалился, но он уже выстоял перед стольким, что лукавый мог бы поберечь силы и не беспокоить себя попытками допечь его по части отца с матерью через Эллен. Он сменил тему, и наша парочка занялась требухой с пивом, всё более проникаясь теплотой друг к другу. Из всех людей на свете с Эллен, пожалуй, он мог в настоящий момент держать себя наиболее свободно. Он рассказывал ей такое, чего не смог бы, казалось ему, рассказать никому другому.
– Так что, Эллен, – заключил он, – я в детстве научился многому, без чего можно спокойно обойтись, а к тому, что наставило бы меня на путь истинный, доступа не имел.
– Джентльмены, которые из благородных, они завсегда такие, – сказала задумчиво Эллен.
– Да, ты права, но я уже больше не джентльмен и не вижу, почему я должен быть «таким». Эллен, дорогая, я хочу, чтобы ты помогла мне как можно скорей стать каким-нибудь другим.
– Бог ты мой, мастер Эрнест, что же это вы такое имеете в виду?
Скоро они покинули харчевню и вместе пошли по Феттер-Лейн.
После Бэттерсби у Эллен были трудные времена, но на ней они почти не отразились. Эрнест видел только свежее, улыбающееся лицо, румяные щёки с ямочками, ясные голубые глаза и прелестные, запомнившиеся ему с детства губы, напоминавшие губы сфинкса. Тогда, в девятнадцать, она выглядела старше своих лет, теперь – гораздо моложе; собственно, она едва ли изменилась с тех пор, как Эрнест видел ей в последний раз, и лишь мужчина с гораздо большим, чем у него, жизненным опытом мог бы угадать, что она совершенно выпала из того слоя общества, к которому первоначально принадлежала. Ему и в голову не пришло, что невзрачность её одеяний была обусловлена её страстью к горячительным напиткам, а сама она провела в тюрьме, считая на круг, в пять или шесть раз больше времени, чем он. Он отнёс бедность её платья на счёт стремления блюсти себя, на что сама Эллен во время ужина не раз намекала. Его очаровало, как она долго отказывалась от пива, уверяя, что захмелеет от одной пинты[242]242
Ок. пол-литра.
[Закрыть], и лишь после долгих препинаний позволила ему себя уговорить. Она казалась ему сущим ангелом, слетевшим с небес, а что павшим – так тем легче с ним ладить.
Идя рядом с нею по Феттер-Лейн по направлению к Лейстол-Стрит, он думал о чудесной благости Бога, пославшего ему ту, которая была ему сейчас нужнее всех на свете и с которой одной из всей толпы он, несмотря на то, что она жила совсем рядом, мог никогда не столкнуться, разве что по счастливой случайности.
Когда люди забирают себе в голову, что удостаиваются особой благосклонности Всевышнего, им, как правило, надо держать ухо востро, а когда они думают, что с особой ясностью видят пассивность дьявола, пусть вспомнят, что у него опыта побольше, чем у них, и как раз сейчас он, скорее всего, замышляет свои козни.
За ужином мысль о том, что в Эллен он, может быть, нашёл, наконец, женщину, которую сможет любить настолько, чтобы желать с нею жить и на ней жениться, уже проносилась в его голове, а чем дольше они болтали, тем резоннее ему казалось, что пусть в обычном случае это и могло быть глупостью, но в его случае глупостью не было.
Он должен жениться; это вопрос решённый. Он не мог жениться на женщине благородного происхождения; это полная нелепость. Он должен жениться на бедной женщине. Да, но на падшей? А сам он кто, не падший? Эллен уже более не падёт. Стоит только посмотреть на неё, чтобы в этом убедиться. Он не может жить с ней в грехе, по крайней мере, не дольше кратчайшего срока до их женитьбы; в сверхъестественный элемент христианства он более не верит, но христианская мораль уж во всяком случае бесспорна. Кроме того, могут родиться дети, и на них останется пятно. У кого ему нужно теперь спрашивать совета, кроме как у самого себя? Отцу с матерью совершенно незачем об этом знать, а если и узнают, то должны радоваться, что он женится на такой женщине, как Эллен, которая составит его счастье. А то, что женитьба ему не по карману – как же бедные вообще женятся? Разве хорошая жена не должна помогать мужу? Где проживёт один, проживут и двое, а что Эллен его на каких-то три или четыре года старше, так что с того?
Случалось ли вам, благородный читатель, влюбляться с первого взгляда? Когда вы влюблялись с первого взгляда, сколько времени, позвольте спросить, вам было нужно, чтобы отбросить все соображения, кроме одного – овладеть предметом своей любви? Вернее сказать, сколько времени понадобилось бы вам, если бы у вас не было отца и матери, если бы вам нечего было терять в смысле денег, положения, друзей, продвижения по службе, чего угодно, а предмет вашей любви был бы столь же свободен от всего этого багажа, как и вы?
Если бы вы были юным Джоном Стюартом Миллом[243]243
Английский философ (1806–1873), поборник личной свободы индивидуума, в том числе равенства женщин.
[Закрыть], сколько-то времени вам бы понадобилось, но предположим, что у вас донкихотская натура, импульсивная, альтруистическая, бесхитростная; предположим далее, вы изголодавшийся мужчина, изнывающий по чему-то, что можно любить и на что опереться, по кому-то, чьё бремя вы сможете нести, и кто поможет вам нести ваше. Предположим, вам изменила удача, вы всё ещё не оправились от страшного удара, и вдруг перед вашими глазами возникает это чудное видение счастливого будущего – долго ли, скажите честно, будете вы раздумывать, прежде чем ухватитесь за подброшенный вам шанс, каким бы он ни был?
Мой герой раздумывал недолго, ибо, ещё не доходя мясной лавки в конце Феттер-Лейн, сказал Эллен, что она должна пойти к нему домой, и остаться, и жить с ним, пока они не поженятся, что произойдёт в ближайший же дозволенный законом день.
Я думаю, что на сей раз лукавый сыграл наверняка и теперь прыскал от удовольствия.








