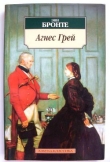Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Небесно-голубой взгляд Агнес, устремленный на меня, был задумчивым и печальным.
– Рассказать? – любезно спросил я.
Она только кивнула.
И вот я, испытывая все нарастающее отвращение к самому себе, стал рассказывать – сначала кратко изложил историю с Розеллой Хардкасл и Честером Бертоном, потом, во всех подробностях, описал все, что произошло дальше, вплоть до того момента, когда на следующее утро я вышел из своей комнаты и встретил мать, которая, внимательно поглядев на мое лицо, спросила, смотрелся ли я в зеркало, и заметила: «Поди посмотрись – перепугаешься. Ты как будто с медведем дрался, и медведь тебя победил».
Агнес все смотрела на меня не отрываясь. В какое-то мгновение мне показалось, будто она пытается что-то сказать: ее небесно-голубой взгляд затуманился легкой дымкой грустной нежности, и она провела языком по губам, но не произнесла ни слова.
– Как видишь, – сказал я в заключение, – в Дагтоне, штат Алабама, жизнь была совсем не такая, как в Рипли-Сити, штат Южная Дакота.
Уже задолго до этих слов я пытался оборвать свой рассказ, но не смог и дошел до конца. Потом сел рядом с Агнес, взял ее руки в свои, прижался к ним лицом и стал целовать. В первые минуты я не чувствовал ничего, кроме отвращения к самому себе, но потом у меня появилось ощущение какой-то тайной гордости. Агнес молчала. Через некоторое время она высвободила одну руку и положила ее мне на голову.
Несколько дней после этого я был с ней особенно нежен.
Таков был наш плавучий островок, отрезанный от всего мира; или, если вернуться к моему более раннему сравнению, клочок каменной осыпи, на которой обрел покой маленький камешек. Безмолвный грохот Великого Оползня пронесся мимо, и я был счастлив. До тех пор, пока не почувствовал, что несчастен.
Но когда я почувствовал, что несчастен, я так это не называл. Я ругал себя за то, что оказался недостоин собственного счастья. Самая очевидная неприятность заключалась в том, что моя диссертация стала вызывать у меня оскомину. Мне начало казаться, что она – всего лишь жульнический трюк, исполняемый идиотом в назидание дуракам, а может быть, наоборот. Я чувствовал себя породистым пуделем, который прыгает через обручи во второразрядном цирке, или лошадью, которая демонстрирует умение считать, когда ее незаметно колют булавкой. Если эта диссертация олицетворяет собой imperium intellectūs, то пусть такое царство интеллекта провалится в тартарары. Однако человек не может жить, не видя в своей жизни смысла, и я выдумал его: я превращу ее в сеанс фокусника. Если сами по себе такие фокусы, как моя диссертация, бессмысленны (а я предвидел, что мне предстоит, подобно Сизифу, целую вечность заниматься подобными жульническими трюками), то из этого можно, по крайней мере, извлечь некий побочный смысл, если посмеиваться про себя над теми, кто принимает все это всерьез, и к тому же получать за это деньги.
С большим хитроумием я принялся планировать свою будущую блестящую карьеру. Я понимал, что начало положено отличное – диссертация, в которой нет ни единой свежей мысли. На следующем этапе следовало расположить к себе моего научного руководителя доктора Эйлсбери Свицера, который когда-то, нахмурив изборожденный думами лоб, от великой (действительно великой!) учености предложил мне взяться за эту тему. В горячем стремлении к знаниям я изобретал замысловатые и совершенно идиотские вопросы (на которые он, как я выяснил, тщательно изучив его наименее известные статьи, мог ответить) и с озабоченным видом задавал их ему, извиняясь за то, что вынужден обращаться за помощью. Вскоре мне стало известно, что мой руководитель (а он всегда страстно ненавидел доктора Штальмана) все чаще отзывается обо мне как о весьма многообещающем (несмотря на прежние предосудительные отношения с доктором Штальманом) молодом ученом. Тогда я раскинул свои сети шире и с большой осторожностью применил ту же тактику к профессору истории средних веков, который был в то же время председателем факультетского ученого совета.
К этому времени я уже просто не мог выносить ни затхлого воздуха библиотеки, ни вида моих аккуратно сложенных карточек с заметками. После обеда я часто удирал из библиотеки в кино на какой-нибудь новый фильм – не важно, серьезный или несерьезный, даже лучше несерьезный. Однажды я чуть не попался: Агнес спросила, где я был во второй половине дня, а когда я ответил, что в библиотеке, сказала, что заглянула туда и меня не нашла. Пришлось соврать, что я ходил в центральное книгохранилище. При этом никакой вины я за собой не чувствовал: эта ложь выглядела скорее неотъемлемой частью того таинственного, подспудного, пока еще туманного естественного процесса, что только начинал набирать силу.
Теперь я настолько осмелел, что начал рядом с обычной вечерней бутылкой хереса ставить бутылку виски. В первый раз это (как и во время нашего медового месяца) вызвало удивленный взгляд, но никакой словесной реакции. Впрочем, я заметил, что и на наших маленьких вечеринках кое-кто из любителей хереса стал отдавать явное предпочтение чему-нибудь покрепче, хотя и сохраняя прежнюю приверженность к Баху и Куперену. Этим они отличались от меня: чем больше я прихлебывал виски, тем меньше интересовал меня Бах, и я отчетливо помню, как однажды, когда все пребывали на вершине экстаза, вызванного соло на флейте из Бранденбургского концерта номер 5, я, повинуясь зову природы, ускользнул в уборную, где долго разглядывал свое раскрасневшееся лицо в зеркале, громко спрашивая себя – какого дьявола, что старине Кривоносу Бах и что он Гекубе? Мне это показалось отличной шуткой.
Больше того, по утрам в воскресенье я все чаще стал плохо себя чувствовать (иногда – с полным основанием, потому что воскресное утро следует за субботним вечером) и поэтому не мог ходить с Агнес в церковь. В конце концов я чистосердечно сознался и сказал, что она, конечно же, не хочет, чтобы я погряз в лицемерии, и если другие могут, по разным причинам и из разных соображений, которые я уважаю, но не понимаю, идти наперекор всей интеллектуальной истории западного мира начиная с эпохи Возрождения, то я на это, ей-Богу, неспособен. После этого она ходила в церковь одна. По крайней мере первое время. Но понемногу и ее посещения церкви становились все реже, а потом и совсем прекратились.
Раз уж зашла речь о воскресеньях, я с неприятным чувством вспоминаю одно из них, когда что-то изменилось. В тот день после обеда – на улице было слишком дождливо и ветрено, чтобы идти гулять, и ни в одном из близлежащих кинотеатров не предвиделось фильма, который можно было бы назвать серьезным, – меня охватило холодное вожделение, смешанное со скукой, недовольством жизнью и самим собой, и я как зверь кинулся на Агнес, махнув рукой на рассыпавшиеся по полу карточки три на пять дюймов со своими заметками. Она некоторое время сопротивлялась, правда, только на словах, но в конце концов, стиснув зубы, покорилась – могу добавить, что лишь в самом буквальном, а не духовном смысле. Эта победа, одержанная на кушетке в гостиной (жесткой и неудобной), причем с жертвы были сорваны только те предметы одежды, которые непосредственно мешали делу, а мои брюки болтались где-то в районе щиколоток, оказалась сугубо пирровой. Во всяком случае, это не было то нежное интимное слияние, которое я когда-то себе представлял.
В ту зиму – вторую зиму нашего брака – я еще несколько раз нарушал график, и всегда с тем же результатом. В конце концов я решил, что оно того не стоит. К тому же Агнес стала жаловаться, что плохо себя чувствует.
Дело было действительно скверно. Диагноз гласил: рак матки.
Несколько дней после того, как нам сообщили диагноз, и до того, как ее положили в больницу, мы по-прежнему спали вместе. В первую ночь я проснулся около трех часов и заметил, что она лежит, глядя в потолок. Я нащупал ее руку и взял в свою. Потом в темноте послышался голос, совершенно спокойный и совсем непохожий на ее обычный голос, – как будто говорил маленький ребенок.
– Они сказали, что это растет у меня внутри, – произнес голос.
Она выдернула у меня руку и вдруг села в кровати. Я попытался обнять ее, но она меня оттолкнула. Я выскользнул из-под одеяла, обошел кровать, зажег ночник с ее стороны, пододвинул табуретку и сел.
Она сидела очень прямо и медленно, осторожно водила руками вверх и вниз по груди и животу, словно ощупывая себя. Потом подняла голову и сказала:
– Но там ведь ничего нет. Ну, кроме того, что там должно быть, – добавила она со своей обычной скрупулезностью.
Ее руки продолжали медленно, ласково гладить ее тело, скользя по шелковистой ткани ночной рубашки. Я нагнулся и перехватил их. Я не мог этого видеть.
– Дорогая моя, – сказал я как можно нежнее, и горло мое сжалось от боли. – По-видимому, там действительно что-то есть. Но только… – Я постарался улыбнуться. – Но только это не так уж важно. Все врачи говорят, что это не слишком серьезно. Они это удалят. И тогда ты…
– Но там ведь ничего нет, – с уверенностью сказала она. – Там ничего не может быть. Откуда оно могло там появиться?
Она умолкла, а потом, неожиданно взглянув мне прямо в лицо, произнесла совсем другим тоном – удивленным шепотом, как будто это только что пришло ей в голову:
– Разве что это ты…
Она резким движением выдернула у меня свои руки.
– Разве что… – Потом, после паузы: – Разве что ты туда это…
Она снова умолкла.
Она уже не смотрела мне в лицо. Я сидел в пижаме на табуретке, подавшись вперед и опираясь руками на широко расставленные колени, а она не сводила глаз с бесформенного комка моих гениталий, дремавших под легкой тканью.
Продолжать она не могла. Она вдруг закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись от рыданий. Я попытался погладить ее по спине. Сам я не чувствовал ничего. Мой мозг наотрез отказывался что-то понять, как будто ища спасения в минутном отупении. Я знал только одно, как тогда, давным-давно, в такси, – что надо как-то прекратить эти рыдания. И я все гладил и гладил ее по спине.
Она закусила нижнюю губу, чтобы успокоиться, и посмотрела на меня с трогательной мольбой во взгляде.
– Ну, скажи мне, что я еще не совсем сумасшедшая, – взмолилась она. – Скажи мне, что я сошла с ума только на секунду, когда это подумала. Скажи мне, что я не схожу с ума по-настоящему.
Я пересел на край кровати и обнял ее. Долго сидел я так, и в конце концов ее голова опустилась на мое плечо. Напряжение понемногу покидало ее тело. Она так и заснула, и я бережно уложил ее.
Проснувшись на следующее утро, Агнес была совершенно спокойна. И до того дня, когда ее положили в больницу, оставалась столь же спокойной, время от времени улыбалась и безмятежно болтала со мной о всяких мелочах. Накануне вечером она попросила меня сесть рядом с кроватью и стала говорить, что любит меня. Что понимает меня теперь намного лучше. Что совсем не боится. Что мы еще поживем в свое удовольствие – в точности так, как и планировали.
Через некоторое время я сказал, что мне надо в уборную.
Мне было необходимо в уборную. Там можно было плакать.
После операции врачи предупредили меня, что не следует питать чрезмерного оптимизма.
Я просидел у постели Агнес, пока меня не прогнали. Потом я пошел домой. Какой-то незнакомой показалась мне наша квартира, когда я вошел, – у меня появилось чувство, будто я ошибся дверью. А может быть, все двери во всем мире одинаковы. Войди в любую дверь – то, что ты там найдешь, будет тебе и незнакомо, и знакомо, и суждено всем всегда одно и то же. Посмотри в зеркало – и удивись, чье бы лицо ты в нем ни увидел.
Я выпил большой стакан виски и улегся в постель. В постель, которая была мне привычна и в тоже время незнакома. В темноте я стал ощупывать свое тело, как это делала она. Я думал о том, какая истина таится там, в темных, пульсирующих внутренностях, из которых состоит тело. Тело есть тело, думал я. Как глупо, как нелепо давать тому или иному телу собственное имя.
Заснуть я не мог. Я встал, подошел к столу и раскрыл свою дурацкую диссертацию. Но мои глаза не видели слов. У меня было ощущение, будто я замурован со всех сторон. Будто этот стол был моей последней надеждой, последним путем, ведущим на волю, но теперь его преградила свежая каменная кладка. Будто меня предали.
Я почувствовал, что меня вот-вот вырвет.
Через некоторое время я протянул руку и, преодолевая мучительные сомнения, положил перед собой лист бумаги. Я уставился на этот пустой белый лист. Клянусь, что в голове у меня была такая же пустота. Я с удивлением увидел, что моя правая рука взяла ручку и начала писать. Каждая буква, появлявшаяся на белой бумаге, казалась мне каким-то таинственным явлением, каждое слово – чудом, которое совершается само собой. Я с острым интересом смотрел, во что сложатся эти слова. Они выстроились строчкой наверху листа. Все буквы в них были прописными. Когда написались все слова, моя рука подчеркнула их ровной жирной чертой. На листе бумаги стояло:
«ДАНТЕ И МЕТАФИЗИКА СМЕРТИ».
Рука писала и писала до четырех часов утра.
Агнес быстро оправлялась после операции и была бодра и весела. Когда я сидел у ее кровати, она говорила о том, как исполнятся все наши мечты. После этих разговоров я всегда возвращался в нашу квартиру, моя рука брала ручку, и та начинала свое медленное, часто прерывавшееся, но неумолимое путешествие по бумаге.
Я думал об Агнес, оставшейся в темноте больничной палаты, и о том, чем заняты ее мысли, когда она лежит и смотрит в потолок. А ручка продолжала свое тайное путешествие, о котором Агнес даже не догадывалась.
Потом Агнес вернулась домой. Первым, о чем она попросила, были ее черновики, что-нибудь, на чем можно писать, и ручка. Сидя в кровати в своих роговых очках, с нахмуренным лбом, она работала больше часа. Неделю спустя она могла работать уже по нескольку часов в день. По ее словам, у нее появились кое-какие замечательные новые идеи. И почти каждый день она писала по длинному письму отцу (у ее матери недавно случился удар, и она теперь ни на что не реагировала), сообщала ему, как себя чувствует, и просила о ней не беспокоиться.
Что касается домашних дел, то она настояла на том, чтобы самой готовить еду, хотя и я многому по этой части научился, пока жил один. Иногда вечерами к нам приходили гости, чтобы выпить хересу и послушать Моцарта, Баха и Вивальди, и Агнес держалась так оживленно и весело, как никогда раньше, – у нее даже стало проявляться восхитительное робкое остроумие, которому эта робость придавала особое очарование. Теперь гости всегда уходили рано. В те вечера, когда мы были одни, я убирал посуду, а потом Агнес сидела у меня на коленях, в точности как тогда, когда я за ней ухаживал, и мы говорили о будущем. С каждым днем сил у нее прибавлялось.
А потом она начала слабеть.
За все это время я ни разу не говорил Агнес, что находится в запертом портфеле на самой верхней и самой темной полке в чулане, примыкавшем к моему кабинету. Но по ночам, когда Агнес крепко засыпала (с помощью легкого снотворного, которое ей прописали), я, чувствуя себя виноватым, запирался в кабинете, и моя рука, освещенная лампой с зеленым абажуром, бралась за ручку, которая через некоторое время начинала двигаться по бумаге.
Бывало, что только перед рассветом я снова укладывал все в портфель, клал его на темную верхнюю полку, переодевался в пижаму и как можно тише прокрадывался к старой армейской раскладушке, стоявшей почти вплотную к кровати Агнес, чтобы она могла дотянуться до моей руки, когда будет просыпаться. Я всегда ложился не позже четырех часов, потому что именно в это время она просыпалась и начинала нащупывать мою руку.
Потом ее снова положили в больницу. Она сказала только:
– Ох, сколько забот я тебе доставляю, мой глупый милый косорылый ангел.
Это было сказано как раз перед тем, как санитары переложили ее с кровати на носилки. Они стояли рядом и слышали, как она это сказала.
Впрочем, я думаю, что они много чего слыхали на своей работе.
То, что она это сказала, было совсем на нее не похоже. Я никогда бы не поверил, что она способна употребить такое грубое слово – «косорылый». Она бы скорее умерла. Но она так выразилась и не умерла. Пока еще не умерла.
Я пошел за носилками. Голова у меня как будто плыла по воздуху, пальцы онемели и словно раздулись, как презервативы, если их надуть наподобие воздушных шариков, – такое сравнение почему-то пришло мне в голову.
Теперь моя жизнь с механической правильностью вращалась между двумя полюсами – больничной койкой, где лежала Агнес, и освещенным пространством под лампой с зеленым абажуром, где ручка могла начать свое движение по белой бумаге. Так сказать, между лабораторными наблюдениями и теоретическим исследованием смерти. В лаборатории я собирал фактические данные о том, как процесс умирания влияет на прошлые и настоящие отношения между Агнес Андресен и Джедайей Тьюксбери. А в ходе теоретического исследования я развивал мысль, что для Данте смерть определяет смысл жизни, что, в сущности, на этом тезисе и построена вся драма, лежащая в основе «Божественной комедии».
Конечно, такая двойственная роль создавала для меня немалые трудности. С одной стороны, в лаборатории вся ценность моей работы, по необходимости затрагивающей и Агнес, и меня, зависела от достоверности получаемых данных, а это означало, разумеется, определенную зависимость от степени искренности нас обоих, от истинности наших показаний. Что касается Агнес, то здесь, как я знал, никаких проблем не было, но со мной дело обстояло иначе. Естественно, сам факт неискренности тоже можно было бы отнести к числу фактических данных, но для того, чтобы доказать неискренность, нужно было иметь точку отсчета – некую норму искренности. Ситуацию осложняло еще и то, что Джедайя Тьюксбери как исследователь занимался изучением Джедайи Тьюксбери как объекта исследования. Какое, например, влияние может оказывать на душевные муки и слезы Дж. Т. как объекта исследования сознание того, что он находится под постоянным наблюдением Дж. Т. как исследователя? Сидя у ее кровати, я стремился к чистоте ощущений, к осмыслению своих переживаний, но в те минуты, когда эти переживания переполняли мое сердце, я ловил себя на мысли: а не побуждает ли меня само это стремление к самообману? Или даже не заставляет ли меня сознание того, что я нахожусь под наблюдением, разыгрывать желаемую роль?
А потом в эту сложную ситуацию вмешался еще один фактор.
Однажды вечером, когда я, придя в больницу, подошел к справочному окну, чтобы получить пропуск в палату, дежурная сказала мне, что сейчас у моей жены находятся врачи и мне надо подождать. Я сел и погрузился в размышления. Через некоторое время я очнулся, услышав чей-то голос, который произнес:
– Мистер Тьюксбери?
Удивленно подняв глаза, я увидел мужчину лет тридцати, одетого так, как обычно одеваются люди, занимающиеся науками, – фланелевые брюки, коричневый твидовый пиджак с кожаными налокотниками, голубая рубашка с пристегивающимся воротничком, на которой не хватало одной пуговицы, черный вязаный галстук с узлом, съехавшим на сторону, и все это заметно поношенное. Что до лица над этой униформой, то оно было того типа, какой часто с ней сочетается, – довольно приятное, худое, нервное, с чувствительным ртом, неопределенной формы носом, большими, темными и влажными глазами (которые какая-нибудь впечатлительная девушка могла бы назвать «поэтическими») и растрепанными темными волосами. Этот молодой человек неуверенно протягивал мне руку.
– Меня зовут Перри Джералд, – сказал он. – Может быть… Может быть, Агнес…
– Здравствуйте, мистер Джералд, – машинально отозвался я.
Он убрал руку, украдкой взглянув на нее так, словно она только что отважилась на некий сомнительный и опасный поступок, и уставился на меня своими влажными глазами.
– Я по поводу… – Он провел языком по губам. – По поводу Агнес.
Мне было нечего ответить.
– Вы про меня знаете? – спросил он, и в голосе его прозвучало отчаяние.
– Кое-что, – сказал я. – Наверное, достаточно.
– Она… Она для меня очень много значила, – сказал он.
Я молча ждал.
– Я хочу сказать… Можно мне ее повидать?
В общем, я разрешил ему пройти к ней со мной. Больше того, какой-то темный уголок моей души даже обрадовался его появлению. Впоследствии мне пришло в голову, что это разрешение было продиктовано подсознательным расчетом на то, что в ходе лабораторных наблюдений, которые я вел в больничной палате, Перри станет чем-то вроде контроля при изучении Дж. Т. как объекта исследования. В лифте я украдкой рассматривал его приятное лицо с глазами, нетерпеливо устремленными на светящееся табло, где сменялись цифры этажей, и думал, что скоро, очень скоро он, с его романтической мечтой о последнем свидании, трогательном и нежном, испытает шок от столкновения с реальностью. Я давно уже жил в состоянии такого шока и знал, что его ждет.
Дело в том, что при этой болезни, на этой ее стадии, лицо больного быстро меняется, и не в лучшую сторону. Каждый день видишь новое лицо, и каждый раз приходится заново свыкаться с мыслью о том, что это лицо твоей возлюбленной. И вследствие этого каждый день при виде этого нового лица меняется твое собственное «я», и с этим тоже каждый раз приходится заново свыкаться. Можно сказать, что примерно то же самое получится, если прокрутить с большой скоростью фильм о том, как живут вместе, постепенно старея, двое любящих людей. Но тут есть два важных отличия. Во-первых, при естественном старении у вас есть время день за днем привыкать к изменениям, которые вы видите, и прежний образ возлюбленной, который когда-то был для вас нормой, понемногу стирается в вашей памяти. А во-вторых, при естественном ходе событий вы сами дряхлеете с точно такой же скоростью, и это исподволь помогает вам усваивать все новые, не столь строгие нормы. Ничего этого не происходит, когда один из любящих лишь медленно ветшает со временем, а другой разрушается с ужасающей скоростью.
Я ждал той минуты, когда малыш Перри испытает шок от столкновения с реальностью.
Когда это случилось, Перри чуть не сломался. Но он оказался более стойким, чем я думал. Овладев собой, он подошел к кровати, взял руку больной и поцеловал ее. Потом на мгновение прижался к ней щекой. Не произнеся ни слова, он отошел к ногам кровати и сел там на стул.
Я сел на другой стул, стоявший рядом с кроватью, и взял Агнес за руку. За все время нашего посещения было сказано очень немного слов. Агнес была теперь слишком слаба и одурманена лекарствами, чтобы много разговаривать. Поэтому все отведенное нам время мы трое провели в молчании, предаваясь каждый собственным мыслям. Перри минут по десять не отрываясь смотрел на руку Агнес, лежавшую в моей руке. А я размышлял о том, кто из нас троих кому должен завидовать.
Нам предстояло провести так не один вечер. Иногда я даже выдумывал какой-нибудь предлог, чтобы уйти пораньше, возвращался к себе в кабинет и брался за ручку. Я не раз задумывался о том, садится ли Перри в таких случаях на мое место у кровати, чтобы держать Агнес за руку. В конце концов я решил, что нет: ему должны были доставлять больше удовольствия чисто абстрактные эмоции, не запятнанные вульгарным прикосновением.
Однажды вечером, всего за несколько недель до смерти Агнес, когда мы с Перри сидели на своих привычных местах, в дверь постучали, и сестра впустила какого-то пожилого человека. Он представился как старый друг Олафа Андресена, с которым вместе учился в семинарии. Олаф, как он сказал, написал ему, что врач не разрешил ему даже съездить навестить больную дочь и что он, Олаф, просит его поехать в Чикаго (он жил в северной части Висконсина) и помолиться вместе с ней. И вот он приехал, чтобы выполнить волю старого друга.
Агнес, хотя и одурманенная лекарствами, все поняла, и он встал на колени возле кровати. Это навело меня на кое-какие воспоминания, и я, решив, что для меня это будет слишком, тихо вышел в коридор.
Я подождал столько времени, сколько, по моим расчетам, требовалось, и так же тихо вошел в палату. Старый друг как раз с трудом поднимался с колен, и было ясно, что Перри по другую сторону кровати тоже только что стоял на коленях. Я заметил за ширмой сестру, глаза у нее были красные.
Я поблагодарил старого друга, он благословил меня и распрощался. Я снова сел у кровати, взял Агнес за руку и сказал ей, что был рад его приходу. Она медленно, с трудом выговорила:
– Я не стала возражать. Ради отца. Но ты, Джед… Ты-то знаешь…
Она умолкла. Видно было, что говорить ей трудно и она устала.
Через некоторое время я спросил:
– Что я знаю, дорогая?
Она слегка сжала мою руку:
– Ты был прав.
Она говорила очень медленно.
– Нет никакого…
Она снова умолкла, потом, едва шевеля губами, произнесла:
– Нет никакого Бога.
– Но, дорогая моя… – начал я и услышал в собственном голосе нотку тревоги.
Она сильнее стиснула мою руку – я не думал, что у нее еще осталось столько сил.
– Тс-с, – сказала она. – Тс-с.
И я замолчал. Собственно говоря, сказать мне было нечего.
Мне показалось, что малыш Перри вот-вот разразится слезами. Он встал и вышел из палаты.
Когда Агнес умирала, я все время напоминал себе, что эти судорожные движения, эти попытки вслепую нащупать рукой, теперь высохшей, как голая кость, висящую над кроватью веревку, чтобы приподняться, эти стоны и гортанные звуки, исходившие из сведенного гримасой рта, – не больше чем механические реакции, вроде подергивания отрезанной лягушачьей лапки, когда через нее пропускали ток, в биологическом кабинете дагтонской школы. «Агнес Андресен-Тьюксбери практически уже мертва», – говорил я себе.
Но Перри как будто не очень удавалось себя в этом убедить. Он все жался ко мне, а я все отстранялся.
– Не верю, – снова и снова повторял он хриплым шепотом.
– Чему вы не верите? – спросил я в конце концов, даже не глядя на него.
– Тому, что сказал врач. Что она ничего не чувствует. Знаете, что я думаю? – Он повернулся ко мне и схватил меня за руку, больно стиснув ее своими тонкими пальцами, чтобы я не мог отстраниться. Его бледное лицо было обращено ко мне, на висках выступил пот, поэтические глаза были полны слез. – Боль просто ушла вглубь, она там, внутри нее, где уже не действуют лекарства, вот почему снаружи кажется, что она без сознания, но там, внутри… Ох, как она страдает! Вы же видите!.. Вы видите!..
– Господи Боже, – перебил я, не взглянув на него, не сводя глаз с кровати. – Неужели не понятно, что я хочу остаться один? Неужели вы не можете убраться к дьяволу?
Он убрался к дьяволу.
Это продолжалось еще сорок пять минут. Задолго до конца я поцеловал ее в лоб. Лоб был холодный, как лед, и мокрый от пота, и мне показалось, что пот был на вкус не соленый, а едкий.
Потом из-за своей ширмы появилась сестра и накрыла простыней искаженное лицо, на котором глаза, голубые, как ледники, все еще смотрели с немым укором.
Пришел врач и положил руку мне на плечо.
Когда я вышел из палаты, мне послышались чьи-то торопливые шаги за поворотом коридора. На улице рядом со мной, словно по волшебству, снова появился Перри. Он вопросительно посмотрел на меня.
– Да, – сказал я.
Я шагал по пустынной улице (было около трех часов майской ночи, и воздух, несмотря на автомобильные выхлопы, был свежий), а он шел рядом со мной, но на расстоянии вытянутой руки. Через некоторое время он сказал:
– Я никогда ее не забуду.
Я не отвечал и даже не посмотрел на него, а продолжал идти.
– Я чуть не умер, когда она дала мне отставку, – сказал он. – Я знал, что недостоин ее, она была такая тонкая натура, такая умница.
Я все шел дальше.
– Ей нужен был кто-то, с кого она могла брать пример. Вы были любимым учеником доктора Штальмана. Все думали, что у вас большое будущее.
Я все шел дальше.
– Вы меня даже не слушаете, – сказал он.
– Да, не слушаю, – ответил я.
– Так вот слушайте, – сказал он и остановился.
Я не остановился. Ему пришлось пробежать несколько шагов, чтобы догнать меня.
– Может быть, вы и будете большим ученым, – сказал он, – но вы так и не стали достойным ее, вы даже неспособны ее оценить. Я никогда не буду большим ученым, я знаю это, но зато я знал, как надо ее любить. А вы…
Я остановился и посмотрел на него. Но он продолжал:
– Вы не знали, как надо ее любить. И думаю, что и знать не могли.
Я все еще смотрел на него, ожидая, что он еще скажет.
В конце концов я тихо произнес:
– Послушай, ты, недоделанный неоплатоник! Уйди, и чтобы я тебя больше не видел.
В ту ночь, когда умерла Агнес, я, вернувшись домой, сел за стол. Через некоторое время ручка начала двигаться по бумаге. Я немного плакал, но она все двигалась.
Агнес похоронили на принадлежащем их семье участке кладбища в Рипли-Сити. У ее отца хватило сил отслужить заупокойную службу – голос у него был слабый и надтреснутый, но ни разу не прервался. Потом он стоял у могилы, когда ее засыпали землей. На кладбище снова собрался весь город – люди молча стояли под палящим солнцем. После того как на могилу был брошен последний ком земли, они стали по очереди подходить, чтобы пожать мне руку. Один, наполовину парализованный и трясущийся от старости, – до этого он сказал мне, что тридцать лет был директором здешней школы, – держа меня за руку, долго говорил о том, какая способная была крошка Агги – самая способная из всех, кто вырос в Рипли-Сити.
В тот вечер мы с отцом Агнес сидели в маленьком ритуальном зале церкви. Он сказал, что они – вся семья – впали в грех гордыни. В своей гордыне они забыли о благодарности Тому, кто сделал им такой прекрасный подарок. Но какая она была милая, какая умная! В два года она каждый вечер после ужина сидела у него на коленях и по буквам читала слова в книжке с картинками – даже такие длинные, как «гиппопотам».
Он сидел расставив руки, словно обнимая невидимого ребенка у себя на коленях, улыбаясь уголками рта, и его поблекшие глаза вдруг снова стали пронзительно-небесного цвета. Глядя на него, я вспомнил, как в тот раз, когда мы приехали сюда, чтобы пожениться, все братья, кузины, дядья и тетки не отходили от Агнес, ловя каждое ее слово и не сводя с нее глаз, а она тихо сияла, словно цветок, слишком долго томившийся в комнате и наконец вынесенный на солнце.
– Мы все с самого начала знали, – говорил ее отец, – что она слишком хороша для Рипли-Сити. Она должна была жить в большом мире. Она должна была стать гордостью Рипли-Сити. Когда она уезжала в колледж, очень многие пришли на станцию, чтобы помахать ей на прощанье. Но это не заставило ее возгордиться, – добавил он. – Ей ничто не шло во вред.
И тут я едва удержался, чтобы не выпалить: «Нет, шло! Я же на ней женился!»