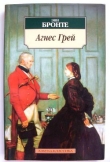Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
– Думаю, я мог бы объяснить тебе почему, – заметил я. – По крайней мере, частично.
– Я и так знаю, – сказала она. Потом, через секунду: – А что ты тогда делал?
– Ты уверена, что хочешь это знать?
– Да.
– Ну, если ты вправду хочешь…
И я рассказал ей все. В подробностях.
– О, это было, наверное, просто замечательно, – сказала она в конце концов. – Но только… – Тут она, впервые за все время, пока я говорил, взглянула мне прямо в лицо. – Ты всегда развлекаешь девушек – то есть белых девушек – рассказами о том, как любишь трахаться с черномазыми? Ах да, я забыла. Ведь ты же настоящий южанин из доброго старого времени, вам всем это должно нравиться, да?
Она вдруг остановилась, схватила меня за руку и подвела к какому-то молодому человеку, который разговаривал с худенькой темноволосой девушкой.
– Послушай, – сказала Розелла девушке, – будь так любезна, потанцуй с этим старым бродягой, он тебе расскажет про то, как увеселялся в юности. – Потом повернулась ко мне: – Ведь правда, дорогой? Но вы и помимо этого найдете о чем поговорить. Мария – самая умная девушка во всем штате Теннесси, она кончила колледж с отличием, и танцует лучше всех, и…
– Тс-с-с! – прервала ее самая умная девушка во всем штате Теннесси. – А у Розы самый льстивый язычок во всем штате Теннесси. Но… – Она обняла Розеллу и слегка прижала к себе. – Мы все ее за это любим, у нее это получается так убедительно!
Мы пошли танцевать с этой Марией, и ей пришлось использовать все свое только что разрекламированное умение, чтобы по возможности облегчить жизнь мне, бедному, – неуклюжему увальню в парадных темно-синих брюках, в которых мне было ужасно жарко, и черных туфлях, которые мне жали. При этом она с большим воодушевлением, которое скоро начало казаться мне немного напускным, говорила мне всякие приятные и любезные слова. Но она не могла не заметить, что все это время я искал глазами Розеллу и в конце концов обнаружил ее сидящей на подушке рядом со стулом какой-то женщины постарше, лет под пятьдесят, но еще очень интересной и оживленной.
– Да, посмотрите-ка на Розу, – сказала Мария. – Она всегда проявляет ко всем такой интерес. Подлинный, искренний интерес.
И я действительно видел, что Розелла – то есть Роза, – подавшись вперед, увлеченно слушает ту женщину постарше.
– Хотя слушать миссис Джонс-Толбот можно и не только из вежливости, – говорила в это время Мария. – Она обворожительна, она просто прелесть. Это тетка Лоуфорда, и она…
В это мгновение оглушительно протрубил охотничий рог, в комнате наступила тишина, и Лоуфорд Каррингтон объявил, что если кто-нибудь из тех, кто, как он сам, играл в теннис здесь или катался верхом у миссис Джонс-Толбот, хочет освежиться в бассейне, то лучше сделать это прямо сейчас, потому что вот-вот будет ужин.
– Пойдемте, – сказала Мария. – Я сыграла два сета и не откажусь.
Я сказал, что у меня нет с собой плавок, но она посоветовала заглянуть в купальню – там этого добра всегда полно.
Вся компания еще смеялась и шутила, стоя у бассейна, а я поскорее натянул плавки и поплыл. Бассейн был большой, олимпийского размера, а я чувствовал себя отяжелевшим и неповоротливым, потому что все лето не тренировался и много выпил, и уже на первой прямой стал задыхаться. Но я упорно плыл дальше – мне почему-то хотелось побыть одному хотя бы несколько минут. Время от времени до меня доносились смех и плеск воды, а на соседней дорожке кто-то то и дело обгонял меня с такой же презрительной легкостью, с какой прогулочная яхта обгоняет угольную баржу.
В конце концов я совсем запыхался и перевернулся на спину. Вставала полная луна, и вокруг нее по синему ночному небу расплывалось слабое розоватое свечение, на фоне которого видны были черные силуэты окрестных холмов. Я лежал на спине неподвижно, пытаясь забыть, где я, почему я здесь, пытаясь забыть все на свете. Через некоторое время, услышав, что голоса удаляются в сторону конюшни, я, все еще на спине, поплыл обратно.
Когда я подплыл к концу бассейна, пловец с соседней дорожки, сделав мощный последний гребок, направлялся к лесенке. Он отстранился, пропуская меня вперед. Это был Лоуфорд Каррингтон. Стоя на кафельных плитках, он по-мальчишески встряхнул головой, чтобы откинуть со лба мокрые волосы.
– Вы отличный пловец, – сказал я ему.
Он улыбнулся мне широкой, заразительной мальчишеской улыбкой, которая выглядела бы ухмылкой, если бы он не был так чертовски прекрасен, на античный манер – его безупречное мускулистое тело светилось в лунном свете, словно мраморное.
– Что вы, – сказал он. – Просто занимался плаванием в колледже. – Он снова улыбнулся. – Очень способствует аппетиту, верно?
Я согласился.
Кадворты отвезли меня обратно в город, и, когда мы прощались, Кад стал уговаривать меня в следующее воскресенье приехать к ним на ферму кататься верхом – «помочь проездить лошадей», как он сказал, а когда я признался, что даже на игрушечную лошадку никогда не садился (это было истинной правдой: в заведении, что в округе Клаксфорд называлось детским садом, ни о чем подобном и не слыхали), он сказал, что у него есть одна кобылка, такая смирная и умная, что на ней я научусь ездить за полдня, и я согласился. Отъезжая от тротуара, они в один голос прокричали мне что-то неразборчивое, но веселое.
Я стоял, глядя, как исчезает за углом потрепанный комби, и почему-то испытывая удовольствие от того, что он такой потрепанный. Потом окинул взглядом пустынную в это время улицу и посмотрел на небо, где уже высоко стояла луна. Когда я поднялся к себе в номер, он вдруг показался мне, при свете потолочной лампы, еще непригляднее и теснее, чем обычно.
Впрочем, сказал я себе, бывало и похуже.
Раздеваясь, вешая брюки от моего парадного темно-синего костюма и льняной пиджак, которому обработка паром в ванной не слишком помогла, я перебирал в памяти все, что произошло за этот вечер. Конюшню – собственно говоря, мастерскую скульптора – я запомнил во всех подробностях. Я помнил, как необычно она была освещена, когда я там в первый раз пошел танцевать, – мягкий свет ламп, глубокие тени в обоих концах вытянутой в длину комнаты с высоким потолком, зарево багрового заката в небе и отблески его в ручье, протекавшем внизу, перед домом, в тенистой ложбине. Я помнил, как, когда я танцевал с девушкой по имени Мария, на огромное окно в западной стене, словно в театре, опустился занавес, приводимый в движение каким-то бесшумным механизмом, и лампы в комнате вдруг загорелись ярче. Теперь в южном конце комнаты стали видны настоящие джунгли, где пальмы высотой в три, пять, семь метров, растущие из островков голой земли, тянулись к крыше, которая над ними была стеклянной, и за ней открывалось ночное небо; в это мгновение я испытал странное ощущение deja vu, словно я это уже когда-то видел, – и вспомнил зимний сад, примыкавший к бывшей столовой в доме доктора Штальмана и показавшийся мне теперь жалкой пародией.
Что до остального пространства комнаты, то посреди нее, ближе к ее северному концу, возвышалось целое каменное сооружение – огромный очаг, отделанный узкими мраморными панелями кремового цвета, с обширной выложенной мрамором площадкой перед ним и по обе стороны, достаточно большой, чтобы можно было танцевать, – окружающий ее пол был не то из навощенного кирпича, не то из кафельной плитки. С задней стороны очага был устроен камин гораздо меньшего размера, вокруг которого на большом ковре с серо-розовым геометрическим узором стояли кресла. На каменной кладке с обеих сторон очага висели гравюры и акварели – как я впоследствии узнал, работы знаменитых художников, – а на асимметричной каминной полке стояла небольшая скульптура Джакометти. Картины побольше висели на побеленных стенах комнаты. А на некотором расстоянии от стен возвышались прямоугольные черные постаменты, на которых стояли работы хозяина. Собственно мастерская находилась в северном конце дома и была отгорожена передвижными ширмами, поверх которых можно было, отойдя подальше, увидеть верхнюю часть большого окна в северной стене.
После ужина, который был сервирован на длинном столе из грубо обструганных досок, установленном на козлах неподалеку от джунглей, и сопровождался журчанием фонтана, полускрытого за пальмами, Розелла увела меня от остальных гостей, чтобы показать мне картины. «И замечательные работы Лоуфорда», – сказала она. В университете штата Алабама она получила специальность историка искусства, но только теперь, по ее словам, действительно полюбила живопись. Лоуфорд так многому ее научил.
Мы стояли перед картиной, которую они совсем недавно, этим летом, купили в Италии и как раз в этот день повесили, – работу художника по фамилии Афро, о котором я, разумеется, никогда не слыхал, и видно было, что она действительно рассматривает ее, а не просто притворяется. Через некоторое время она сказала, что они вернулись из Италии всего несколько дней назад и даже не знали, что я должен приехать в Нашвилл, пока сегодня утром ей не попалась на глаза та самая газета, и она тут же схватилась за телефон, чтобы меня разыскать. Она совсем потеряла меня из вида, даже не знала, что я побывал на войне, а в газете говорилось, что я, оказывается, сражался вместе с партизанами, – это ужасно романтично, сказала она, – и к тому же был еще награжден, выходит, я настоящий герой.
– Эта награда – всего-навсего неудачная шутка, – заметил я. – Вот тамошние ребята, партизаны, были действительно храбрецы. Куда храбрее меня, уж можешь мне поверить.
Она, не отвечая, все еще рассматривала картину. Потом, не отводя от нее взгляда, произнесла:
– Я огорчилась, когда прочла про твою жену.
– Спасибо за сочувствие, – ответил я, тоже глядя на картину – обширную мешанину разноцветных пятен, которая сначала мне понравилась, но теперь вдруг показалась тривиальной и безвкусной, и я подумал, насколько бедная малышка Агнес, которой картина наверняка не понравилась бы, отличалась от этой женщины, от этой прекрасной незнакомки, стоявшей рядом со мной, и эта мысль была окрашена горечью, и верностью, и чувством вины перед телом, которое сейчас понемногу превращалось в ничто, лежа в земле Южной Дакоты рядом с еще свободным участком.
– Я знаю, каково это бывает, когда кого-то теряешь, – произнес голос рядом со мной.
Я ничего не ответил.
– Мой первый муж… Он утонул на моих глазах. Это случилось на нашей яхте. Я стояла за штурвалом – я тогда еще только училась и, должно быть, сделала что-то не так. Налетел порыв ветра, и гик перебросило.
Я мысленно отчетливо увидел худую, белую, как кость, руку, которая шарит в воздухе над больничной койкой в Чикаго.
– Когда моя жена умирала, – сказал я, – она подняла руку. Как могла высоко. Она как будто пыталась нащупать что-то в воздухе, за что-то схватиться. Искала что-то вроде спасательного конца.
– Тс-с-с! – повелительно произнес голос.
Я не успел повернуться к ней, как ее пальцы вцепились в мою руку. Она пристально смотрела на меня.
– Тебе пора перестать так говорить. И так думать, – сказала она сердито и напористо, глядя мне в глаза. – Человек должен жить дальше, разве ты не знаешь? Что бы ни случилось.
Посмотрев сверху вниз на ее лицо, которое в это мгновение казалось усталым и постаревшим, я медленно произнес:
– Да, наверное.
Она продолжала тем же сердитым, напористым полушепотом:
– Да, должен. И ты – ты тоже должен.
– Да, ты выглядишь счастливой, – сказал я.
– О, я счастлива, – уверенно заявила она. – Лоуфорд так со мной мил. Но человек может быть одновременно и счастливым, и несчастным. Надо только к этому привыкнуть и просто жить минуту за минутой, брать то, что можешь от этой минуты получить, – ради этого и стоит жить, и тогда…
– Эй вы! – прозвучал чей-то голос, и рядом с нами появился Лоуфорд.
– Легок на помине, – с улыбкой сказала Розелла, взяв его за руку. – Я как раз говорила Джеду, как ты со мной мил. – И, обращаясь ко мне: – Правда ведь?
– Истинная правда, – подтвердил я.
– Конечно, мил, – согласился Лоуфорд. – Но только тетушка Ди-Ди как раз собирается уезжать – завтра рано утром она ждет какого-то покупателя – и хочет с тобой поговорить.
Розелла послушно убежала, а ее муж, высокий и красивый, уже не в теннисных шортах, а в белых парусиновых брюках с широким щедро украшенным бирюзой кожаным поясом и в красной шелковой рубашке с открытым воротом, сказал мне, что его тетя, как и Калверты, разводит лошадей, потом принялся со знанием дела растолковывать мне, чем хорош Афро, после чего вернулась Розелла, а он ушел, и она показала мне одну его скульптуру – голову женщины, молодой женщины, закинутую назад так сильно, что напряглись все жилы на шее, с закрытыми глазами, приоткрытым ртом и чуть опущенными уголками губ, с отброшенными назад волосами – и хотела что-то о ней сказать, но вдруг умолкла.
– Тетушка Ди-Ди – это тетя Лоуфорда, – сказала она, переменив тему, но рука ее все еще лежала на мраморе скульптуры, словно она ее там забыла. – У нее ужасно романтичная история, я как-нибудь тебе расскажу, а сейчас, я знаю, у нее роман с вон тем симпатичным седовласым человеком. Ты заметил, как он ушел сразу после ужина, сказав, что у него деловое свидание? Так вот, могу спорить, что его машина спрятана в кустах около ее фермы, а сам он сейчас у нее дома – ждет в темноте, когда она придет. И знаешь…
Она остановилась, взглянула на меня и продолжала:
– Могу спорить, что это никому не известно, кроме меня. Даже Лоуфорду. Я это сама сообразила.
У нее на лице появилось все усиливавшееся выражение глубокого удовлетворения.
Потом она вдруг посмотрела мне прямо в лицо широко открытыми глазами.
– Я хочу помочь тебе здесь устроиться, – сказала она.
– Послушай, девочка, – ответил я. – Я ведь не живу в Нашвилле. Я просто читаю лекции в университете, и тот университет, где я читаю лекции, случайно находится в Нашвилле. Я просто…
Она внимательно посмотрела на меня. И сказала:
– Ты сам не знаешь, какой ты есть, Джед Тьюксбери.
И вот, когда я, в трусах и старомодных ковровых шлепанцах на босу ногу, стоял перед зеркалом у себя в ванной, держа в руке зубную щетку, а изо рта у меня текла пена, как у маньяка, одержимого водобоязнью, я мысленно вернулся к той минуте, когда Розелла это сказала. Я разглядывал человека в зеркале – смуглое лицо с грубыми чертами, сломанным носом и пеной на губах, крепкое, загорелое, уже начавшее полнеть тело – и понимал, что она сказала правду.
Потом я вспомнил, что после недолгого молчания она добавила:
– Человек никогда не знает, какой он есть, пока не споткнется о самого себя.
Я мысленно увидел, как она произносила эти слова, стоя рядом со скульптурным изображением закинутой назад женской головы и положив на мрамор руку, словно забыв ее там. И теперь, когда эта картина так отчетливо мне представилась, я понял, что не давало мне покоя весь вечер: эта мраморная голова была головой той самой женщины, что стояла рядом, положив на нее руку.
Ну и что из этого?
Возможно, я настолько туп, что оказался единственным человеком в Нашвилле, который не догадался об этом сразу. Впрочем, почему бы скульптору не использовать собственную жену в качестве натурщицы?
И кто, как не он, имеет право знать, как выглядит ее лицо в минуту оргазма?
Ложиться спать мне не хотелось. Я сел за облупленный, качающийся гостиничный письменный стол и написал письмо. Письмо матери, в котором сообщил, что прилично устроился, более или менее доволен своей работой и кое с кем здесь уже познакомился, но не написал, с кем именно, и, конечно, ни словом не упомянул про Розеллу Хардкасл, которая всегда действовала на мою мать, как красная тряпка на быка. Может быть, потому, что Розелла олицетворяла все соблазны Дагтона, угрожавшие будущему ее обожаемого сыночка, на которого она возлагала такие надежды, а может быть, потому, что тетка Розеллы ходила задрав нос и не здоровалась с матерью, встречая ее на улице. Я вырезал из воскресной газеты статью обо мне (написанную главным образом по материалам университетского рекламного бюро) и мое скучное интервью и положил в конверт вместе с письмом. Интересно было бы знать, какую шуточку она отпустит, когда все это прочитает.
Спать мне все еще не хотелось. Я принялся приводить в порядок наброски лекции, которую мне предстояло читать на следующий день, – обзорной лекции о Платоновой теории любви на семинаре для аспирантов «Любовь в средние века: святое и низменное», и вспомнил, как за ужином меня добродушно поддразнивали по этому поводу (о семинаре говорилось в газетной статье) и как Кадворт сказал, что им всем надо бы записаться на этот семинар, если бы можно было ограничиться только одной его низменной частью, потому что, заявил он, это единственное, что способен понять простой деревенский парень вроде него, а кто-то еще поинтересовался, не занимаюсь ли я психоанализом, и так далее, и тут вдруг, задним числом, меня охватило острое чувство презрения к ним.
Что они понимают – все, кто сидел в этой чертовой конюшне, которая обошлась в миллион долларов? Знает ли хоть один из них, со всеми их развлечениями, веселыми шуточками и картинами знаменитостей на стенах, на что похожа реальная жизнь?
А потом совершенно хладнокровно, с неожиданным презрением к самому себе, еще более сильным, чем к этим людям, которые так старались получше меня принять, я спросил себя – а станет ли человек, который не боится реальной жизни, искать спасения от нее в средних веках? И мой взгляд упал на стопку моих набросков.
В это мгновение в дверь постучали. Ночной портье принес письмо, доставленное экспресс-почтой, – розовый конверт большого размера с адресом, написанным лиловыми чернилами, размашистым каллиграфическим почерком с завитушками. Вскрыв конверт, я ощутил благоухание, исходившее от надушенного письма. Оно гласило:
«Уважаемый доктор Тьюксбери, я только что прочитала в газете все эти щедрые похвалы по Вашему адресу и решила, что мне надлежит написать Вам пару строк и сообщить, что с первых же Ваших слов в поезде, когда я попросила у Вас зажигалку (которую вы так любезно мне поднесли), поняла, что Вы действительно ВЫДАЮЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК, как и написано в газете! И настоящий прекрасно воспитанный ДЖЕНТЛЬМЕН-ЮЖАНИН к тому же. В интуиции Вашей покорной слуге не откажешь!
И теперь, подумать только, мы оба оказались в Нашвилле, штат Теннесси! Я так и чувствую, что мы с Вами могли бы прекрасно поладить. Интуиция подсказывала мне это с самого начала. Да что там говорить, после всех этих похвал в газете мне даже захотелось снова пойти учиться. Вы, случайно, не даете частных уроков? А если ученица будет очень стараться?
С самыми наилучшими пожеланиями и поздравлениями, остаюсь
искренне Ваша Клэрбелла Спейт
P.S. В дополнение должна сообщить Вам, что на том поезде я возвращалась с похорон отца, который умер от удара, – вот почему я была немного не в себе и, возможно, выпила лишнего, чтобы утешиться.
P.P.S. Я знаю, что это была просто шутка – то, что Вы сказали в конце нашего приятного разговора. Но теперь Вы знаете, что произошло и почему я была не в себе».
И внизу был приписан номер телефона.
Еще в конверте лежала цветная фотография. На ней была Клэрбелла в очень открытом черном бикини – она лежала на спине на трамплине для прыжков в воду, закинув руки за голову, чтобы лучше обрисовать бюст, вытянув как можно дальше правую, ближайшую к зрителю ногу (явно здоровую, и к тому же красивую) с оттянутым, как у балерины, носком и согнув левую в колене, так что пятка, скрытая, конечно, от глаз бедром правой ноги, была прижата к ягодице. Никаких признаков увечья видно не было, хотя, может быть, только благодаря такой позе.
Я еще раз перечитал письмо и стал снова смотреть на фотографию.
И вдруг меня охватила волна нежности к Клэрбелле Спейт с ее магическим браслетом, с ее хромой ногой, с всеми ее намеками. Она была, пусть и по-своему, вполне реальна. Ее переживания, ее прозрачные уловки, ее отвага и ее жаждущая плоть – все это было реально.
И, бросив холодный взгляд на стопку набросков, лежавшую на столе передо мной, я спросил себя: чего стоят все эти идиотски глубокомысленные, лживые и никому не нужные рассуждения в сравнении с живой и страдающей реальностью – Клэрбеллой Спейт?
Я опустил глаза и увидел, что мои пижамные брюки приподнялись спереди, свидетельствуя о внезапной эрекции. Я подумал, что этот отросток способной к набуханию ткани, слепо устремленный вперед и вверх, в вечность, в последний раз соприкасался с живой плотью – тут я остановился, чтобы прикинуть, – за десять месяцев до смерти Агнес, то есть теперь уже в общей сложности больше двух лет назад.
Я взял письмо Клэрбеллы, разорвал его пополам и бросил в эмалированное ведерко для мусора, расписанное красными розами по черному фону. Я взял фотографию и, еще раз вглядевшись в нее, разорвал и ее. Потом встал и принялся шагать по комнате.
Через некоторое время я улегся в постель. Лежа в темноте, я решил навести порядок в своей жизни. Систематически заниматься спортом. Никогда не выпивать в одиночку. Регулярно читать газеты и интересоваться общественной жизнью. Откладывать по сотне долларов в месяц на погашение своих чикагских долгов. Бриться каждый день, независимо от того, есть у меня в этот день лекция или нет. Никогда не обгрызать заусеницы. Каждые полгода отдавать одежду в чистку. Чаще писать матери. Заняться какой-нибудь действительно важной темой и написать еще одну книгу, чтобы оправдать слова из напечатанной в авторитетном журнале рецензии на мою теперь уже опубликованную диссертацию (они были приведены в той самой газетной статье) о «многообещающих научных перспективах этой великолепной работы».
Тут мне вспомнилось, как родилась «эта великолепная работа», и я подумал о могиле под ночным небом Южной Дакоты. После этого я постарался совсем ни о чем не думать.
Но еще одна мысль все же пришла мне в голову. Я вспомнил, как стоял в этот вечер перед зеркалом в ванной и смотрел на свой намечающийся живот. Я дал себе клятву согнать эту гадость во что бы то ни стало. А потом, когда я уже засыпал, меня, как я теперь вспоминаю, пронзило ощущение какой-то непонятной вины.
Теперь, задним числом, мне, конечно, ничего не стоит его объяснить.
Для Агнес Андерсен, лежавшей там, вдали, под ночным небом Южной Дакоты, не могло иметь ни малейшего значения, есть у меня живот или нет.