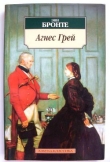Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Глава XVI
Портье гостиницы «Инглитерра» выложил передо мной большую стопку писем со столь самодовольным видом, как будто это лично он, благодаря своим исключительным способностям, сумел преодолеть все козни железнодорожников и пилотов авиалиний и доставить мне почту. Получив мою благодарность и две тысячи лир за труды, он торжественно преподнес свой самый главный шедевр. Наклонившись ко мне с улыбкой, какой один «bell’uomo» поздравляет другого с удачным выпадом шпагой, он сообщил, что одна «bella signora» три дня подряд звонила мне почти каждый час, а в то утро сама пришла в гостиницу – «veramente bella, veramente chic!» [28]28
Поистине прекрасная, поистине шикарная (ит.).
[Закрыть]– и велела, как только я вернусь, немедленно вручить мне записку, потому что очень может быть, что вскоре она должна будет уехать из Рима, а уехать, не повидавшись с «il Professore», то есть со мной, для нее будет подобно смерти. С этими словами он сунул мне листок бумаги с записанным на нем номером телефона.
Как он объяснил, это телефон люкса в расположенной неподалеку гостинице «Хасслер» – тут в его голосе еще явственнее прозвучало поздравление, чем когда он сообщал, что дама «veramente bella», потому что можно быть как угодно «bella» и «chic», но не иметь столько денег, сколько стоит номер люкс в «Хасслере».
Я уже догадался, кем может быть эта дама, и размышлял, смогу ли, особенно после только что закончившегося погружения в историю Италии и в кусочек моей собственной истории, осмелиться на еще более драматический прыжок в прошлое. У меня перед глазами стояла картина, которую я видел так давно и так далеко отсюда, – измятая постель, женщина, лежащая ничком, уткнувшись в подушку, простыня, натянутая на выпуклость ягодиц до того особо волнующего места, где они только начинают раздваиваться, талия, которая кажется особенно узкой из-за того, что руки закинуты вверх, обхватив подушку с рассыпавшимися по ней светлыми волосами и спрятанным в нее навечно, без единого слова, лицом.
Но только я собрался сказать себе: «Нет, что прошло, то прошло», – как почувствовал давнюю стигму на правом бедре и понял, что позвоню, что игра окончена и я проиграл.
Игра была действительно окончена, потому что в этот самый момент я услышал непосредственно позади себя голос с деланным южным выговором:
– Господи Боже, да никак это старый Бродяга собственной персоной!
Я обернулся. Она стояла передо мной точно такая, как говорил портье, – «bella» и «chic», и не только, – в самом простом льняном платье без рукавов, легком аквамариновом шелковом платочке на шее и широкополой соломенной шляпке. Протянув ко мне руки, она сказала:
– Ну иди, поцелуй меня!
– Я весь грязный, – ответил я. – Сегодня утром я ехал сюда от самой горы Амиата на старом армейском «харлее» и теперь грязный до безобразия.
– Вижу, что ты грязный, – сказала она, – и к тому же вредный, но я все равно расцелую тебя вместе со всей твоей вредностью, потому что ужасно рада видеть дорогого старину Кривоноса в забрызганном грязью берете и с очками на лбу.
Она прижала меня, как есть грязного, к груди и расцеловала в обе щеки, а потом, еще крепче, – в губы.
– Вкусно, – сказала она, отстранившись, чтобы получше меня рассмотреть, но все еще держа за плечи, – но только вот – ты когда-нибудь бреешься?
И она потерла свой подбородок.
– Случается иногда.
– Мне наплевать, брился ты или нет за эти последние четверть века…
– Да нет, столько еще не прошло, – возразил я.
– …Но у меня есть план на ближайшие несколько часов. Для начала – тут рядом есть замечательный ресторан, он называется «Раньери», и, если ты будешь прилично выглядеть, тебя туда пустят. Побрейся, надень галстук, какой-нибудь пиджак и вылей на себя литр одеколона – тогда и я пойду с тобой.
Я оглядел свои покрытые грязью вельветовые штаны, пропотевшую кожаную куртку, красную рубашку, ботинки.
– Иди и скорее приведи себя в порядок, – распорядилась она. – Иначе я приду тебе помогать! И тогда, видит Бог, до обеда дело так и не дойдет. И давай поторапливайся!
Я схватил лежавший на полу рюкзак и кинулся к лифту, крикнув через плечо портье, чтобы тот отнес почту в номер.
– Не смей читать ни единой строчки! – крикнула она вслед, когда лифт уже начал подниматься.
Когда я снова спустился вниз, она сидела, скрестив очень обнаженные, очень загорелые и по-прежнему прекрасные ноги, и с большого пальца той ступни, что оказалась вверху, свисала, держась на одной лишь тоненькой тесемке, голубая сандалия, которая покачивалась в такт биению сердца, и ногти на ноге были аквамаринового цвета, в тон с платком у нее на шее, – такого же цвета, как в тот давний вечер в каррингтоновской конюшне, у каррингтоновского камина, когда я смотрел, как отсветы пламени играют на той же самой, тогда еще не такой загорелой, но округлой ступне, с которой точно так же свисала, покачиваясь, сандалия. Это был тот вечер, когда я сказал, что Дагтон – это скала, частью которой мы с ней оба остались.
Но с тех пор прошло, как она сказала, почти четверть века, и мы были в Риме, намного дальше от Дагтона, чем даже Нашвилл. Или не дальше?
– Слава Богу, – сказала она, вскочив на ноги. – Я до смерти голодна. – Она подошла ко мне. – И до смерти хочу тебя еще раз поцеловать.
Сделав это, она взяла меня под руку и повела в обещанный ресторан, нарочито скромный и благопристойный на вид, где была встречена с самым почтительным радушием.
– Дело в том, – пояснила она, когда мы уселись и ждали аперитивов, – что я им здесь пришлась по душе.
Я что-то буркнул в ответ.
– По многим причинам, – продолжала она, – и одна из них – нет, конечно, не главная – в том, что я им просто пришлась по душе.
И она обвела взглядом зал, улыбаясь все той же благосклонной улыбкой королевы красоты дагтонской школы, и я заметил, что эту улыбку отнесли на собственный счет по меньшей мере несколько официантов и один посыльный, как ее принимали на собственный счет все до единого ученики дагтонской школы, за исключением, разумеется, вашего покорного слуги.
Улыбка была та же, но лицо – другое. Красивое, да, но более жесткой, скульптурной красотой, и от этого, а также благодаря густому загару, на нем еще больше, чем когда-либо, выделялись ее аметистовые глаза. Я невольно принялся разглядывать все остальное, что можно было видеть над столом, – чуть сильнее выступающие ключицы, гладкую шею с едва намечающимися поперечными складочками, руки, то оживленно жестикулирующие, то вдруг замирающие в неподвижности, выпуклые вены на их тыльной стороне, голубизну которых отчасти смягчал загар, но смело оттеняли большие кольца с бирюзой на обеих руках. Я пытался представить себе, как могут выглядеть те невидимые части ее тела, что находятся под столом, как эта обтесанная временем скульптурность придает особую остроту наслаждению их женственной мягкостью, какого невозможно было бы испытать ни с какой юной красавицей, и даже с Розеллой в лучшую ее пору.
– Я еще держусь в форме, правда? – спросила Розелла, прочитав мои мысли и взглянув в висевшее сбоку от нее зеркало, где могла видеть себя в профиль с головы до ног.
– Это точно, – ответил я.
– Я без лифчика, и могу спорить, что ты этого не заметил.
Я отрицательно покачал головой.
– Знаешь, я каждое утро ложусь на спину, беру в руки по пятифунтовой гире и по пятьдесят раз закидываю их через голову назад, до самого пола. Тебе-то, судя по твоему виду, – добавила она, окинув меня взглядом, – об этом и подумать страшно.
Я кивнул.
– А я почти ни о чем больше не думаю. Каждое утро смотрю в зеркало и спрашиваю себя: если бы я была мужчиной, который не влюблен в меня, а просто случайно оказался рядом, – какие недостатки я могла бы в себе заметить? Это называется интеллектуальная честность. Понимаешь, чем меньше остается времени, тем больше приходится налегать на интеллектуальную честность, – добавила она поучительным тоном.
– Это-то я прекрасно знаю, – вставил я.
– И что ты по этому поводу предпринимаешь?
– Абсолютно ничего, – ответил я и внезапно почувствовал себя счастливым, словно кокаинист после долгожданной понюшки. – То есть я работаю, а когда я работаю, мне не надо проявлять интеллектуальную честность. Не надо задумываться о том, в чем смысл моей работы, лишь бы она была грамотно выполнена.
– Я читала заметку в «Мессаджеро» про ту почетную степень или как там это называется, которую собираются тебе присвоить за то, что ты так стараешься не проявлять интеллектуальной честности.
Принесли вино, и мы стали его пробовать.
– Возвращаясь к теме, должен отметить: это только половина правды, – добавил я. – У меня достаточно интеллектуальной честности, чтобы признать два факта.
– Хорошее «феттучино», – заметила она. – Ну, выкладывай – что за факты?
– Факт номер один: главное предназначение работы состоит в том, чтобы убить время. Время с большой буквы.
Высказав это, я почувствовал, что очень голоден, и принялся жадно есть. Потом, запив вином гору спагетти, продолжал:
– Теперь факт номер два.
– Давай.
– Факт номер два состоит в следующем: я никогда не имел ни малейшего представления о том, что такое счастье. То, что я всю жизнь принимал за счастье, – это всего лишь возбуждение. То от одного, то от другого.
Она изящным движением приложила к губам салфетку и осторожно подняла свой наполовину полный бокал, как будто для того, чтобы оценить игру света в вине. Потом заговорила – бесстрастным полушепотом, словно обращаясь к бокалу, или, точнее говоря, словно какой-нибудь медиум или оракул, вглядывающийся в хрустальный шар, который светится рубиновым светом:
– Так вот почему ты стоял посреди комнаты и смотрел на голую женщину на кровати, которая рыдала в подушку, потому что верила в счастье, а потом просто вышел и закрыл за собой дверь?
– Послушай, – сказал я, – на том этапе своей жизни я еще не делал никаких общих выводов насчет счастья или насчет самого себя. Я просто знал то, что знал, – что не могу удрать в Европу и жить там, не имея никакого занятия, на твои деньги. Или, точнее, на деньги Батлера.
– Другими словами, – сказала она, все еще вглядываясь в рубиновое сияние в бокале, – тебе не хватало веры в меня. То есть я была просто чем-то таким, от чего ты в очередной раз приходил в возбуждение?
Она поставила бокал, наклонилась вперед и сказала:
– Знаешь что, дорогой старина Кривонос? Ты даже не пытался увидеть, какая я на самом деле. Ты даже не пытался помочь мне понять, какой я хочу быть.
Я хотел что-то сказать, но сказать мне было нечего.
– Вот видишь! – сказала она злорадно. – Тебе на это нечего ответить. Может быть, ты даже считал, что Лоуфорд прав, что мне нужно только одно – респектабельность и положение в обществе. Что это все от Дагтона.
Я виновато потупился, а она посмотрела на меня со своей прежней озорной улыбкой и искорками в глазах, как будто все эти годы ничего не значили.
– Ладно, выкинь все это из головы, старина Кривонос.
Я хотел что-то сказать, но она продолжала:
– Я тогда сама не знала, какая я на самом деле. Я знала одно – что люблю тебя до безумия. Знаешь, я просыпалась посреди ночи и мечтала убить тебя за то, что ты сбежал от меня тогда, в первый раз, – на вечере в Дагтоне. Но пожалуй, этим ты оказал мне большую услугу. Представь себе, мы потанцевали бы, а потом отправились бы любоваться на водопад при лунном свете и принялись бы там трахаться, как кролики, и я бы залетела, и ты бы женился на мне и нашел бы себе какую-нибудь канцелярскую работу, и через десять лет стал бы начальником, потому что ты такой умный, а я к тому времени родила бы трех или четырех детей и по утрам выглядела бы старой каргой – о, я была бы королевой красоты среди всех старух – и однажды утром сбежала бы из города с коммивояжером, торгующим красками, с маленькими черными усиками и новым «понтиаком», – сбежала бы в Атланту или Бог знает куда еще, и захватила бы с собой, конечно, все деньги с нашего счета в банке.
Она некоторое время задумчиво смотрела в свою тарелку, потом подняла голову и взглянула мне прямо в глаза.
– Но может быть, еще большую услугу той девчонке, которая лежала там с голой задницей, ты оказал тогда, когда ушел и закрыл за собой дверь, а она осталась реветь. Представь себе, что она поехала бы с тобой в какой-нибудь занюханный колледж и навсегда загубила бы свою жизнь? Или что ты поехал бы с ней в Европу жить на деньги Батлера и тоже загубил бы свою жизнь? Да, конечно, мы любили бы друг друга до безумия – до последнего дыхания, и будь что будет, – а что дальше?
Она снова принялась рассматривать свой бокал, а потом, не поднимая глаз, сказала:
– Есть, конечно, еще одна возможность, которой мы пока еще не касались. Тебе никогда не приходило в голову, что мы могли бы действительно любить друг друга и найти в этом свое счастье? Навсегда?
Прежде чем я смог придумать, что на это ответить, она продолжала:
– Нет, дорогой старина Кривонос, ты оказал той молодой женщине услугу, это точно. Когда ты вышел и закрыл за собой дверь, после того как с таким хладнокровием разложил все по полочкам, – это ее излечило. Да, я тебе сейчас кое-что скажу. Тогда, выплакав все слезы, она принялась мастурбировать. Я тебя шокировала?
– Да не очень.
– Ну, по твоему виду этого не скажешь. Так вот, для нее это был первый шаг к излечению, к тому, чтобы больше никого не любить до безумия. Никого не любить так, чтобы хотеть слиться с ним душой и телом, стать единой плотью, как мы учили по Библии там, в Дагтоне. Да, ты излечил ее навсегда. Она слезла с кровати, отправилась домой и стала соображать, что к чему. Что эта дуреха Эми имеет виды на Каррингтона, а сама давно подсела на зелье, которое получает от своего свами. Та, которой ты дал хороший урок, теперь сообразила, как добиться своего, – надо просто не мешать воде течь с горы вниз. И даже когда Лоуфорду время от времени приходила охота трахнуть свою законную жену, потому что она тут, под рукой, то она никогда не говорила «нет», потому что знала один секрет: надо только тихо лежать и притворяться, будто ты надувная резиновая кукла вроде тех, которых, говорят, берут в долгое плавание японские моряки. Надо просто ждать, когда упадет второй ботинок. А тем временем сделать то, что больше всего взбесило бы Лоуфорда, если бы он только об этом узнал. Я со всей осторожностью постаралась сойтись с этим свами, который сам-то к зелью не прикасался и который умнее чуть ли не всех, кого я знаю, и который…
В это время официанты начали подавать следующее блюдо и принесли еще вина, а Розелла все больше оживлялась в предвкушении того, что собиралась мне рассказать.
– Так вот, про свами, – сказала она. – Тебе ни за что не догадаться!
– Наверное, – сказал я.
– Он черномазый, как говорили у нас там, дома, – сказала она хихикнув, – и он мой муж.
И показала мне левую руку с обручальным кольцом.
– Ну, знаешь, – сказал я, когда снова обрел дар речи, – ты бы могла две такие новости не соединять в одной фразе.
– Ну, сначала про то, что он черномазый. Он окончил колледж – ну да, мне подавай все только самое лучшее, – и притом в Джексоне, штат Миссисипи, ни больше и ни меньше. Потом записался во флот – еще до того, как мы стали воевать, – и попал в юнги при камбузе, и сбежал с корабля в Индии, а так как он умнее всех, кого я знаю – может быть, не считая присутствующих, – то он выучил язык, этот самый хинди или на каком там говорят, научился писать на нем стихи и стал изображать из себя свами, и некоторое время жил в монастыре, или как это там у них называется, а потом выучился говорить по-английски так, как будто закончил какой-нибудь там Оксфорд, и когда наладил все нужные связи, то получил фальшивый паспорт, надел тюрбан и стал вовсю доить Соединенные Штаты Америки, включая Нашвилл, до тех пор, пока Эми не втюрилась в Лоуфорда и им не взбрела в голову романтическая идея умереть вместе. Я помогла свами выпутаться из всей этой истории. Но он уже давно чист, как стеклышко. Он теперь по-крупному занимается валютой. Действительно по-крупному, и он…
– Что значит – занимается валютой?
– Ну, знаешь, скупает валюту на одних биржах и тут же продает на других – играет на разнице курсов. Все вполне законно. Понимаешь, он теперь не какой-нибудь презренный торговец зельем. Большая шишка, и руки у него чистые. Тебе ни за что не угадать, где мы живем, – ну, когда не путешествуем по Европе, тут мы останавливаемся в самых шикарных отелях.
Я согласился, что мне этого ни за что не угадать.
– В Марокко! – заявила она. – И живем, как большие господа! Да мы и есть большие господа. А Дагтон, Нашвилл и вся эта респектабельность могут идти к дьяволу. – Она посмотрела на меня словно издалека и с печальной улыбкой сказала: – Когда ты тогда ушел и закрыл за собой дверь, ты освободил меня от очень многого, дорогой старина Кривонос.
– Ну и как тебе теперь живется? – спросил я. – В смысле – вообще?
– Просто замечательно, – ответила она. – Ему приходится много разъезжать – как раз сейчас он в Амстердаме, во всяком случае, так он мне сказал, но я за него не беспокоюсь. По правде говоря, наша женитьба – это была моя идея, и появилась она у меня, когда мы уже довольно долго прожили вместе. Мне нравилось то, что было между нами, и у него хорошее чувство юмора, и я хотела таким способом достойно увенчать карьеру, которую сделал этот чернокожий парень из Джексона, штат Миссисипи, – предоставить ему не только фактический, но и вполне законный доступ со всех сторон к прекрасному белому телу королевы красоты дагтонской школы. Я хотела, чтобы он почувствовал, что его ценят и уважают, что он окончательно влился в американскую жизнь. А кроме того, я не хотела, чтобы он думал, что я когда-нибудь смогу дать показания против него. Ну, и к тому же он настоящий мужчина – во всех отношениях.
– Могу себе представить, – сказал я.
– Когда я училась в Алабаме, я проходила социологию – по такому толстому зеленому учебнику, и там были приведены слова одного социолога, который назвал негритянскую расу «дамой среди других рас». Он имел в виду, я думаю, что цветные любят петь, плясать и носить яркую одежду. Но если он имел в виду только это, то не заметил самого главного. На мой взгляд, негр, если называть его так прямо, на старый манер, – это джентльмен среди других рас. По крайней мере, этот мой негр. Он не любит показухи. Даже когда он разъезжает по Европе в своем «роллс-ройсе» с шофером, все выглядит очень чинно и благородно, а когда при нем нахожусь я в виде украшения, то одетая очень скромно, даже, можно сказать, убого. Если не считать какого-нибудь бриллианта или изумруда, за который можно купить полцарства. Но при этом он – ого-го! Даже когда он без тюрбана. Сразу видно, что в нем что-то есть. Когда мы приходим в трехзвездочный ресторан, а столика заранее не заказывали, и там полно народу, он просто входит с таким видом, что сейчас все будет, как он хочет. Он как-то всегда уверен в себе, знает себе цену, и я думаю, что это и значит быть джентльменом. Понимаешь, у него такой вид, будто он имеет власть, но ему не приходится ей пользоваться. Я ничего не знаю о его делах, но однажды я видела, как… Ну, это неважно, я отвлеклась. Он такой независимый, можно подумать, что он всегда был такой и не было никакого Джексона, штат Миссиссипи. Но время от времени он чувствует потребность себе об этом напомнить. Есть признаки, по которым я могу сказать, когда это у него начинается. Что-что, а наблюдать я умею. Сначала у него, я это уже давно заметила, как будто пропадает аппетит. В Марокко мы едим, как французы, потому что французы там самые богатые. И когда он начинает привередничать, это значит, он хочет, чтобы я что-нибудь ему приготовила. Самое главное – на вкус это должно быть похоже на то, что едят в негритянской трущобе в Джексоне, штат Миссиссипи. И я готовлю, что могу, за неимением настоящего бекона, требухи, тушеной капусты, кукурузной каши и сорго. Другими словами, я ему, можно сказать, вроде белой няньки. Но если говорить по существу, то наш с ним брак крепче, чем у многих других, и нам это нравится. Поначалу было, может быть, и не так просто, ведь он всегда мечтал о белых девушках вроде меня, которые ездили мимо него, черномазого парня, на больших «крайслерах»…
– Я еще помню, как это действовало на одного белого парня, – заметил я.
– Я не о том, – сказала она. – И вообще ты не черный. А когда он заполучил то, чего так хотел, это были для него, наверное, очень сложные и интересные переживания – ну, словно какая-то новая игра. На самом деле я не знаю, что он чувствовал, но знаю, что чувствовала я. На первых порах это был просто способ показать язык Лоуфорду и, можно сказать, всему Нашвиллу. А что до всяких сложностей, то я же постоянно слышала про то, каковы черномазые в постели. В общем, так или иначе, у нас настоящий прочный старомодный брак, как положено в южных штатах, с благословения Божьего и Джеффа Дэвиса. Несмотря на то что мой муж говорит по-итальянски, как тосканец, на хинди, как эти черные, хоть они и не черномазые, и по-французски, как магараджа. Кстати, ты обратил внимание, какое у меня итальянское произношение?
– Обратил, – сказал я, – и я им просто восхищен.
– Ты бы послушал, как я говорю по-французски, и я прочитала множество французских книжек. Надеюсь, ты помнишь, что и латынь давалась мне неплохо.
– Помню и преклоняюсь.
– А хочешь, я тебе расскажу про Леви-Стросса и структурализм?
– Нет уж, спасибо.
Она ненадолго задумалась, а потом сказала:
– Мы женаты уже давно. И не то что состарились, но, конечно, уже не так рвемся в бой. И иногда вместо того, чтобы срывать друг с друга одежды, просто сидим и вспоминаем что-нибудь из прошлого. Про дагтонскую школу и что там бывало, или переходим на негритянский говор, как говорили в трущобах, где он когда-то жил. И чем дольше мы живем среди итальяшек, и латинов, и лягушатников, и даже джон-булей, тем больше наша семья становится похожа на старозаветные семьи белого Юга, где на стене над кроватью висит флаг Конфедерации.
Я тихо промурлыкал первую строчку «Дикси». Она бросила на меня испытующий взгляд поверх остатков десерта, фруктов, сыра и рюмок из-под коньяка.
– Что-то я не припомню, чтобы ты так близко принимал к сердцу Безнадежное Дело [29]29
«Безнадежное Дело» – в разговорной речи американцев-южан обозначение борьбы южных штатов за сохранение рабства во время Гражданской войны в США.
[Закрыть].
– Ошибаешься, – сказал я.
– Что-то я не припомню…
– Ты все прекрасно помнишь, – возразил я. – Все грубые объективные факты. Но внутренняя реальность – это совсем другое. У меня самого дело безнадежное.
– Прости меня, приятель, – сказала она, – excusez-moi, excusez-moi, mon vieux, mon cher, mon petit chou [30]30
Извините, извините, старина, мой милый, мой малыш (фр.).
[Закрыть], только время летит ужасно быстро. Où sont les neiges d’antan [31]31
Где снега минувших лет? – рефрен сонета Франсуа Вийона (XV в.) (фр.).
[Закрыть], и les lauriers sont coupés [32]32
Лавры уже срезаны – строчка из старинной французской песенки, сопровождающей игру в фанты (фр.).
[Закрыть], но если бы мы сейчас выпили еще по рюмке коньяка…
– Мы уже выпили по три, – сказал я.
– …А потом, – продолжала она, пропустив мои слова мимо ушей, – поднялись бы в numero ventuno, или ventidue [33]33
Номер двадцать первый или двадцать второй ( ит.).
[Закрыть], или какой там у тебя номер в твоем вшивом отеле, то мы могли бы, quest’ora del tramonto… [34]34
В этот час заката (ит.).
[Закрыть]
– Но еще не закат, – возразил я.
– Я выражаюсь образно, – заявила она спокойно, как будто ничуть не захмелела, – и ты, выражаясь образно, ошибаешься. Мы оба приближаемся к закату. Но не забудь, что закат – то есть il tramonto – часто венчает день.
Она вдруг встала, не пошатнувшись, и выпрямилась во весь рост – нарядно и в то же время просто одетая, с грудью, лишь чуть погрузневшей под платьем, в аквамариновой косынке, скрывающей едва заметные складочки на шее, и ее скульптурно-суховатое лицо и аметистовые глаза осветились на мгновение сиянием былой красоты, чарующей, как безупречная игра великой актрисы, в последний раз вышедшей на сцену.
Звонким, уверенным голосом она сказала:
– Все это дерьмо.
И среди изумленного молчания направилась к выходу.
Официант, который издали внимательно наблюдал за нами, каким-то чудодейственным образом мгновенно оказался рядом и положил передо мной счет. Столь же чудодейственным образом у меня хватило денег, чтобы расплатиться, хоть и не так щедро, чтобы удостоиться его поклона, и я тоже пошел к выходу.
На пустынной улице я увидел Розеллу – словно светлый язычок пламени, трепещущий на ветру. Я знал, что она слышит мои шаги, потому что ботинки у меня были подбиты железом, но она не обернулась. Она не повернула головы даже тогда, когда я поравнялся с ней, а просто продолжала идти – рядом, но в некотором отдалении.
Над желто-красными черепичными крышами ослепительно сияло небо, но улица была погружена в тень. Я услышал ее голос:
– Наверное, ты думаешь, что я заранее решила бросить тебя там, чтобы у тебя не хватило денег? Чтобы отомстить за то, что ты столько раз меня бросал?
Я ничего не сказал, а только прислушивался к тому, как стучат по камням римской улицы мои подбитые железом ботинки, и вспоминал, как давным-давно слышал этот же звук, только тысячекратно усиленный, когда мимо меня проходили воинские колонны.
– Не скажу, что такая мысль не приходила мне в голову, – продолжала она. – Но мало ли что может прийти в голову, это же не значит, что обязательно сделаешь, как подумал, верно?
– Думаю, да, – сказал я.
– Просто я, сидя там, почувствовала себя так… – продолжал голос, – ну, как тогда, когда увидела твое имя в газете… Как тогда, когда увидела его давным-давно в «Знамени Нашвилла»… Это было как сигнал, что вот-вот произойдет что-то… Что-то такое…
Я не знал, как помочь ей закончить фразу.
– Что-то светлое… Что-то решающее, – произнесла она наконец. – Какое-то окончательное искупление. – И потом, через несколько шагов: – Только непонятно, что и как.
И здесь я ей ничем не мог помочь.
– И не то чтобы я тебе врала, когда все рассказывала. Я говорила все как есть, это истинная правда о моей жизни. – Некоторое время она шла молча, потом подняла глаза на меня. – Ты знаешь, там, в Нашвилле, ты был единственный, кому не нужно было врать. Ну, Лоуфорду я рассказала про себя все гадости, какие только были, – в таких делах я не вру. Но все-таки где-то в глубине души еще оставалось какое-то невысказанное вранье. Я врала даже самой себе. Я даже не знала, какая я на самом деле.
– А кто это знает? – произнес я с грустью. – Какой он на самом деле. И вообще ты же была готова поехать со мной в Европу. Это я тогда заупрямился.
– И правильно сделал. – Она откинула голову, словно в восхищении. – Посмотри, какой ты теперь стал знаменитый!
Не знаю, что выражало мое лицо в эту минуту, но, наверное, далеко не радость, потому что она с внезапной улыбкой сказала:
– Ну, нечего напускать на себя меланхолию. И обо мне тоже можешь не переживать. Вот, я теперь совсем не переживаю – ни из-за правды, ни из-за вранья. По-моему, нет ничего такого, о чем бы я не рассказала мужу. Разве что о тебе – но это почему-то не считается. Ты – настоящий, а не что-то притворное, а я давным-давно, с твоей любезной помощью, поняла, что в моей жизни все – сплошное притворство. И чтобы немного потешиться, я разыграла, как я тебе только что объяснила, очень замысловатую шутку над всеми на свете – над моей теткой, Дагтоном, Лоуфордом, Нашвиллом. И может быть, немного над тобой тоже.
– Возможно, – сказал я. – Потому что мне представляется, что вся моя жизнь – сплошная шутка.
– И может быть, – добавила она задумчиво, – и над собой тоже. Но я по крайней мере могу над этой шуткой смеяться.
Она снова замолчала, глядя на меня из-под шляпки глазами, по-прежнему излучавшими свое необыкновенное аквамариновое сияние.
– Послушай, – сказала она. – Я могу смеяться, потому что знаю один фокус. Я всегда говорила себе: «Тебе осталось… ну, например – еще семь лет». Потом – пять. Потом – четыре. Знаешь, как я себя проверяла?
– Нет.
– Ну, скажем, в гостях или еще где-нибудь – в баре, или сидя в одиночку за столиком, или даже когда кто-нибудь сидел со мной – я решала себя проверить. Посмотреть, могу ли я произвести впечатление, по-настоящему взять человека за живое. Ну, с теми, кто постарше, это легче легкого. Я проверяла себя только на молодых или на тех, кто в расцвете лет. Нет, не думай, что я такая неразборчивая. Наоборот, я очень привередливая. Я никогда не старалась никого подцепить – хотя время от времени и получалось, но всегда что-то очень мимолетное. Для женщины важно произвести впечатление, и она знает, когда это ей удалось. Вот мужчина разговаривает со своей девушкой и глазеет по сторонам. Бросишь на него один-единственный беглый, но прямой взгляд – и этого достаточно, чтобы все узнать. Сейчас я даю себе еще два года – ну, три, когда я в особо хорошей форме.
Когда мои подбитые железом ботинки отсчитали полминуты, она спросила:
– И знаешь, что будет потом?
– Нет, – ответил я, глядя в тень под шляпкой, где излучали свое пронзительное сияние ее глаза.
– В том мире, где мы живем, – сказала она, – это очень легко как-нибудь сделать. И так, чтобы было совсем не больно.
И она ускорила шаги, так что я с трудом за ней поспевал. Потом, внезапно остановившись, сказала:
– Когда я там, в ресторане, предлагала тебе… ну, говорила все это про твой номер и про час заката – я не хотела ничего проверять, клянусь тебе.
– Ты говорила, что с теми, кто постарше, это слишком легко, – сказал я. – А я, черт возьми, уже не так молод.
Я хотел произнести эти слова с напускной бодростью, но они прозвучали скорее безнадежно, и мне самому стало противно.
– Нет, я не хотела ничего проверять, – повторила она. – Просто само вырвалось – вот почему я говорила, словно пьяная, и несла чепуху. Потому что внутри я вся разрывалась на десяток частей. Может быть, у тебя есть обязательства, и ты…
– Нет, – сказал я. – Разведен. И сын почти взрослый.
Не слушая меня, она продолжала:
– И если бы это кончилось плохо – ну, там, в quest’ora del tramonto, – то я бы решила, что ничего хорошего и раньше не было, а тогда что хорошего вообще было в моей жизни? Ну, а если бы все, даже, образно выражаясь, в этот час заката, получилось хорошо, то что тогда? Все прежние мучения. И ради чего? Или новые мучения от повторения прежней ошибки. Разве что относиться к этому, как… Как к сноске в книге, наверняка сказал бы ты. Ты ведь, конечно, большой специалист по части сносок.
Я не мог придумать, что сказать, но меня буквально трясло от страха. Причиной его было не что-то одно – было множество причин, которые я не мог назвать. Но одну я назвать мог. Если бы это случилось и получилось хорошо – как бы я смог пережить то, что все эти годы были потрачены впустую?
И что я мог ответить на этот вопрос?
– Нет, ничего не говори, – сказала она бодрым светским тоном, словно беседуя с каким-нибудь глупым незнакомцем на вечеринке с коктейлями и стараясь, чтобы он чувствовал себя непринужденно. – Очень может быть, что все к лучшему, как я и говорила тебе за обедом, за который тебе большое спасибо. Может быть, после телефонного звонка, которого я жду не позже чем через час, мне надо будет лететь в Амстердам и снова жить там реальной жизнью, и это будет к лучшему. Но между четырьмя и шестью я буду у себя в номере, и если мне не нужно будет лететь в Амстердам, то настоятельно приглашаю тебя поужинать со мной.