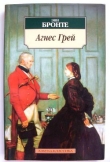Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
«Но я про Перка. Мы уж давно женаты и мне с ним повезло. Мне все равно какой он с виду только стоит ему войти в дверь и я вижу, что у него на лице написано большими золотыми буквами „ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК“, вроде как неоновая реклама. И он сам этого не знает и иногда совсем расстраивается потому что вечно спотыкается и падает. Но он просто родился добрым человеком а сам никогда этого не знал. А я сразу увидела. Вот смешно-то, правда?»
На этом месте я перестал понимать, что смешно, а что не смешно, и опять отложил письмо.
Когда я собрался с духом, чтобы снова за него взяться, мне повезло: я обнаружил, что мать, которой в начальной школе так и не смогли как следует втолковать правило единства действия, перескочила на другую тему, которую, конечно, приберегла под конец. Она даже начала с новой строчки.
«От Честера Бертона ушла его шикарная жена с недвижимостью в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и Нассау, они развелись и теперь он снова живет в родовом гнезде (то есть на ферме) в округе Клаксфорд, под крылышком у мамочки».
Значит, Дагтон все-таки взял свое.
«Я всегда знала что у него кишка тонка чего-нибудь добиться. Должно быть мисс Воображала (ты знаешь кто) устроилась куда лучше чем с ним, с кем бы она ни была, хоть Бертоны и кидались в нее грязью».
С мрачным удовлетворением – поскольку я так и не счел нужным сообщить матери, что «мисс Воображала» живет в Нашвилле, не говоря уж о ее дневных визитах в постель старины Кривоноса, – я признал, что в некоторых отношениях она, вполне возможно, и в самом деле устроилась куда лучше, чем если бы, согласно дагтонской логике вещей, снова спуталась с Честером Бертоном.
Но я не был уверен, что это для меня такое уж утешение. До понедельника было еще далеко. Я молил Бога, чтобы он направил меня на путь истинный, как пелось в гимне моего детства, но, зная себя и свои гонады, сомневался, что ему это удастся.
Во всяком случае, надо было крепиться и со страхом ждать понедельника.
Бояться, впрочем, оказалось нечего. Драматической прощальной сцены в четверг как будто не бывало. Розелла пришла вся сияющая, словно из-под утреннего душа, полная невинной радости и в восторге от какой-то известной только ей тайны, которую она отказалась мне поведать до тех пор, пока я, как она выразилась, не исполню свой долг.
– Ты ведь знаешь, – сказала она, когда долг был исполнен, – что Лоуфорд летит в Нью-Йорк в будущую среду утром? На открытие своей выставки.
Я не помнил, когда назначено открытие, но в ответ кивнул.
– Ну так вот, – продолжала она, – а я собираюсь заболеть. У меня начинается что-то скверное, вроде гриппа.
Она сделала грустное лицо и понурилась, но едва я успел что-то пробормотать, выражая свое сочувствие (и, надо признаться, удивление после того, как она только что продемонстрировала весьма бурную энергию), как она рассмеялась и сказала:
– Вот глупенький!
И объяснила:
– Понимаешь, завтра я начну киснуть и к вечеру буду совсем плохая. Желудочный грипп – вот что это будет, плюс простуда и понос. Я просто не смогу с ним лететь. Придется мне пропустить вернисаж.
И она, по-детски сияя, добавила:
– Понял, глупенький?
А потом, с деланным отчаянием на лице, продолжала:
– Только, может быть, он у нас совсем не глупенький. Может быть, он у нас только притворяется. Может быть, он у нас просто не хочет провести целую ночь со мной, бедняжкой.
Ах, вот оно что. И ведь я прекрасно знал, что все так и будет. Я вспомнил, как непосредственно после начала нашей запретной связи Розелла уговаривала меня прийти к Каррингтонам на вечер в честь приезжего поэта, а я объявил, что пусть я мужлан из захолустья, но мне будет неудобно лакать спиртное и жрать в гостях у человека, которому я только что наставил рога. Теперь же, как ни странно, меня ничуть не смутила мысль о том, чтобы скорее помчаться в постель только что уехавшего обманутого супруга и валяться с его женой на его же свежевыстиранных простынях.
Но когда два вечера спустя, в половине десятого, я невольно остановился в нерешительности на опушке леса, глядя на дом по ту сторону темного луга, где только из одного окна пробивался неяркий свет, меня заставила двинуться дальше вовсе не страсть, и не жажда приключений, и не любовь к интригам. Это было скорее ощущение, что нужно завершить некий процесс, выполнить веление судьбы.
Нет, была и еще одна причина. Мне необходимо было увидеть лицо спящей Розеллы.
После того как огромная немецкая овчарка, залаявшая было при моем приближении, узнала меня и дружески завиляла хвостом, я подошел к дому. Стоя на гранитной ступеньке перед дверью в боковом крыле, я достал из кармана пиджака холодный ключ, который дала мне Розелла. Ощупью добрался до начала лестницы и остановился, вдыхая запахи чужого дома. Когда входишь в чужой дом (а это его крыло было мне совершенно незнакомо) при ярком свете, по вполне законному поводу, в окружении людей или даже просто один, то его запахов не замечаешь – они тонут в целом потопе ощущений, но в темноте и тишине запахи берут верх. Я стоял, отпустив перила лестницы, в слепом одиночестве собственного «я», и вдыхал полный тайны воздух, а выдыхая его, чувствовал, будто с каждым выдохом черная пустота, в которой я нахожусь, высасывает из меня и поглощает какую-то незаменимую часть моей души.
Но тут на верхней площадке лестницы забрезжил свет – по-видимому, из приоткрытой двери дальше по коридору, и мгновение спустя я услышал свое имя, произнесенное едва слышным шепотом.
– Да, – ответил я, заметив, что тоже говорю едва слышным шепотом, и стал подниматься по лестнице.
На верхней площадке навстречу мне протянулась бледная в полумраке рука, нащупала мою руку и в тишине, без единого слова, без единого объятия, повела меня к полоске света, падавшего из двери дальше по коридору.
Розелла первой проскользнула в узкую щель, словно оставленную из осторожности, и приоткрыла дверь изнутри еще на несколько дюймов, чтобы я мог пройти. Когда я вошел, она тихо закрыла ее – и мне показалось, что я услышал щелчок запираемого замка. Она стояла в двух шагах от меня, прислонившись к двери, держа руки за спиной – вероятно, все еще на дверной ручке, – но ее лицо было чуть приподнято и обращено ко мне, ее широко раскрытые глаза смотрели на меня с надеждой, мольбой, доверием и робким вопросом, а их цвет и блеск были почти неразличимы в неярком свете лампы на столике около большой кровати с балдахином, стоявшей перпендикулярно к дальней стене.
Я не двигался с места. Наверное, в ее чистом и открытом взгляде было что-то новое, что-то важное, что-то такое, от чего мои побуждения и ощущения, само мое существо перенеслись в какое-то новое измерение, где все было исполнено нежности и печали, но очертания предметов стали отчетливее, словно перед наступлением ночи над водой.
И еще – я как будто в первый раз ее увидел, или, точнее, как будто в первый раз остался с ней наедине. Я вдруг заметил, что ее халат, или пеньюар, или что там на ней было – из какой-то мягкой, легкой серой материи с голубым узором под цвет ее глаз – выглядел наподобие тех, что носили лет сто назад: высокая талия, ниспадающая до пола свободными складками юбка, кружевная отделка на вороте и запястьях. Может быть, в таком же одеянии когда-то, много лет назад, стояла ночью в этой самой комнате какая-то другая женщина, глядя с тем же выражением невинности, надежды и робкого вопроса на мужчину, застывшего на том самом месте, где сейчас был я.
Я хотел что-то сказать, но успел только произнести ее имя – она подняла правую руку и приложила палец к моим губам. «Тс-с-с!» – шепнула она, взяла меня за руку и через всю комнату – очень большую для спальни – подвела к глубокому креслу с бархатной обивкой пыльно-голубого цвета, стоявшему по ту сторону кровати, у камина. На кирпичном поду камина горел небольшой огонь.
– Сними пиджак, – сказала она.
Я повиновался и стоял, держа его в руке, пока она развязывала мой криво завязанный старый черный галстук. Взяв у меня пиджак, она бросила его вместе с галстуком на шезлонг, тоже пыльно-голубого цвета, по другую сторону камина.
– Сядь, – сказала она.
Я сел.
– Я хочу посидеть у тебя на коленях, – сказала она. – Я всегда этого хотела. Просто посидеть у тебя на коленях, и чтобы ты меня обнимал.
Она сбросила домашние туфли – их не было видно под ниспадающей юбкой – и стала вдруг маленькой и беззащитной. Потом исполнила то, чего всегда хотела, – села мне на колени, и я исполнил то, чего она всегда хотела от меня, – молча обнял ее. Когда я захотел что-то сказать, она снова приложила палец к моим губам.
– Не сейчас, – прошептала она. – Давай просто так посидим.
Через некоторое время она соскользнула у меня с колен, босиком подошла к камину и подложила дров, сказав, как она рада, что стоят такие холода не по сезону и можно развести огонь, что она всегда хотела посидеть у меня на коленях перед огнем. Заглянув за шезлонг, она достала из-за него ведерко со льдом. Я хотел встать, но она сказала:
– Не двигайся. Я это сама хорошо умею.
Что и доказала на деле, уверенно хлопнув пробкой, налив два бокала и поставив их на табуретку рядом с креслом. Потом снова свернулась у меня на коленях. Мы сделали по глотку – это оказалось довольно неудобно – и опять поставили бокалы на табуретку. Ее голова лежала на моем левом плече, моя левая рука обнимала ее, а правая придерживала ее согнутые колени. Мое лицо было погружено в ее волосы. Мы сидели неподвижно, лишь иногда протягивая руку за одним из бокалов, из которого оба делали по глотку.
Но бокалы были уже давно пусты, и от огня в камине остались одни угли, когда зазвонил телефон.
Я почувствовал, как она вздрогнула перед тем, как соскользнуть у меня с колен и подбежать к столику у кровати, где стоял телефон.
– Да, – сказала она. – Да, я оплачу разговор. Да, да, ну и как все прошло?
И в то самое время, как она произносила эти слова, ее правая рука протянулась к кровати и откинула старомодное покрывало. Я отметил про себя, что никаких нежных слов в трубку сказано не было.
– О, замечательно! Как я рада!
Она сделала паузу, слушая, а я пытался определить, насколько искренними были ее слова, или, вернее, ее тон. И все это время ее рука шарила по кровати, откидывая одеяло, расправляя простыни, выглядевшие при свете лампы на ночном столике свежими, хрустящими и белыми, – и я вдруг подумал, что очень скоро они будут измяты и в пятнах.
Ее голос время от времени произносил: «О, как я рада» или «Как жаль, что меня там не было», – откликаясь на что-то то, что она слышала в трубке, а тем временем она свободной рукой развязала поясок халата и спустила его с правого плеча – медленным, плавным, невинно-возбуждающим движением. Потом, все еще продолжая слушать, переложила трубку в другую руку, и халат, соскользнув с левого плеча, упал на пол. Под ним была белая ночная рубашка без рукавов, тоже просторными складками ниспадающая вниз.
– Да… Да… Да… – говорила она.
Тут она, уже сидя на краю кровати, откинулась назад, подняла колени и, свободной рукой стыдливо придерживая рубашку, скользнула под простыню.
У меня мелькнула мысль: интересно, что думает сейчас человек на том конце провода, слыша эти «да… да… да…», произносимые с радостным придыханием.
Она прикрыла трубку рукой.
– Джед! – позвала она хрипловатым шепотом, похлопав рукой по кровати рядом с собой, там, где простыня была откинута. Потом в трубку: – О, прости, я что-то прослушала.
Видя, что я не двигаюсь с места, она снова прикрыла трубку рукой и повернулась ко мне.
– Джед! – прошептала она умоляющим тоном. – Я хочу, чтобы ты был здесь, рядом со мной!
И в трубку:
– Я просто закашлялась. Ты же не хочешь, чтобы у тебя от этого лопнула барабанная перепонка, верно?.. Да, мне лучше. Нет, это не грипп, а живот… Да, прилетаю… Четырехчасовым рейсом… Да, расскажешь мне все-все, я умираю от нетерпения… Нет, встречать не надо.
К этому времени я стоял голый посреди комнаты и смотрел на свои старые фланелевые брюки, свисающие со спинки голубого бархатного кресла, на скомканные трусы на его сиденье, на нечищенные армейские ботинки, валяющиеся на ковре кремового цвета, – один лежал на боку, и его язычок торчал наружу. Все это – особенно ботинок, лежащий на боку, с покрытой грязью подошвой – выглядело очень смешно.
Крадучись я забрался в постель и лег чуть поодаль от Розеллы на спину, глядя в потолок.
– Да, да, – говорил ее голос. – Неужели всю «Сюиту»?
Я почувствовал, как ее рука ползет по моему животу.
Время от времени я продолжал слышать ее голос, и мне все казалось, что это я слушаю на том конце провода, но не пребываю в неведении, а знаю все.
Меня охватило дикое желание приподняться на локте, выхватить трубку из руки, которая ее держала, и крикнуть: «Эй, Лоуфорд, приятель! Угадай, кто это!» Я чуть не захихикал вслух.
Что ж, кое-какие проблемы это бы решило.
Но тут голос, звучавший рядом со мной, вдруг умолк. Я услышал щелчок трубки, положенной на рычаг, и почувствовал, как просел матрас рядом со мной под тяжестью опустившегося на него тела. Не поворачивая головы, я знал, что она тоже лежит на спине, глядя в потолок. Рука, которая ползла у меня по животу, теперь лежала неподвижно, держась за то, что она нащупывала.
– Ты прекрасно управилась, – сказал я.
– Если имелась в виду ирония, то я ее не уловила, – произнес голос рядом со мной.
– Откровенно говоря, не знаю, что имелось в виду, – сказал я.
Рука, державшаяся за то, что она нащупывала, разжалась, Розелла отодвинулась, приподнялась на локте и повернулась ко мне. Ее лицо с упавшими на него прядями волос было в глубокой тени, потому что свет падал сзади, но даже в тени ее широко раскрытые глаза сверкали.
– Что, по-твоему, мне надо было делать? – воскликнула она. – Это ведь мне пришлось отдуваться и что еще я могла сделать?
Слова лились неудержимым потоком.
– Какое-то безвыходное положение… Мы как в ловушке… И я делаю, что могу, и все, что я ни делаю, – это все ради тебя… Потому что я не могу без тебя…
Она немного помолчала.
– Я просто должна была привести тебя сюда сегодня, вот так, я не могла больше ждать… Ох, ведь я хотела, чтобы все было так нежно, ласково, спокойно, без спешки…
Она заплакала.
– Ну, будь со мной поласковее! – вскричала она. – Иначе я умру!
И уткнулась заплаканным лицом мне в грудь.
Я был нежен и ласков, насколько мог, как она меня просила и как хотелось мне самому, – и все было спокойно, и без спешки, и то, что последовало потом, было как будто естественным продолжением этих ласк и казалось их частью.
Почти до самого конца.
Я не стану входить в подробное геометрическое и клиническое описание того, что происходило, – уверяю, что все было как обычно. Но когда я почувствовал, что она уже близка к вершине страсти, она вдруг схватила мою правую руку, которая мяла ее левую грудь, и положила ее ладонью вниз себе на горло, заставив охватить его и прижимая ее своей рукой – разумеется, левой. То, что случилось сразу после этого, в судорогах и смятении последних секунд, не слишком отчетливо запечатлелось в моей памяти, но она все старалась заставить мои пальцы стиснуть ей горло, а я, тоже низвергаясь в пропасть, боролся не только с яростным нажимом пальцев потенциальной жертвы, но и с собственным темным побуждением, появившимся внезапно и как будто сопровождавшим апокалиптическую бурю в моем теле.
Потом мы отстранились друг от друга и лежали, не соприкасаясь, словно каждый из нас только что сделал для себя какое-то открытие, которое надо обдумать в молчании, темноте и одиночестве. Но через некоторое время она села, подсунув под спину подушку, и устремила неподвижный взгляд куда-то в пустоту.
– Он был просто вне себя от радости, – сказала она.
– Что? – переспросил я. Хотя я и расслышал ее слова, но во тьме, царившей внутри меня, не понял, к чему они относятся.
– Мой муж, – сказала она.
До сих пор я ни разу не слышал, чтобы она называла его так – «мой муж».
– Он был совершенно вне себя от радости, – продолжала она. – Он говорил и говорил. Все прошло так чертовски здорово. Да, и слава Богу, я надеюсь, что так будет и дальше, так мне будет намного легче – ох, ты не знаешь, какой он становится, когда у него начинается приступ черной меланхолии.
– Не уверен, что хочу это знать, – сказал я, не очень понимая, что имею в виду.
– Но сегодня он был просто вне себя от радости. Ни о чем больше не мог говорить, только о себе. Не вспомнил даже, что я больна, не спросил, как я… – Она впервые повернулась ко мне. – А, я знаю, ты считаешь, что это звучит как ирония, но…
– Я ничего не говорил.
– Ну конечно, это звучит как ирония, я-то знаю – это ведь вранье, что я больна. – Ее взгляд снова был устремлен в пустоту. – Но даже если бы я тут умирала, было бы то же самое. Все одно и то же, без остановки, все про этот проклятый вернисаж. О, я знаю, все женщины там так и крутятся вокруг него, он же так чертовски силен и красив, и его классический профиль так возвышается над всеми головами, как маяк на горизонте ночью, и от одного взгляда на него у них трусики мокнут – ну да, было время, когда и у меня тоже мокли…
Не поворачивая ко мне головы, она сказала:
– Принеси мне вина, пожалуйста.
Я подошел к ведерку со льдом и налил бокал.
– Оно выдохлось, – сказал я.
– Ничего, давай. Пожалуйста.
Она выпила вино, все еще глядя в пустоту. Я, голый, присел на корточки перед камином и стал раздувать угли, как-то по-особому ощущая свою наготу, чувствуя, как мои поникшие гениталии болтаются над кирпичным подом, как пот сохнет у меня на коже, как мерзнет моя спина, лишенная даже того тепла, которое давали слабые язычки пламени.
– Еще есть? – послышался ее голос.
– Нет, – ответил я, не сводя глаз с огня.
– Открой вон там вторую дверь, – сказала она. Я обернулся и увидел, что она указывает на одну из двух дверей в дальнем конце комнаты. – Это его гардеробная. Там увидишь маленький холодильник, в нем почти наверняка есть. Может быть, начатая, а если хочешь, открой новую.
И когда я двинулся к двери:
– Понимаешь, мой муж… Он любит, чтобы под рукой всегда было шампанское.
Я извлек начатую бутылку и вытащил пробку.
– Если хочешь, – сказала она, – там есть немного травки.
– Какой травки? – спросил я.
– Ну, марихуаны. В ближнем шкафу, который побольше, – там такая синяя коробка. Мой муж… – Она снова и снова, чуть подчеркнуто, пользовалась этими словами. – Он любит, чтобы немного было под рукой. Понимаешь, после трудного дня. Иногда немного шампанского. Иногда травка. И то и другое, разумеется, самого лучшего качества.
Я наливал вино, думая о Лоуфорде Каррингтоне – истинном олицетворении Нашвилла: как он блаженствует у камина после трудного дня, в красной пижаме и самом настоящем, неподдельном китайском халате на широких плечах, в турецких шлепанцах, в шотландском берете, а может быть, в подлинном микенском шлеме десятого века до нашей эры (если такой можно достать за деньги), с бокалом или самокруткой в изящных, но сильных пальцах и не спеша собирается с силами для предстоящей возни в спальне.
Я отнес вино Розелле. Взяв бокал и глядя прямо на меня, она сказала:
– А потом, после самого первосортного шампанского или самой первосортной травки из Акапулько, доходит очередь, конечно, и до меня. Потому что я… Я ведь, знаешь, тоже товар самого первого сорта. Раз я принадлежу ему, то и я просто обязана быть бабой самого первого сорта.
Сделав глоток, она добавила:
– Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать, как торжественно выражались мы в дагтонской школе.
– Он предлагает тебе покурить вместе с ним? – спросил я.
– Да, и я курю. И пить шампанское с ним он тоже меня заставляет, и восхищаться его высоким качеством. Все ради мира, вот мой девиз.
И потом:
– Теперь некоторое время поддерживать мир будет легче. После того как выставка в Нью-Йорке удалась. «Балетная сюита» уже продана. Какому-нибудь лысому развратнику, который всю ее поставит посреди пошлой роскоши кабинета, где он ворочает миллионами. Господи, я так и вижу эту картину. – Она помолчала, потом сделала еще глоток. – Ну, больше ни на что они и не годятся, – добавила она, разглядывая золотистые пузырьки в бокале.
– Это ведь ты ему позировала для этих вещей, да? – услышал я свой голос, прозвучавший в высшей степени непринужденно, и стал с большой осторожностью наливать себе вина.
– Да, – сказала она. Я поднял глаза, и наши взгляды встретились. – И дальше ты станешь так же походя и с дьявольской хитростью выпытывать, отдавалась ли я ему когда-нибудь по-настоящему.
Я хотел что-то сказать – наверное, «Ну и что, было это?», – но она избавила меня от такой глупости.
– Да, отдавалась, и это было замечательно.
У меня перехватило горло, и я не мог вымолвить ни слова – не знаю, правда, что я собирался сказать, – а она добавила:
– Только заметь, что глагол стоит в прошедшем времени – «было».
– Ну хорошо, – сказал я, – если так и если ты его, черт возьми, так ненавидишь…
– Посмотри! – воскликнула она. – Из-за тебя я на себя вино расплескала! А все твоя дурацкая болтовня.
– Тут еще есть, – сказал я и шагнул к ней, держа в руке бутылку.
– Да нет, я не хочу, не знаю даже, зачем я попросила, – сказала она и нагнулась, чтобы поставить бокал на ночной столик. Потом снова повернулась ко мне. – Я только хочу, чтобы мы перестали болтать о всякой ерунде, мы с тобой никогда не должны болтать о всякой ерунде, мы просто должны быть вместе и обо всем забыть…
Она стянула через голову мокрую рубашку, одной рукой швырнула ее на пол, а другой рукой, откинувшись на подушки, натянула на себя простыню.
– Обо всем, кроме тебя, Джед… Ох, Джед!
С этими словами она перевернулась и спрятала лицо в подушку. Поверх простыни видны были только распущенные волосы в золотых отблесках.
Я стоял посреди комнаты голый, как побритая обезьяна, утопая босыми ногами в пушистом кремовом ковре и в одной руке держа бутылку, а другой поднося к губам бокал, чтобы не спеша выпить его до дна. После этого я посмотрел на бутылку. Там оставалось так мало, что не стоило трудиться наливать. Я поднес ее к губам и допил прямо из горлышка. Потом поставил бокал и бутылку на каминную полку и направился к кровати.
Вот так.