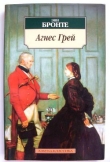Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
Красивая дама с выражением отчаяния на лице, которая, между прочим, была моей женой, уже понимала – предметом разговора будет «ничто», и это «ничто» становилось все ужаснее, поэтому она мне теперь призналась, что во время одной из своих недавних поездок в Нью-Йорк она попыталась сотворить «нечто», проведя выходные с очаровательным и достойным партнером в элегантном отеле. Относительно того «нечто», к которому она стремилась, то ей, как она мне сказала, было все равно – обернется ли оно сознанием вины и угрызениями совести или же сексуальным блаженством, желательно такого калибра, чтобы его можно было назвать любовью.
– Но все это… Ох, все было так, как будто… Как будто… – Она никак не могла подыскать сравнение, которое соответствовало бы масштабу открывшейся ей истины. – Ну, как будто пытаешься почувствовать себя виноватой в том, что сходила в туалет!
Она закрыла лицо руками и расплакалась.
– Ну да, ну да, – бормотал я сочувственно, гладя ее содрогающиеся от рыданий плечи.
– Ох, мы так старались сделать все как надо, – причитала она. – Чтобы в этом был какой-то смысл. Но ни в чем нет никакого смысла!
И она, схватив меня за руки, снова принялась плакать.
Так что в конечном счете «всё», о котором она хотела поговорить, превратилось в «ничто», и, как я ни старался, лично для себя никакого другого синонима для этого «всего», чем «ничто», мне подобрать не удалось. Я полагаю, весь тон моего предшествующего рассказа ясно свидетельствует о том, насколько мало отразилось происшедшее на моем эмоциональном состоянии. А Эфрейм словно растворился в воздухе, как будто его и не было. По крайней мере, никто из нас о нем и не упомянул.
Наш развод был весьма продуманным, весьма дружелюбным и даже исполненным взаимного уважения. Никаких выплат от меня не требовалось (она зарабатывала намного больше меня и была единственной дочерью очень богатой вдовы) – только символические ежемесячные суммы на содержание ребенка (на самом деле эту оговорку нарочно изобрели адвокаты, чтобы не оказалось уязвленным мое мужское достоинство), и я получил разрешение вволю общаться с Эфреймом, который, как настойчиво подчеркивала моя жена, так гордится своим «папа» (это слово прозвучало у нее с подлинным парижским шиком).
Впоследствии я иногда предавался размышлениям о том, насколько гордился бы он своим «папа», если бы видел его в те минуты, когда тот, стоя перед зеркалом в ванной, всматривается в кривоносое, потрепанное временем, залитое слезами и вымазанное остатками пены для бритья лицо, повторяя: «Но ведь я любил ее, любил – что же произошло?»
Или когда он, сидя на краю ванны с бритвой в руке, на которой засыхает мыльная пена, задает себе вопрос: «А любил ли я в жизни кого-нибудь вообще?»
Так шли годы. Несмотря на появившуюся одышку, я продолжал выполнять свою скромную программу в спортивном зале. Как сомнамбула, поднимался по темным лестницам и нажимал на грязные кнопки звонков, собирая подписи в пользу всяких благих дел. Я боролся за справедливое отношение к чернокожим американцам, выступал с речами и побывал в Селме, штат Алабама. Я участвовал в митингах против войны в Юго-Восточной Азии.
Перед первичными выборами 1968 года я агитировал за честность в политике, хотя некоторые из политиков, кичившихся своей честностью, опротивели мне до тошноты, – агитировал до тех пор, пока отвращение не пересилило. Но свой голос я все же отдал. Я с увлечением работал со студентами, уделяя им еще больше времени, чем раньше. Я публиковал статью за статьей, писал книги, получал новые и новые дипломы почетного доктора – и в стране, и за рубежом. Я сидел на заседаниях комиссий и составлял доклады, приобретя этим немало врагов, потому что всякое вранье все больше становилось мне поперек горла.
С сыном я виделся даже чаще, чем в последнее время перед разводом. Он проводил много времени у бабушки, потому что его мать, которая становилась все более известной, часто бывала в разъездах. Эфрейму моя квартирка на чердаке (в которую я вернулся, сочтя, что мне там самое место) представлялась, вероятно, романтической противоположностью той роскоши, к которой он привык. В школе он учился хорошо, даже блестяще, и любил спорить со мной на всякие серьезные темы. Мы совершали с ним пешеходные прогулки по Новой Англии и в горы Сиерры, где он ловил насекомых для своей коллекции. Я любил его, и меня к нему очень тянуло.
Что касается женщин, то здесь я, не особенно утруждаясь, плыл по течению. После развода я обнаружил, что мужчина в таком положении, если он не совсем уж беден и не страдает какой-нибудь тяжкой болезнью, становится предметом женского любопытства и интереса. Больше того, когда развод происходит в узком замкнутом кругу, каким является всякий университет, определенная часть принадлежащих к этом кругу женщин, как правило – хорошо сохранившиеся экземпляры лет за сорок, до сих пор вполне благополучно тянувшие супружескую лямку, улавливают некое новое веяние, лишаются покоя, возбужденно втягивают носом воздух и начинают задумываться об открывшихся – или на время, или навсегда – возможностях. В моем случае все те, кого я для себя находил или намечал, оказывались временными, и, видимо, так дело и должно было идти дальше до тех пор, пока этому вообще не придет конец.
Лишь однажды я оказался на грани женитьбы – на красивой аспирантке с величественной осанкой, высокой грудью и карими глазами, где играли золотистые искорки; она, неизвестно зачем наделенная немалым умом, вздумала заниматься наукой и порой, как это иногда случается, путала свое романтическое увлечение филологией с нежными чувствами к разлагающемуся трупу того или иного пожилого заслуженного профессора. Несколько раз она доставила мне большое удовольствие и даже несколько вскружила мне голову. Но в конце концов я объяснил ей что к чему и предоставил ей свой носовой платок, пока буря страстей не улеглась.
Так что к одиночеству я привык. Или, точнее, чем-то его так или иначе заполнил.
Я давно уже перестал мечтать об imperium intellectūs – хотя все еще был способен наслаждаться красиво выраженной мыслью или удачным сравнением. Я утратил последние остатки профессионального честолюбия и жажды славы. Когда-то я стремился к ней и находил этому стремлению разные метафизические оправдания, хоть и подсмеивался над собой. Но ныне мои исследования и писания, как и женщины, стали всего лишь способом как-то заполнить время, а поскольку времени, которое надо заполнить, у меня теперь было больше, то слава моя росла. Я старался быть добрым со студентами, но не давать им слишком много воли. У меня еще оставалось одно убеждение, и убеждение искреннее: что хороший специалист, владеющий техникой своего дела (обратите внимание на мою формулировку), – лучше, чем плохой.
А молодежь очень трогательна. Особенно если задумываешься о том, что, скорее всего, ждет ее на предстоящем каменистом жизненном пути.
Я страстно любил Эфрейма – так, что просыпался среди ночи и пытался молиться за него. Хотя молиться не умел.
Во всяком случае, Эфрейм был, по-видимому, не из тех мальчиков, за которых надо много молиться. Он с головой ушел в учебу в Массачусетсском технологическом, и, когда у него случалось время, чтобы заглянуть ко мне, нам было особо не о чем говорить из-за моего невежества. Но он все еще мог втянуть меня в философский спор. Больше всего ему нравилось подтрунивать над моими нелепыми представлениями о сущности науки.
Я чуть не забыл сказать, что за это время со мной случилось нечто очень важное. У меня появился друг. Я уже упоминал о нем раньше – это был младший брат моей бывшей тещи, тот сандек, который держал моего сына на коленях, выполняя почетную роль во время церемонии обрезания. Польский еврей, он молодым студентом-математиком воевал против русских в 1939 году, дважды попадал в плен, оба раза бежал. Когда его во второй раз снова поймали, в 1941 году, в лагере на острове Безымянном – по сути, лагере уничтожения – ему предложили выбрать: идти воевать против немцев или остаться в лагере, и он, убивавший немцев с таким же удовольствием, как и русских, сделал разумный выбор. Так что, как он впоследствии сказал мне на исключительно правильном и очень неестественном английском, война для него была «сплошным наслаждением»: вокруг одни враги и никаких друзей, и можно разить направо и налево, не боясь задеть своего. Он так успешно убивал немцев, что после войны ему было разрешено продолжать заниматься математикой; этому, несомненно, способствовало то обстоятельство, что бухгалтерия на острове Безымянном велась из рук вон плохо, и когда один поляк, Казимир Боровский, умер, вместо него из списков был вычеркнут Стефан Мостовский – мой будущий друг, который с тех пор числился гоем, пока не добрался до Страны Свободы и Родины Героев, где стал профессором физики, вернул себе свое еврейство и свое настоящее имя.
Может показаться, что у нас со Стефаном Мостовским не было ничего общего, однако мы стали настоящими друзьями. Или, может быть, мы стали настоящими друзьями потому, что у нас не было ничего общего. Впрочем, одно общее у нас было – одиночество. И каждый из нас мог рассказывать другому обо всем, что происходило с ним за многие годы и вело его к одиночеству. Я рассказывал ему про свое детство в Алабаме, про то, как гибель моего отца превратила его в легенду и предмет шуток, про все школьные драки, про мою безумную мечту с помощью двух слов на иностранном языке заглянуть в неведомый мне мир, залитый ослепительным светом разума. Я рассказал ему, что давно утратил веру в этот мир.
Я рассказал ему, как, ненавидя Юг, бежал оттуда и с тех пор всегда считал это причиной своего одиночества. Я бежал, но оказалось, что бежать мне некуда. Я рассказал ему, как пытался откупиться от одиночества, поддерживая всякие благие дела, но и здесь чувствовал себя неприкаянным, как самозванец, незаконно присвоивший себе добродетели истинного янки.
Однажды вечером, когда я дошел до этого места, Стефан жестом остановил меня.
– Но ты воевал за свою страну, – сказал он.
– Да, воевал, – согласился я. – И мне не нравился Гитлер, но если я и воевал за свою страну, то это было случайное совпадение. Я воевал – как когда-нибудь покажет история – за установление в западном мире разумной власти. Произойдет ли это, предвидеть, конечно, невозможно.
– А у меня, – сказал он, – нет такой страны, которую я мог бы считать своей, и я стараюсь научиться даже в этой ситуации быть счастливым.
И он заговорил о будущем мире без наций и государств:
– Мы ощущаем только первые судороги современности – смерть души, для которой больше нет места. Нам суждено превратиться в невероятно эффективные и бесчувственные механизмы, которые будут уметь – если «уметь» не слишком старомодное в данном случае слово – воспроизводить еще более эффективные и еще более бесчувственные механизмы. Давай выпьем – за совершенство. И за спасительный смех.
Что мы тут же и исполнили.
Поскольку фактический материал, которым мы располагали, был неистощим, мы могли до бесконечности делиться накопленными запасами одиночества. Должен признать, что у Стефана было передо мной одно преимущество. Физика – это, в сущности, наука об огромном пространстве одиночества, о бесконечном движении в бесконечном одиночестве. Предмет же моих исследований, как бы я и другие специалисты его ни позорили, иногда все же трактует о мгновениях человеческого общения, пусть иллюзорного, и о человеческом обществе, пусть и несовершенном.
Во всяком случае, мы со Стефаном часто беседовали до самого утра и до самого дна бутылки, как глупые юнцы, у которых все впереди. Не раз Стефан говорил мне, что я – единственный человек в Америке, способный его по-настоящему понять. А я чувствовал, что он понимает мою историю, которую сам я не понимал и даже не пытался делать вид, что понимаю.
Еще об одном я чуть не забыл рассказать. В двадцать пятую годовщину смерти Агнес Андресен я проснулся перед рассветом со странным ощущением – не печали, не утраты, не пустоты, а какой-то растерянности и неуверенности. Это ощущение не оставляло меня весь день, становясь все более навязчивым, острым и беспокойным. Только в четверть восьмого вечера, сидя в кафе, я вдруг все понял и, к изумлению сидевших вокруг, произнес вслух: «Она умрет сегодня ночью». И посмотрел на часы.
Ночным рейсом я прилетел в Миннеаполис, просидел несколько часов в аэропорту и поздним утром добрался до Рипли-Сити. Город стал намного больше, в нем появились многочисленные светофоры, новые элеваторы рядом с железнодорожными путями, несколько фабрик, целые кварталы жилых домиков в стиле ранчо, уходившие во все стороны далеко в прерию, и, разумеется, настоящий, хоть и не очень большой аэропорт вместо простого ангара, который я знал много лет назад.
Я пешком дошел до кладбища. Его тоже коснулось всеобщее процветание – настолько, что я с трудом нашел участок Андресенов. Хотя место рядом с Агнес все еще пустовало, как и место рядом с ее именем на надгробии, она теперь лежала там далеко не одна. Там лежал ее старший брат. Там лежал ее отец, там лежала ее мать, и мне представилось, что она сейчас лежит, улыбаясь, в их объятьях – самая способная из всех, кто вырос в Рипли-Сити, как сказал мне на похоронах трясущийся от старости директор школы. Я подумал о том, что провожать ее в колледж пришли на станцию все жители города, тогда еще совсем маленького, в большинстве своем – прихожане ее отца.
«Не нужно было ей уезжать, не нужно, не нужно!» – звучало в моем сердце, переполненном чувств, не имеющих названия.
Обедать мне не хотелось. Я разыскал церковь, в которой нас венчали и в цокольном помещении которой были поглощены после венчания полтонны сластей и цистерна кофе. Я нашел домик пастора, где вечером после похорон преклонил колени и молился вместе с ее отцом – или, точнее, вместо ее отца, который утратил дар молитвы. Я бродил по улицам и высматривал прежние фамилии на вывесках лавок и мастерских. Некоторые я нашел. Я заглянул в одну из них, где вывеска показалась мне победнее – это оказалась сапожная мастерская, – и сказал, что я муж Агнес Андресен. Грузный лысый человек в кожаном переднике, с узловатыми руками, в кожу которых навсегда въелась краска, и с глазами скандинавской небесной голубизны, как у Агнес, сказал: «ja, ja», он прекрасно помнит, его двоюродная сестра училась с ней в школе, все говорили, что она большая умница. Он сказал, что хотел бы пригласить меня к себе домой поужинать, но хозяйка не очень хорошо себя чувствует, так что не хочу ли я выпить с ним кока-колы?
Мы выпили кока-колы у стойки в аптечном магазине в двух кварталах от его мастерской. Мы пожали друг другу руки на прощанье, я съел в закусочной бутерброд и пешком дошел до аэропорта как раз вовремя, чтобы успеть на самолет до Миннеаполиса.
Я смотрел сверху на город, названный в честь отчаянного бригадного генерала федеральных войск, которого индейцы сиу в конце концов заманили в ловушку, и представлял себе крошку Агнес, которая вечно сидит на коленях у отца и не по возрасту бойко читает по слогам, осененная его вечной благословляющей улыбкой.
Пусть я и не собирался сюда возвращаться, однако мне здесь все же было отведено место, и приглашение все эти годы оставалось в силе. Но я знал, что теперь оно, хоть тогда и было высказано от души, каким-то таинственным образом стало недействительным.
В том зачарованном мирке, что окружал крошку, которая никогда не станет взрослой, места для меня не было.
Это было всего лишь совпадение, но как назвать совпадение, которое как будто доказывает, что все происходящее подчиняется неумолимой внутренней логике и предопределено судьбой? Как я уже говорил, свое первое эссе – «Данте и метафизика смерти», маленькое исследование, положившее начало моей карьере, я писал в состоянии почти гипнотического транса в то время, как умирала бедняжка Агнес, и, когда оно неожиданно получило признание, мне стало казаться, что этим я, в сущности, обрек ее на смерть. Мне стало казаться, что однажды в безлунную ночь на какой-то пустоши, где высились в темноте похожие на скелеты белые скалы, я заключил сделку с Владыкой Этого Мира, и он, будучи истинным джентльменом, скрупулезно выполнил обязательства, которые на себя взял, – выполнил, как я считал, полностью и до конца.
Но теперь, через двадцать пять лет после смерти Агнес, после того, как я, повинуясь какому-то таинственному побуждению, побывал в прериях Южной Дакоты, где давным-давно прощался с тем, что осталось от ее настрадавшегося тела, и вернулся на свой чердак, меня ждало там письмо весьма внушительного вида на элегантном официальном бланке «Universita di Roma, Facolta di lettere e Filosofia» – литературно-философского факультета Римского университета. Оно начиналось так: «Illustre Professore, Il ministero della Publica Istruzioni ci ha communicato il suo gradimento che…», – и, чтобы не пересказывать все любезности и околичности, это была еще одна почетная докторская степень, и на меня нахлынули воспоминания о тех годах молодости, когда я ходил там по древним камням одинокий, никому не известный, полный робкого любопытства и в крайне непрезентабельной военной форме, – задолго до того, как увидел Агнес Андресен и написал то эссе о Данте и метафизике смерти. Казалось, некие силы, все эти годы руководившие моими странствиями, напомнили Владыке Этого Мира, что одно его обязательство еще осталось невыполненным, и он, будучи истинным джентльменом, подкинул мне в почтовый ящик соответствующий документ.
Старая боль пронзила меня с новой силой. Я хотел порвать письмо, но тут мне пришло в голову: «Ведь сделка есть сделка, верно? И то, что требовалось от меня, я исполнил, разве нет?»
Церемония должна была состояться только в начале июня 1976 года, но, когда я разглядывал этот роскошный документ, у меня сразу же шевельнулось желание снова побывать в Италии, и причина его была куда глубже, чем простое тщеславие. Поэтому я взял отпуск на весенний семестр. Повод для этого был прекрасный: мне надо было проверить кое-что по источникам в библиотеке Британского музея, а после этого я мог провести некоторое время в Италии, чтобы дать возможность Владыке Этого Мира выполнить свое последнее обязательство.
Давным-давно, живя в горах среди моих головорезов, я узнал одну важную истину – с одиночеством можно бороться. Так что весенним утром 1976 года я выехал из Рима через древние Флавиевы ворота за рулем «харлея-девидсона», прошедшего через пять или шесть рук (и, вероятно, первоначально украденного из гаража какой-нибудь американской воинской части), в берете, защитных очках и с костюмом в рюкзаке на случай, если понадобится выглядеть прилично.
Можно сказать, что мое путешествие началось еще до того, как я выехал из Рима; по счастливому стечению обстоятельств мне попалась на глаза заметка в газете, где говорилось, что знаменитый карикатурист «Карло» – в действительности Джакомо Антонио Рьети, в свое время воевавший в партизанах. Джакомо – именно так звали того головореза, который расписал забористыми смешными рисунками побеленные стены нашего подземного убежища, превратив его в нечто среднее между Сикстинской капеллой и борделем в самый разгар субботней оргии. Я написал этому «Карло», что робкий американский «capitano» хотел бы встретиться с ним, чтобы поболтать о прежних временах. Он не только пригласил меня в Милан, где теперь жил, но и сообщил имена других наших старых товарищей, принадлежавших теперь к самым разным слоям общества. Среди них был и механик-коммунист, продавший мне мотоцикл, на котором я вскоре несся среди холмов Сиены – округлых холмов в пустынном желтом или желто-сером мире, пустота которого, как и пустота жизни, лучше всего передана на замечательной фреске Симоне Мартини в сиенском Palazzo Publico.
Я отправлюсь прямо туда, в Palazzo, встану в дверях и буду разглядывать рыцаря в узорном плаще, который скачет по опустошенному миру с изображенными на заднем плане игрушечными укрепленными городами – по миру, где, по-видимому, нет ни живой души. Этот рыцарь, скачущий по опустошенному миру, – единственный признак и источник жизни в этом мире, и я вспомнил, как давным-давно, когда война, моя маленькая война, с грохотом катилась на север, я, стоя в Сиене перед этой фреской, увидел пустой мир – и только рыцарь на фреске скакал куда-то, чтобы выполнить свою неведомую миссию. Покрытый пылью зритель, который будет глазеть на него в величественном зале дворца, не имеет никакой миссии. И так будет, пока он не вспомнит, что вскоре вновь встретится со своими головорезами – своими единственными друзьями.
И вот теперь – сколько лет спустя! – я, направляясь в Сиену, мчался мимо холмов, испещренных в это краткое время года зеленью дрока, – единственного растения, способного выжить на их склонах, и золотом его цветов. После долгих месяцев унылого зимнего бесплодия и перед палящим бесплодием лета эта зелено-золотая вспышка казалась свидетельством того, что усилия, затрачиваемые в борьбе за жизнь, не всегда остаются напрасными.
Кроме посещения рыцаря, мне предстоял в Сиене еще один визит – к старому товарищу по оружию (тоже благодаря «Карло»). Я сравнительно легко разыскал элегантное, не без претензий, здание явно процветающей фирмы по производству оптики – всяческих микроскопов, биноклей и очков. Ее сотрудники, все в форменных белых халатах, сочли мое желание встретиться с «il Dottore» достойным лишь презрения – до тех пор, пока ему не передали мою записку.
После этого «il Dottore» принял меня. Он разглядывал меня своими водянистыми глазами чуть навыкате, как у рыбы (за тридцать лет я забыл, какие у него глаза), – которые могли служить лучшей рекламой его фирмы, поскольку каждый из них плавал в собственном громадном аквариуме своей половины очков, – ничуть не любезнее, чем его подчиненные в белых халатах, но в конце концов согласился после рабочего дня выпить со мной. Часа два я, прихлебывая виски, сидел на террасе кафе и наслаждался видом башни на другой стороне площади Кампо, сочетающей в себе грациозность лилии на высоком стебле с неким математическим ожесточением строителя.
Ровно в 6.00 явился «il Dottore» с таким видом, будто собирался проверить мое зрение. Но вместо этого он долго разглядывал мои вельветовые штаны, красную рубашку, ботинки и берет и, судя по всему, решил, что я хочу не проверить зрение, а попросить взаймы. Чтобы разуверить его, а заодно удовлетворить собственное тщеславие, я предъявил ему несколько вырезок из римских газет. Он с явным облегчением пробормотал какие-то вежливые слова, но облегчение оказалось лишь кратковременным: я сразу взял быка за рога, напомнив о нашем партизанском прошлом, потому что кафе понемногу заполняла хорошо одетая публика отнюдь не партизанского вида. Его даже бросило в пот, когда я сказал, что разыскиваю товарищей по оружию, потому что то время было для меня очень важным и я хотел бы вновь испытать тогдашние ощущения, почувствовать его дух.
– Обо всей этой романтике молодости пора бы забыть, – выдавил он из себя, и я явственно увидел, как стекла его очков-аквариумов быстро зарастают густой, полупрозрачной зеленоватой слизью водорослей. Из чистого садизма я принялся напоминать ему о наших былых подвигах – в больших подробностях и очень громко. Он вертелся на стуле, как гость с полным мочевым пузырем на панихиде, так что в конце концов я сунул под блюдечко деньги и поблагодарил его за встречу. Он поспешно встал и протянул мне руку, пробормотав: «Grazie, grazie mille».
Я схватил его руку и попрощался. Но его ответное пожатие было очень слабым. На глаза за стеклами аквариумов навернулись слезы жалости к самому себе.
– Ciao! – воскликнул я, помахал ему рукой и громко произнес: – Caro vecchio ammazzacristiano! [27]27
До свидания, дорогой мой старый сукин сын (ит.).
[Закрыть]
Я продолжал свои розыски. Иногда прежние приятели предавались со мной воспоминаниям о добрых старых временах, словно речь шла о каком-нибудь особо веселом бойскаутском лагере. Или я сидел на террасе огромной виллы с видом на залитое светом звезд озеро Лаго-Маджоре, и прежний товарищ по оружию плакал, рассказывая мне, что у его жены только что появился молодой любовник, а он – которого я знал отчаянным храбрецом с пружинистой походкой пантеры – жалкий трус, потому что не может пристрелить любовника и покончить с собой, а вместо этого только пьет целыми днями. Он заявил, что весь мир прогнил, и он скоро станет маоистом – что он и сделал, как я впоследствии узнал из газет, и был застрелен полицейскими при попытке ограбления скорого поезда.
С другим старым товарищем я сидел за роскошным обеденным столом, потягивая изысканные вина, и слушал, как он хвастает своим состоянием, нажитым «all’americana» – на американский манер – на трущобах, наспех кое-как построенных в окрестностях Рима, ниже уровня Тибра. «Народ! – воскликнул он. – Нужно работать для народа! В этом смысл жизни!» И добавил: «Наше дело – святое, ведь в него вкладывает деньги и Ватикан!» И многозначительно подмигнул.
Но в Милане я встретился с «Карло» – с тем серьезным молодым художником, который на побеленных стенах нашего убежища упражнял свой впоследствии весьма хорошо оплачиваемый талант к забористому остроумию и беспощадной социальной критике и который теперь навел меня на след моего святого.
– Нет, – сказал он, расхаживая по гостиной своей в высшей степени элегантно отделанной в современном стиле миланской квартиры, изящно поворачиваясь, словно танцор, несмотря на свою округлость, и размахивая дорогой гаванской сигарой. – Нет, святому не место в этом мире, как и художнику. Смотри! – Он ткнул горящей сигарой в середину большой картины в дорогой раме, висевшей на стене. – Это единственная из моих так называемых серьезных работ, которую я сохранил. Все остальные уничтожил, а эту сохранил. Я думал, в ней – как бы это сказать – что-то есть. Может быть, в ней и вправду что-то есть – смесь благоговения, которое люди в прежние времена питали к этому миру, с новым постэйнштейновским его видением. Да – и вот почему я сейчас наконец-то прожег его сигарой – очень хорошей сигарой к тому же. Посмотри, дыра увеличивается. Уже занялся холст, расплетаются и тлеют нити. Эй, Сильвьета, погаси свет, – велел он своей красотке подруге. – Чтобы мы видели, как расползаются эти веселые красные червячки, которых ждет вечная тьма!
Подруга повиновалась.
– Завтра я возвращаюсь к сексу и политике. Они никогда не подведут, потому что и то и другое – не только самое долговечное, но и самое занятное, что есть в этом мире! – Снова включив свет, он сказал: – Но вернемся к нашему святому. Я имею о нем кое-какие достоверные сведения, и раз уж ты хочешь вернуть себе немного прежнего смысла жизни, ты должен повидаться с ним. Может быть, он даже уговорит тебя тоже стать святым, и тогда у нас будет два праведника!
Он подошел к стене, еще раз посмотрел на огромную дыру в своем полотне и налил нам благородного французского коньяка.
– Но святые непредсказуемы, – сказал он, – так что будь осторожен.
– Буду, насколько это окажется необходимо, – пообещал я.
– Кто бы мог подумать! – воскликнул он. – И это не кто иной, как наш Джанлуиджи, наш bell’uomo, наш красавец, которому эсэсовцы так разукрасили физиономию, которому они вырвали столько ногтей, – Джанлуиджи, которому мы всегда передавали пленных героев, не желавших говорить, и который всегда заставлял их рассказать все! Мы называли его нашей светской властью – помнишь? – ха-ха! И не кто иной, как он, оказался нашим святым!
– Ты уверен, что я смогу его найти?
– Конечно. Поезжай в деревню Аббадия-Сан-Сальваторе и разыщи последних четверых или пятерых монахов-цистерцианцев, которые остались там, на горе Амиата. У тамошних жителей горячая кровь, и никогда не знаешь, куда их заведет – в политику, в кровную месть или в набожность. В прошлом веке там был даже некий Лаццаретти, который сначала был доморощенным святым, а потом провозгласил себя явившимся в мир Спасителем. Позже, в 1878-м, его пристрелили карабинеры, чтобы не устраивал беспорядков. Там, на Амиате, они до того невежественны и упрямы, что даже летом 1948-го ничего не слыхали о приходе к власти демохристиан, устроили свою маленькую революцию, а потом веселились на площади, а молодого карабинера, который хотел только узнать, что происходит, разорвали в клочки. Ха-ха, они решили, что он казак! Потом явились полицейские, ну, они никому спуску не дают. Так вот, тогда у нашего святого и случился душевный перелом. Теперь он не может убить и мухи. Он – Тот Сумасшедший, Который Помогает Людям. Живет в лесу, в хижине, питается одними сухарями, пьет только холодную воду, много молится и изо всех сил старается помогать старикам, больным и увечным. Это он и есть.
С помощью одного из последних монахов-цистерцианцев, которые раскапывали руины крипты восьмого века, я разыскал среди гор, ущелий, лесов и заброшенных шахт, где добывали киноварь, нашего святого, и он рассказал мне, как лежит без сна ночи напролет, молясь за души людей, которых убил на войне. Он жил в пещере в полосе хвойных лесов, которые сменяют расположенные ниже по склону заросли бука. Он сказал мне:
– Я живу так, как должны жить все, кто, делая то, что казалось им необходимым, загубили свою душу. Я избран Богом, потому что гордился тем, что меня называли красавцем, и Бог изуродовал мое лицо, чтобы научить меня смирению. Но из-за грехов, совершенных моей плотью, я теперь не смею войти в церковь. Я лежу под дождем на камне снаружи и молюсь о том, чтобы стать достойным причастия.
Он разделил со мной сухарь, дал мне кружку воды из родника и обнял меня. Я расцеловал его в обе щеки, покрытые темно-красными шрамами в те дни, когда еще он не был святым.
Ночь я провел в деревенской гостинице, в шесть часов утра выпил того, что там называют кофе, и через полчаса уже спускался с горы на старом армейском мотоцикле, чувствуя какую-то пустоту и в сердце, и в голове. Что бы я ни искал, я этого, судя по всему, не нашел. Более того, я утратил даже те иллюзии, с которыми отправлялся в путь. И осталась со мной лишь старая истина, к которой все мы так отчаянно стремимся и которую, как неизменно выясняется, мы знаем с самого начала: каждый должен прожить свою собственную жизнь, а узнать, какой в ней смысл, у него все равно мало шансов.
Мне еще предстоял Рим и «римские похороны», как называл подобные церемонии доктор Штальман, и я надеялся, что тщеславие поможет мне это пережить. Влившись в поток машин, я направился к своему отелю с горячей водой, которая в том момент была мне очень нужна.