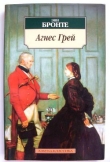Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Глава XIII
Когда самолет накренился на вираже перед тем, как пойти на снижение, у меня перед глазами впервые мелькнули белые пляжи и купоросно-зеленые деревья за ними, а когда мы уже заходили на посадку со стороны суши, за этими же пляжами простирался в бесконечность Атлантический океан, сверкавший под ярким солнцем, и это была Флорида – как на открытке или в любительском фильме, снятом каким-нибудь туристом. В точности такая, какой она и должна быть.
Я оставил Нашвилл весной, запоздавшей на несколько недель, а когда теперь, спустя не так уж много – легко подсчитать – минут, вышел из самолета в раскаленное лето, это было как сокрушительный удар каратиста. Потом, оказавшись после слепящего солнца в слепой полутьме аэропорта, я щурился на улыбавшиеся и вполне обыкновенные, но какие-то призрачные лица, которые, казалось, плавали в воздухе, – меня встречала университетская делегация, состоявшая отчасти из дряхлых стариков, а отчасти из юнцов с пушком на подбородке, – пожимал руки и сообщал, что долетел прекрасно, да, я впервые во Флориде, да, то, что я увидел, мне нравится, еще бы.
А мне еще многое предстояло увидеть.
В этом мире блеска и расплывчатых пятен, пурпурных просторов и зеленых, тенистых до черноты аркад все казалось немного нереальным. И стеклянное, шикарное, угловатое, торчащее во все стороны здание университета, которое обошлось легендарному мистеру Карлосу Стаффорду в миллионы долларов. И бесчисленные пары голубых глаз, которые казались почти белыми на прокаленных солнцем лицах. И волосы, мужские и женские, выцветшие до того, что наводили на мысль о поле спелого овса перед жатвой. И почти обнаженные тела гогеновских тонов, раскинувшиеся без счета и порядка по белому песку. И инкунабулы в музее книги Библиотеки имени Эмили Стаффорд. И частокол покачивающихся мачт у причалов, которые как будто ожидали студентов для зачета по парусному спорту. И звук моего собственного голоса, когда я, глядя сверху вниз на ряды вежливо-равнодушных, большей частью немолодых лиц, с изумлением прислушивался к той идиотской чуши, которую нес. Единственной реальностью, которую я наконец ощутил, было постукивание льдинок в стакане, который я держал в руке, когда, честно выполнив свой долг, сидел без сил в профессорском клубе, окруженный цветом местной учености, и произносил какие-то невразумительные звуки, которые, как я надеялся, могли сойти за разговор.
Мой стакан наполняли трижды – хотя в третий раз с заметной неохотой. Тем не менее я все сидел, размышляя о том, неужели когда-нибудь стану таким же старым, как и те, кто сидит здесь со мной. После третьего стакана я решил, что можно рискнуть и отправиться спать.
Риск не оправдался. В три часа ночи я еще лежал, глядя в потолок. А в половине четвертого сидел за столом, в пижаме и босиком, уставившись на письмо, которое лежало под лампой.
Письмо принес мне посыльный – дядюшка Тад – ранним утром в тот же самый день, перед тем, как я отправился в аэропорт. В самолете я прочитал его, наверное, раз двадцать. Теперь я снова его перечитывал.
«Дорогой мистер Тьюксбери, – или лучше Джед, я пишу это письмо, рискуя получить по рукам за то, что лезу не в свое дело, но все же иду на этот риск. Если вы, прибыв во Флориду, сразу позвоните по телефону, указанному ниже, и спросите мистера Эла Диксона, который будет предупрежден о вашем звонке, то он предоставит вам кое-какие сведения, которые могут оказаться полезными, когда вы будете, как я предполагаю, принимать решения. Я незнакома с мистером Диксоном, но из самых надежных источников мне известно, что он заслуживает доверия и скрупулезно честен.
Имейте в виду, что, если вы позвоните ему и воспользуетесь его информацией, это не налагает на вас никаких обязательств.
Искренне ваша, восхищенная и благодарная ученица Ребекка (Ди-Ди) Каррингтон Джонс-Толбот.
P.S. Фирма называется „Информейшн Инкорпорейтед“».
Каждый раз, когда я перечитывал это письмо в самолете, у меня сначала появлялось желание дать по рукам своей восхищенной и благодарной ученице, как она и намекала. И сейчас, когда я снова перечитывал письмо посреди ночи, у меня поначалу опять появилось то же желание. Но, как и тогда в самолете, первоначальное раздражение понемногу перешло в страх перед утратой – страх навсегда потерять это «corps charmant»; и, когда при этом у меня в памяти возникал его образ, я с трепетом ощущал на правом бедре ту самую двойственную стигму – след раскаленно-ледяного ножа. И все же, читая и перечитывая письмо в самолете, я, не в силах бороться с неизбежностью, понимал, что в конце концов позвоню по этому телефону.
И утром, сразу после прибытия, несмотря на то что вокруг телефонной будки стояла в ожидании вся университетская делегация, я действительно позвонил. А сейчас, посреди ночи, я знал, что утром, после варварски раннего завтрака, сяду в самолет и полечу в Форт-Лодердейл, чтобы встретиться, как мы и договорились, с мистером Элом Диксоном из фирмы «Информейшн Инкорпорейтед».
Поднявшись из-за стола, я стоял босиком посреди роскошных апартаментов, которые предоставляет почетным гостям Стаффордский университет, вдыхая кондиционированный воздух этого дорогого пристанища. И тут я осознал, что у меня перед глазами – другой образ, который – когда? одну секунду, пять, десять секунд назад? – вытеснил тот, прежний.
Это было другое лицо – черные волосы с белой прядью слева, рассыпавшиеся по подушке, немного запрокинутая назад голова, взгляд, устремленный куда-то вдаль, сквозь потолок, и приоткрытые губы с чуть опущенными уголками. Это было то самое лицо, которое я видел в солнечный декабрьский день, когда она, словно в замедленной съемке или в сновидении, вместе с конем парила в воздухе над барьером, выставив вперед навстречу ветру лицо, возбужденное и в то же время странно спокойное. Сейчас лицо, стоявшее у меня перед глазами, тоже было странно спокойным, хотя приоткрытые губы с каждым вдохом жадно хватали воздух, и ритм этому бурному дыханию задавал не топот копыт по упругому дерну, а синхронные движения двух переплетенных нагих тел, все ускорявшиеся, словно перед прыжком вверх, в сияющую небесную голубизну.
И тут я снова вспомнил, как в тот же солнечный декабрьский день Розелла, не сводившая глаз с лица всадницы, когда та взлетела над барьером, повернулась ко мне и с неожиданной горячностью восхищенно воскликнула, что вот эта женщина, только что взлетевшая со своим конем в небо, и есть тот единственный человек, на которого она хотела бы быть похожей, – она способна отдаваться всей душой, от чистого сердца. Да, именно эти слова произнесла тогда Розелла: «всей душой, от чистого сердца».
И это воспоминание ничуть не помогло мне разобраться в собственных чувствах, когда я стоял посреди комнаты во Флориде задолго до рассвета.
Я снова сел за стол, бросил взгляд на письмо, белым пятном лежавшее на темном паркете, и меня охватило отчаяние при мысли о том, что утром я полечу в Форт-Лодердейл на встречу, о которой вчера договорился по телефону.
Прежде чем покинуть Форт-Лодердейл два дня спустя, я должен был сделать еще один визит, от которого не ожидал никакой практической пользы. Я взял такси, доехал до Бугенвиллея-Драйв, нашел нужный номер и велел шоферу ждать за углом. Номер был обозначен коваными железными цифрами на массивном столбе ворот – столб был, в сущности, частью толстой стены, выкрашенной в оранжевый цвет под необожженный кирпич, с красной черепицей по верху. Стена окружала то, что мистер Батлер безусловно мог, учитывая размер территории и стоимость в долларах каждого ее квадратного фута, называть своим поместьем.
Там и сям поверх стены действительно свешивались ветки бугенвиллей. Тяжелые кованые железные ворота – каждая из воротин опиралась на колесико, катающееся по стальному рельсу в виде полуокружности, – были плотно закрыты. Но в промежутки между их железными завитушками, листьями и спиралями можно было видеть ведущую к дому подъездную дорожку, усыпанную белым ракушечным песком, которая – выражаясь языком торговца недвижимостью – живописно извивалась по живописному газону. Над газоном, больше всего напоминавшим зеленое сукно дорогого биллиарда, какой наверняка стоял в игральной комнате в доме мистера Батлера, сверкали в предвечернем свете брызги воды из поливальных установок. Подальше был виден сам дом, очень большой и неуклюжий, выстроенный в популярном среди богачей 20-х годов стиле – испанская миссия пополам с Голливудом – и выкрашенный в тот же оранжевый цвет под необожженный кирпич, с торчащими темно-коричневыми деревянными балками. Вдоль стен резали глаз кричащие краски цветов на куртинах и клумбах. Перед аркой входа, погруженного в глубокую тень, стоял на дорожке серебристый «роллс-ройс».
Я еще никогда не бывал в таком доме – то есть в доме такого типа. Но, пока я стоял там, у меня появилось очень странное чувство – как будто я вообще никогда не бывал в домах, где живут богатые люди, не бывал ни у Каррингтонов, ни у миссис Джонс-Толбот, ни даже в старом «замке Отранто». Стоя перед закрытыми воротами и заглядывая в промежутки между железными завитушками и спиралями, я пытался представить себе, как выглядит дом внутри. Наверное, как в каком-нибудь фильме – прохлада, глубокая тень, солнечные лучи, пробивающиеся кое-где сквозь листья и жалюзи, плиточные полы, множество мягких диванов, кушеток и подушек для сиденья, журчание фонтана где-то неподалеку…
В этом доме жених «мисс Воображалы», старый Батлер, был надежно огражден от всех жизненных неприятностей, он старался вести шикарную светскую жизнь, и я представил себе вечер в этом доме, гостей в элегантных костюмах и рядом со старым Батлером – девушку только что из колледжа, его невесту, элегантнее всех, и все это в полутьме, где светятся белизной только крахмальные рубашки мужчин и обнаженные плечи женщин, откуда-то доносится журчание фонтана, и слышно слабое жужжание проектора, показывающего один из тех порнографических фильмов, которыми мистер Батлер обычно развлекал это избранное общество.
Когда я стоял там, меня вдруг охватила огромная грусть и жалость, не знаю почему. А потом я понял, что все это время, заглядывая за закрытые ворота, пытался пережить то, что переживала Розелла Хардкасл, стоя на этом самом месте перед воротами в ту пору ее жизни, когда она еще ни разу не бывала в таком богатом доме, заглядывая внутрь и стараясь представить себе, каково было бы там оказаться.
У меня на глаза навернулись слезы.
Потому что я спросил себя – нет, скорее почувствовал, что меня терзает невысказанный вопрос, – как было бы все теперь, если бы давным-давно, июньским вечером, под приглушенную музыку, доносившуюся из спортзала, где шел выпускной вечер дагтонской школы, я вместо того, чтобы ограничиться единственным ритуальным поцелуем, о котором так жалостно и так расчетливо просила Розелла, обнял бы ее и подтащил бы к себе через просторное кожаное переднее сиденье «крайслера», не обращая внимания на торчавший между нами рычаг переключения скоростей.
Но все было так, как было.
И, поскольку все было так, как было, я уже в сумерках прибыл в аэропорт Нашвилла, взял со стоянки свою машину, поехал в свой дом на опушке леса и весь вечер ждал телефонного звонка, которого так и не дождался.
Следующий день я должен был провести в университете, но утром ждал, сколько мог, прежде чем пришлось уехать. Там, в университете, у меня в кабинете после обеда зазвонил телефон. Какой-то незнакомый голос спросил, здесь ли профессор Тьюксбери. Я сказал, что это я, и голос, внезапно ставший знакомым, произнес:
– Джед!
И еще раз:
– Ох, Джед!
Я стиснул в руке трубку так, что она чуть не треснула, и все уроки истории на мгновение вылетели у меня из головы. Мне с трудом удалось выговорить:
– Когда?
– Только в понедельник, – сказал голос. Потом прошептал: – О Господи!
В понедельник я должен был во второй половине дня принимать экзамен у студентов. Но я решил, что как-нибудь это улажу, и сказал:
– Да.
– Я была просто в отчаянии, никак не могла с тобой связаться, – сказал голос.
Я сказал, что это очень жалко.
– Тебя так долго не было! – сказал голос. – Ну почему ты уехал так надолго?
Голова у меня шла кругом, я все еще изо всех сил сжимал в руке трубку, а студент, сидевший напротив меня, через стол, делал вид, что не слушает. Я сказал деловым, безличным тоном:
– Понимаешь, я сейчас занят. Я все тебе расскажу, когда увидимся.
– О Господи! – произнес голос, слабый и далекий, и я услышал щелчок – там положили трубку.
Я сидел, все еще судорожно сжимая трубку в руке и уставившись на нее. Потом заметил взгляд студента и положил трубку.
– Что касается рекомендации, которую вы просите, – сказал я ему, – то ответ – «да». И рекомендация будет похвальная.
Да, жить надо. Всем жить надо. Этому мальчику надо жить, надо поступить в аспирантуру. Во всем мире люди стараются как-то жить.
Прожить день. Прожить ночь.
«Ну хорошо, – подумал я, взглянув на лежавший на столе набитый портфель, когда дверь за студентом закрылась. – По крайней мере, у меня есть курсовые работы моего семинара, которые надо прочесть. С их помощью я как-нибудь дотяну до понедельника». Я вспомнил, что помимо курсовых у меня есть и еще кое-какие дела.
Я снова принялся разбираться в бумагах, накопившихся в ящиках стола. Покончив с ними, я взялся за телефон. Номер во Флориде сначала был все время занят, а потом не отвечал, – по-видимому, придется ждать до понедельника.
Я чуть не забыл подписать заявление, которое принес студент, но вовремя его заметил. Всем надо как-то жить, верно?
В понедельник, возвращаясь в полдень из университета, я намеревался перехватить ее в кухне – усадить за кухонный стол, сесть напротив и разговаривать все время только через стол, при неумолимом солнечном свете. Но я плохо рассчитал время. За пятнадцать минут до того, как она, по моим расчетам, должна была прийти, я был в гараже и еще не успел закрыть багажник своей машины, когда услышал, как хлопнула задняя дверь дома.
Когда я вошел в кухню, там никого не было, и я в мельчайших подробностях помню охватившее меня легкое возбуждение, за которым последовал укол стыда и чувства вины, а потом облегчение при мысли, что это не я виноват, что не я заставил ее прийти раньше. Я запер наружную дверь и, круто повернувшись, большими бесшумными шагами направился туда, где, как я знал, должна была быть она.
Она стояла там в голубом летнем платье с какими-то белыми кантиками, и вид у ней был невинно-девический, совсем неуместный в полумраке неубранной спальни, где сегодня царил еще больший беспорядок, чем обычно. Войдя в спальню, я остановился. Она не шевельнулась и не сказала ни слова, а только смотрела на меня, и в ее глазах, раскрытых еще шире, чем обычно, и блестевших в полумраке еще сильнее, чем обычно, было выражение нежности и печали. Потом она произнесла почти шепотом:
– Джед.
И потом:
– Ох, Джед!
В точности как по телефону, и я, стараясь ни о чем не вспомнить, чувствуя только, как бьется кровь в висках, медленно подошел и остановился перед ней.
И тут, как и в тот день тысячу лет назад, в июне, в пустом коридоре дагтонской школы, в тот день, когда Розелла Хардкасл, эта Прекрасная Принцесса, зардевшись, пригласила меня пойти с ней на выпускной вечер, – я хочу сказать, что сейчас, в этой полутемной комнате в Теннесси, я снова увидел это лицо, обращенное ко мне с выражением той же грустной, робкой, фаталистической невинности, и руку, умоляюще протянутую ко мне пустой ладонью вверх.
Я стоял неподвижно, словно в столбняке, запутавшись в этом роковом смешении времен, и ждал, когда что-то случится. Что-то и случилось, но совсем не то, что я мог предвидеть. Она опустила свою умоляющую ладонь и вдруг, опустившись на колени, схватила меня за руку – левую – и прижала ее к лицу, покрывая ее нежными легкими поцелуями и в промежутках между ними шепча, что не может без меня жить.
Я почувствовал, что моя рука стала влажной, но не там, где она ее целовала, и понял, почему ее глаза так блестели даже в полумраке.
Вот так все получилось в тот день.
Потом, когда я лежал, все еще ошеломленный происшедшим, вновь убедившись, что переплетение тел – единственное, ради чего стоит жить на свете, у меня в то же время появилось чувство бессилия, такое ощущение, словно меня заманили в ловушку, словно кто-то может в любой момент походя прочитать мои самые тайные мысли и с презрительной легкостью разрушить мои самые хитроумные планы.
Но кто?
Эта девушка, лежащая сейчас рядом со мной?
Или она каждым своим словом и движением всего лишь разыгрывает неумолимый, давным-давно написанный сценарий, столь же бессильная его изменить, как и я?
Все эти мысли вертелись у меня в голове, когда она, лежа рядом со мной и снова держа меня за руку, сказала:
– Я звонила без конца, когда только у меня была возможность, но никто не отвечал.
– Я вернулся в четверг вечером, – сказал я.
После долгой паузы она спросила:
– Почему ты так задержался?
– Надо было.
– Но почему? Почему? – И потом: – Я думала, что умру.
Я не сводил глаз с трещины в потолке.
– Когда ты впервые познакомилась с Лоуфордом Каррингтоном?
В наступившем молчании у меня было достаточно времени, чтобы хорошо изучить эту трещину. Я чувствовал, что ее глаза тоже устремлены на нее.
Наконец она сказала:
– Ну, надо подумать… Это было на вечеринке в Нью-Йорке… Или на Лонг-Айленде? Я уехала туда, в восточные штаты, после… после того, как все это случилось. Уехала от всего этого…
Ее перебил мой голос – в ту минуту я слышал его словно со стороны, – отменно спокойный и объективный:
– Двадцать первого февраля сорок шестого года вы были уже достаточно хорошо знакомы, чтобы ты отправилась с ним кататься по морю на катере, который он арендовал. Конечно, возможно, что это было в первый раз. Катер назывался «Чайка». Если помнишь.
Эту информацию я получил только в то утро. Мне все же удалось дозвониться до Флориды.
И вот я это высказал.
Ее рука, державшая мою руку, крепко стиснула ее, а потом отбросила в сторону.
– Неужели ты ничего не понимаешь? – воскликнула она.
– Ну, ведь я ничего не знаю, – сказал я.
– Я же хотела, чтобы ты знал все, хотела все тебе рассказать. Неужели ты не можешь хотя бы попытаться понять? – настаивала она. – Как было дело с Батлером, и…
– Что заставило тебя выйти за него? – спросил я, не сводя глаз с потолка.
– Если бы ты только знал, каково мне приходилось дома! Как тетка постоянно цеплялась ко мне, как она этим ужасным жалким голосом говорила, что она всегда была дурнушкой – и слава Богу, что она была дурнушкой, потому что вот моя мать была красавицей, и что хорошего, если у нее на уме были одни только парни, и она влюбилась в этого ужасного типа, который годился только на то, чтобы стать тормозным кондуктором…
Она перевела дух и продолжала, уже спокойно и хладнокровно:
– О, она была готова молиться на любого из Бертонов, и ты знаешь, что из этого получилось. А она винила во всем меня, говорила, что я перед ним растопырила коленки – это перед Честером-то, Господи! – и он перестал меня уважать, вот почему он меня бросил. А потом был университет. Я терпеть не могла всех этих прыщавых умников и потных спортсменов, которые вечно жуют «Джуси Фрут» своими большими белыми зубами. Ну да, я даже пыталась влюбиться – ну да, и потеряла невинность. Хлоп – и все тут. На третьем этаже общежития, где слышно было, как играет внизу паршивый оркестр и все смеются, и кажется, что над тобой.
И потом:
– А этот сукин сын… Я узнала, что он этим хвастался налево и направо.
Она снова умолкла, но на этот раз не для того, чтобы перевести дух: взглянув на нее, я увидел на ее лице, полускрытом рассыпавшимися волосами, выражение одинокого отчаяния – она была погружена в собственные мысли и как будто совсем забыла о моем присутствии.
– А потом Честер Бартон женился, и тетка…
В общем, в конце концов она сбежала во Флориду. Не исключено, что она гналась за деньгами. Но она клялась Богом, что надеялась всего-навсего найти кого-нибудь, к кому могла бы испытывать хоть что-то похожее на любовь. Она жила в бедности, но околачивалась в разных шикарных местах, брала с собой этюдник или мольберт и ставила его где-нибудь в парке большого отеля или на пляже. На художника всегда обращают внимание. А рисовала она достаточно хорошо, сказала она с презрительной гримасой, чтобы сойти за художника. Во Флориде.
В конце концов, когда деньги у нее были уже почти на исходе, она оказалась перед воротами на Бугенвиллея-Драйв. Тогда рядом был незастроенный участок, выставленный на продажу, и она просто прошла через него, пробираясь среди пальм, кустов и зарослей дикого винограда, и вышла на пляж. Был отлив, она дошла по берегу до владений Батлера, не имея ни малейшего представления о том, чьи они, и поставила там свой мольберт. А на третий день ее там заметили, и сам старый Батлер спустился на берег, чтобы прогнать незваного гостя, и обнаружил молоденькую девушку, только что из колледжа, в незатейливом рабочем халатике, босую и, возможно, с вымазанным синей краской носом, и встретил умоляющий взгляд ее аметистовых глаз – ох, она ужасно извиняется, но отсюда такой прекрасный вид, нельзя ли ей только закончить этюд?
Она, смущаясь, показала ему этюд и рассказала, что ей хотелось бы запечатлеть. Она даже воспользовалась кое-какими техническими терминами, а этот прекрасно сложенный, загорелый тип в расцвете лет, в шортах, какие носят британцы, с аккуратно подстриженными седеющими усами и наверняка чуть подкрашенными волосами, слушал ее, втягивая живот, и серьезно кивал головой.
Через месяц или около того они поженились. До этого она, следуя рецепту тетки, держала коленки вместе. Может быть, ей раз-другой пришлось поплакать, может быть, она умоляла его, говоря, что совсем не из таких, а может быть, изображала, будто изо всех сил борется с искушением и с трудом заставляет себя от него отстраниться (последнее, впрочем, – всего лишь моя импровизация).
Так или иначе, старый Батлер заполучил себе в невесты девушку только что из колледжа.
Он ей нравился, сказала она, действительно нравился. Он был недурен собой. Он был к ней внимателен, хотел, чтобы она была счастлива. А ей так опротивели все эти мальчишки.
– Знаешь, – сказала она, – он был настоящий мужчина – понимаешь, что я хочу сказать?
– Думаю, что понимаю, – ответил я рассеянно.
– И относился ко мне как-то по-отечески, что ли… ну, покровительственно. И знаешь… Ну, рядом со мной никогда не было никого, кто бы обо мне заботился, как отец… Дядя делал только то, что велела ему тетка. И это было довольно приятно – чувствовать, что кто-то тебя ценит, кто-то сильный, кто много чего знает… Ох, неужели ты не понимаешь, что значит быть одинокой в этом мире? Что значит быть ничьей?
И тут, как и в тот декабрьский день в доме миссис Джонс-Толбот, она рассказала, что Батлер разбогател только тогда, когда был уже в годах, и всячески старался наверстать упущенное, делать все как принято, у него рядом с кроватью всегда лежал словарь. Ему мало было держать скаковых лошадей и выигрывать призы – он еще хотел быть чертовски хорошим наездником и держал у себя специального учителя верховой езды. Он очень заботился о себе, хотел как можно дольше оставаться молодым – гимнастика, диета, массажист каждое утро.
Но хоть он и был добр и относился к ней по-отечески, он хотел еще и быть своим парнем, заставить всех забыть об этих потерянных им годах, и постоянно окружал себя молодежью. Она говорила, конечно, о гостях: всех остальных Батлер принимал только у себя в офисе – отдельном крыле дома со своим входом. Розелла видела их только изредка.
Молодежь, приходившая к ним, была стильной – кажется, она сказала «шикарной». Один окончил Принстон: «Как Честер Бертон, – сказала она, – и никому не позволял об этом забыть». Один был англичанин, служил там раньше в армии и играл в поло. Еще один был из Голливуда – продюсер, который выпустил один фильм и вечно собирался выпускать следующий.
– О, мне все это казалось замечательным, – сказала она. – Я думала, что это и есть настоящая жизнь, настоящий мир. Ведь что я знала до этого? Только Дагтон и Таскалузу, где училась в университете, ну и кино – а здесь все было, как в кино, все хорошо одеты, и всегда под рукой незаметные слуги, которые подают все, что захочешь. Только вот…
Она запнулась.
– Только что? – спросил я ее после паузы. Я слышал ее медленное, трудное дыхание.
– Только вот когда он показывал фильмы…
Я ждал, прислушиваясь к ее дыханию. Потом спросил:
– Ты хочешь сказать – порнофильмы?
– Они были мне отвратительны! – выпалила она и добавила: – При этом никаких слуг не бывало.
Но все было, по ее словам, вполне прилично. После фильма зажигался неяркий свет, все немного выпивали, наливая себе сами, потому что слуг не было, болтали, иногда кто-нибудь рассказывал умеренно непристойный и действительно смешной анекдот, а потом отправлялись прогуляться по парку или расходились по своим комнатам – казалось даже, что они считают себя выше этих фильмов, что это просто случайность. Как будто они из совсем другого мира. Все было очень прилично.
Даже в ту ночь, когда кто-то после кино предложил сыграть в «Фанни Хилл» [25]25
Фанни Хилл – героиня романа английского писателя XVIII в. Дж. Клиланда, обитательница публичного дома.
[Закрыть], и из темноты, потому что свет еще не зажгли, раздался голос англичанина: «В самом деле, Батти, старина, давай, а?»
– Я сидела рядом с Батлером, и он держал меня за руку – во время фильмов он больше ничего не делал, хотя другие втихомолку делали кое-что еще, – и я почувствовала, как он весь напрягся. У него на лбу появилась резкая вертикальная морщина, как всегда, когда он начинал злиться и старался сдержаться.
Но тут англичанин сказал: «Давай, Батти, мы же все здесь свои».
– Вот это и заставило его решиться, – сказала Розелла. – Что здесь все свои. Он судорожно сглотнул и сказал: «Ну ладно», – и кто-то крикнул: «Браво, старина Батти!»
Розелла не знала точно, что это будет за игра, но книга в ее студенческом общежитии в Таскалузе ходила по рукам, и иногда девушки, собравшись, читали ее вслух, так что она вполне могла догадаться, о чем речь, и ее догадка оказалась правильной. Колоду карт – карт для бриджа, ровно столько, сколько игроков, – разделили пополам и положили на стол – одна кучка для мужчин, другая для женщин. Фант выпал на туза пик и даму червей. Мужчина, которому достался туз, предъявил его, и одна из женщин, встав, в напускном отчаянии покачала головой, жалобно сказала: «О горе мне, горе, что скажет моя мамочка?», и все расхохотались.
Мужчина подошел к ней и галантно поцеловал ей руку. В зале было почти совсем темно. В тот раз сыграли только один круг, и тот, кто выкладывал карты, положил в каждую кучку на одну карту меньше, чем было присутствующих: Батлеру и его молодой жене, девушке только что из колледжа, карту не предлагали.
На этом месте я ее перебил.
– Но все идет своим чередом, – сказал я, – и наступил вечер, когда тянуть карту предложили и Батлеру, и я могу спорить, что он не отказался. Могу спорить, что он вспомнил, как кто-то крикнул: «Браво, старина Батти», – и осторожно, стараясь не смотреть на тебя, вытянул карту. Верно?
После паузы голос рядом со мной произнес:
– Да. И когда он это сделал, я думала, что умру. А потом карты протянули мне.
– И Батлер отвел взгляд, верно?
– Да.
– И ты вытянула карту?
– А что мне еще оставалось делать? – В голосе ее звучали слезы. – Это было ужасно. Батлер сидел с таким видом, как будто его вообще нет в комнате. И все смотрели на меня. И еще моя наивность – я же знала только Дагтон, я не представляла себе, как на самом деле живут люди в этом мире. – И после паузы: – Потом я поняла, что просто боялась, как бы не показаться неотесанной деревенщиной.
– И ты вытянула карту?
– Это как-то само собой получилось, – произнес голос. – Но ничего не случилось – совсем ничего.
– Ты хочешь сказать, что старина Батти сыграл в русскую рулетку и выиграл?
– Может быть, в этой игре он и выиграл, – произнес голос, – но меня он проиграл. Насовсем.
И в этой игре он в конце концов тоже проиграл. Месяца через два, две или три партии спустя, счастье ему изменило, дама червей была вытянута, и Розелла подумала: какого дьявола, а почему бы и нет, ведь мысленно она это проделывала уже с десяток раз, а однажды ночью, поздно ночью, когда Батлер спал сном праведника после того, как вытянул туза пик, она выскользнула из кровати, спустилась в темную гостиную, где всегда показывали кино и где стоял наготове просторный низкий диван, на котором всегда выполняла свой фант дама червей, если от нее не требовали чего-нибудь особо экзотического, и легла на него. Сердце у нее стучало, как бешеное. Она не упустила ни одной детали, даже развязала желтый сатиновый поясок своей желтой сатиновой ночной рубашки без рукавов, навсегда запомнив, какими холодными, словно лед, показались ей собственные пальцы. Она даже распростерла руки, чтобы обнять своего безымянного, бестелесного любовника, и крепко зажмурилась, стараясь убедить себя, что стоит только как можно крепче зажмуриться и задержать дыхание, и тогда ничего не почувствуешь, и все это не будет считаться.
Она припомнила еще, как недавно одна симпатичная молодая женщина с прекрасными манерами, одетая со вкусом, но не вызывающе, муж которой, с виду настоящий джентльмен, сидел тут же, вытянула даму червей и исполнила все, что требовалось, легко и свободно, как будто она выше этого.
После таких приготовлений Розелла полагала, что, когда жребий выпадет ей, она как-нибудь справится. Но когда она была уже почти раздета – раздевал ее, со всей галантностью, туз пик, к тому времени уже оставшийся в одних черных шелковых боксерских трусах с монограммой, – ее охватила паника, и она, сгорая от стыда и отвращения, начала машинально сопротивляться, а все решили, что это притворство, и кое-кто даже зааплодировал – разумеется, негромко и сдержанно. И вот тогда она, в глубине души презирая сама себя, в самом деле подумала: «А, какого дьявола!..»
Потом Батлер, мрачный, как туча, сказал ей, что незачем было устраивать из этого такое представление.
Но фильмы после этого прекратились. И в «Фанни Хилл» больше, конечно, не играли. Но конюшню спохватились запереть слишком поздно – кобылы в ней уже давно не было. А вскоре на сцене появился Лоуфорд. Не в доме, а когда она была на этюдах – она вновь занялась живописью.
– Художница я была никакая, – сказала она, – но так я по крайней мере могла побыть одна. И делать вид, что я – не я, а кто-то другой.
Батлер так и ходил мрачный, как туча. Мрак все больше сгущался. И тут появился Лоуфорд.