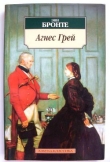Текст книги "Место, куда я вернусь"
Автор книги: Роберт Пенн Уоррен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
В ту ночь, когда был убит лейтенант СС, майор Буонпонти, получив от нас нужную информацию, провел весьма успешную атаку на тот эсэсовский опорный пункт. К несчастью, слишком поздно: нашим ребятам уже ничто не могло помочь.
Тем временем, на случай, если кто-нибудь из них не выдержал пыток, майор заминировал нашу овчарню. Когда немцы на следующую ночь пришли, там, конечно, никого не было, и, когда достаточное число их спустилось в подвал, один из моих головорезов, специально для этого назначенный, взглядом спросив у меня разрешения, нажал на рычаг взрывного устройства, и овчарня исчезла с лица земли. В то же мгновение на немцев, находившихся на поверхности земли – в коровнике и вокруг него, – с чердака отдельно стоявшего сарая и из окон соседнего дома обрушился шквал огня.
После этого нам, конечно, пришлось искать себе новое укрытие. Те немногочисленные коровы, которых мы держали для маскировки, были перебиты и съедены, хотя мяса у них на костях осталось немного. А оборудование рации почти все уцелело.
Вскоре война закончилась, и оказалось, что каждому из нас есть куда вернуться. Даже я в августе 1946 года снова оказался в Чикаго, уже в штатском.
В Чикагском университете, куда я вернулся после всех ужасов войны, я постепенно стал привыкать к той нервной суете, которую Амброз Бирс как-то назвал ужасами мирного бытия; вскоре и они стали для меня всего лишь образом жизни. Я даже сумел убедить себя, что нашел интересную и важную тему для диссертации. Пусть Великий Оползень истории все еще грохотал вокруг – его грохот стал таким привычным, что воспринимался как тишина. Теперь его можно было называть просто историческим процессом, а отдельно взятый маленький камень по имени Дж. Тьюксбери обрел покой на своем личном клочке каменной осыпи.
Со временем я даже убедил себя, что нашел подходящий объект для женитьбы. В том, что Агнес Андресен и есть этот подходящий объект, я убедил себя еще задолго до того, как мне пришло в голову, что она – подходящий объект для того, чтобы залезть с ней в постель. Мы познакомились в университетской библиотеке, и в некоем высшем смысле можно сказать, что святым алтарем, перед которым был заключен наш брак, стало окно выдачи книг.
Работая над своей диссертацией, я занимал отдельный столик в книгохранилище. В первые две недели я приходил туда только по утрам и ни разу не видел того, кто работал за соседним столиком и кто, судя по лежавшим на нем книгам, занимался английской литературой конца XVIII века – предметом, который я, считавший себя к тому времени настоящим медиевистом и специалистом по сравнительному литературоведению, рассматривал как подходящий разве что для женщин и детей. Мой сосед и оказался женщиной.
Как филолог Агнес Андресен заслуживала всяческих похвал; будучи в силу своего пола освобождена от воинской повинности, она заканчивала диссертацию и уже преподавала в одном из университетов Чикаго. Вполне приемлема была она и как женщина – это я вскоре заметил, несмотря на все ее старания выглядеть так, чтобы никто этого не замечал. У нее была неплохая фигура, несмотря на некоторую худобу и даже, можно сказать, костистость, и, хотя ее представления о том, как должна одеваться женщина-филолог, не позволяли ей подчеркивать свои телесные достоинства, совершенно их скрыть она не могла. Лицо у нее было не особенно привлекательное – нет, не то чтобы непривлекательное, а скорее строгое, всегда дочиста отмытое и ничем не украшенное, – но когда она снимала свои очки в роговой оправе, становилось видно, что глаза у нее – чистой, небесной, скандинавско-лютеранской голубизны. Ее улыбка, изредка проглядывавшая сквозь тучи серьезности и постоянной сосредоточенности, выглядела очаровательным сюрпризом – казалось, даже и для нее самой. Позже, когда мы были уже хорошо знакомы, она стала время от времени позволять себе кое-какие проявления непосредственности – шутку, поддразнивание, легкое прикосновение к руке, даже невинное кокетство, – но всегда робко, всегда осторожно, всегда с некоторой неловкостью, и тут же, поймав себя на этом, смущалась от собственной храбрости и заливалась краской, словно школьница, и этот румянец смущения, если она была без очков, особенно оттенял и без того небесную лютеранскую голубизну ее глаз.
В общем, именно эта робость, неловкость, осторожность, некоторая невзрачность, детскость, ощущение какой-то беззащитности и неуверенности, боязливое стремление выглянуть на свет и расцвести – все это выглядело очень трогательно и привлекательно. Чувствовалось, что цветение будет глубоко интимным, тайным, предназначенным только для вас одного и обещающим только вам одному куда большее блаженство, чем простое прободение некоей тонкой перепонки и связанное с этим незначительное кровопускание. Ибо мне никогда не приходило в голову, что Агнес Андресен может оказаться не девушкой, даже в чисто техническом смысле слова.
Но я снова забегаю вперед: все эти нежные и сложные чувства и вытекающий из них вывод, что было бы весьма приятно сорвать с Агнес Андресен ее ученое облачение и раздеть ее донага, я осознал только после того, как попросил ее руки. Когда я это сделал, мне просто казалось, что многообещающему молодому медиевисту вполне подобает иметь милую, трудолюбивую, хорошо воспитанную, почти красивую и не слишком требовательную жену, которая, уже имея ученую степень, будет со знанием дела обсуждать с ним профессиональные проблемы, а при случае с готовностью поворачиваться на спину и удовлетворять потребности его плоти, когда те начнут отвлекать его от ученых занятий.
Но была еще одна причина, по которой он попросил ее руки, – она его полюбила.
Это было новое и приятное ощущение – сознавать, что кто-то тебя любит. До сих пор, если не считать разве что богемного великолепия Дофины со всеми ее интеллектуальными и сексуальными сложностями, мне еще никогда не приходило в голову, что женщина может переспать со мной ради чего-нибудь, кроме корысти или удовольствия, – ну, и еще любопытства, которого тоже не следует недооценивать. Но оказаться любимым – это было нечто новое, и я наслаждался этой новизной. Я нежился в лучах ее искреннего восхищения, которое почувствовал уже тогда, когда впервые оказался в ее квартире (так непохожей на богемно-шикарное гнездышко Дофины), на вечеринке (так непохожей на наше с Дофиной времяпрепровождение), где гости пили не слишком сухой херес, благоговейно слушали Моцарта, Баха и Вивальди, обсуждали свои профессиональные дела и под конец, довольно явно побуждаемые хозяйкой, занялись Джедом Тьюксбери.
Этот последний акт начался после того, как Агнес попросила меня рассказать про доктора Штальмана – я ведь был его ассистентом, правда? Я ведь жил в его удивительном доме, правда? Я понял, что для этого нового поколения аспирантов, никогда не знавших доктора Штальмана, он был некоей мифической фигурой, олицетворением Солнца, допотопным гигантом, и что некоторым из них, во всяком случае Агнес Андресен, я представлялся кем-то вроде помазанника Божьего. Поэтому я рассказал им про доктора Штальмана и с подобающей скромностью ответил на вопросы, касавшиеся Джеда Тьюксбери и его научных достижений.
Несколько недель спустя я снова встретился в библиотеке, у окна выдачи книг, с одним из тех, с кем познакомился на той вечеринке у Агнес, – веселым, разбитным типом, который тогда незаслуженно занимал пост преподавателя английского языка. Он хлопнул меня по плечу и сказал:
– Привет сердцееду и разрушителю домашнего очага!
На моем лице, вероятно, выразилось удивление.
– Вы что, не слышали? – воскликнул он и объяснил мне, в чем дело.
Оказывается, Агнес уже давно была помолвлена с его аспирантом, а теперь вдруг дала ему от ворот поворот.
– Бедняга, на нем лица не было, – рассказывал этот весельчак. – Пришел ко мне поплакать в жилетку и выпить, не давал мне покоя до утра, пока не отдал концы у меня на диване. И говорит, все из-за вас, так что примите мои поздравления.
Я сказал ему, что поздравления по меньшей мере преждевременны, а возможно, и не по адресу и что мне ничего про это не известно.
– А, бросьте, – отозвался мой вестник и отправился по своим делам, которые в конце концов принесли ему хорошую должность в рекламном агентстве, где и было ему самое место.
Я сказал тогда правду: я и понятия не имел, что у Агнес был жених. Но даже в эту минуту, сардонически попрекая сам себя за то, что поддаюсь такой слабости, где-то в глубине души услышал довольное мурлыканье удовлетворенного тщеславия. В конце концов, подумал я, она довольно-таки привлекательна – по-своему.
Не то чтобы я совсем не замечал явных признаков того, что Агнес ко мне неравнодушна, и теперь, конечно, мне все больше удовольствия доставляли мелкие проявления ее чувств – неожиданные яркие детали, которые стали появляться в ее скучной одежде, прическа, которая в нашем пыльном книгохранилище казалась еще более неожиданной и безусловно обошлась ей дороже, чем она могла себе позволить, неудачные попытки поддразнивать меня, неумелое кокетство, несмешные глубокомысленные остроты и плохо скрываемые взгляды, полные собачьей преданности и заставлявшие ее, когда я их замечал, по-детски краснеть от смущения.
А потом – слезы.
Это случилось в такси. Мы были на вечеринке – на одной из этих вечеринок во вкусе друзей и коллег Агнес, и хотя я, отправляясь туда, втайне запасся фляжкой водки в заднем кармане брюк и частенько удалялся в уборную, но к тому времени, как мы оказались в такси, испытывал не столько радостное возбуждение, сколько тупую апатию. Повинен в этом был, вероятно, сладкий херес, который я вынужден был из вежливости поглощать. Так или иначе, я молчал, а Агнес, сидя прямо, как палка, была, казалось, целиком погружена в размышления. И вдруг, без всякого предупреждения, она вскричала:
– Нет, я этого не вынесу!
Прежде чем я успел собраться со своими сонными мыслями и спросить, чего она не вынесет, она разревелась. Именно «разревелась» – я утверждаю, что это самое подходящее слово для описания того, что произошло с Агнес Андресен. Она просто ревела – это были не сдержанные слезы светской дамы и не женственные всхлипывания, а самый настоящий, непритворный рев с широко разинутым ртом, дрожащим языком и размазыванием слез по физиономии, так ревут потерявшиеся и перепуганные дети.
– Эй, – сказал я, сразу очнувшись, – в чем дело?
Повернувшись ко мне, она с трудом выдавила из себя, что это ужасно, и снова разразилась рыданиями, что привело меня, тем более на столь близком расстоянии, в некоторое замешательство.
– Эй, послушайте, – сказал я, ласково похлопав ее по плечу, – скажите мне, в чем дело.
Она продолжала рыдать, и я похлопал ее посильнее.
– Бога ради, что с вами стряслось? – спросил я сердито.
– Мне только что сказали… – едва выговорила она. – Перед самым уходом…
И снова заревела.
– Что вам сказали?
– Что Перри… Перри… – произнесла она сквозь слезы. – Что он завалил экзамен.
– Перри? – переспросил я, но тут же сообразил, что это, вероятно, Перри Джералд – я слышал, что так звали ее бывшего жениха, и он, по-видимому, завалил кандидатский экзамен.
– Ну и что, переживет, – сказал я, пытаясь ее утешить.
– Но Перри… Он такой… Он такой… – Она никак не могла подобрать нужное слово.
– Какой «такой»? – спросил я, начиная чувствовать вполне определенную неприязнь к этому Перри, которого никогда не видел.
– Он такой… Такой… – начала она. – Такой чувствительный. Понимаете, я…
Это было все, что она смогла произнести.
– Вы хотите сказать, что дали ему отставку и теперь считаете, что вы виноваты? Да?
– Да. – Она кивнула. – А ведь он готовился целых четыре года!
– Господи Боже! – не выдержал я. – Четыре года готовиться к экзамену? Он что, дефективный?
– Я вас ненавижу! – воскликнула она, и последовавшие за этим звуки свидетельствовали о том, что все предшествовавшее было всего-навсего разминкой. Один взрыв рыданий сменялся другим. Я мог думать только об одном – это надо прекратить. Поэтому я обнял ее за плечи – левой рукой, если это имеет какое-то значение, – и принялся похлопывать ее еще более энергично. И тут Агнес, словно центр нападения, получивший мяч, вдруг пригнувшись, рванулась в мою сторону головой вперед – такой рывок сделал бы честь любому футболисту университета штата Алабама. На ней все еще были очки в роговой оправе, и острый угол оправы сквозь одежду и мышцы уперся прямо в мою ключицу, защищенную, к несчастью, только рубашкой и легким пиджаком, потому что дело было весной.
Я услышал новый взрыв рыданий. Поток слез промочил мне насквозь – клянусь! – и пиджак, и рубашку. Тогда, все еще обнимая ее за плечи левой рукой и чувствуя, как острый угол оправы повернулся в ране и из нее хлынула кровь, я сделал глубокий вдох и сказал:
– Послушайте, может быть, я и бесчувственный болван, и свой кандидатский экзамен я сдал на отлично, и мне приходилось собственными руками убивать людей, но если вы можете примириться с такими недостатками, то выходите-ка за меня замуж, а про этого несчастного Перри забудьте!
– Какой вы недобрый! – воскликнула она на этот раз, подняв голову, но тут же снова бессильно уронила ее на прежнее место. Я продолжал похлопывать ее по плечу, рыдания понемногу стихали, угол оправы перестал терзать мое израненное тело, и постепенно страждущие обрели покой.
Однако, если не считать всех этих глупостей, в моих отношениях с Агнес обычный процесс перехода от вожделения к уважению оказался, как ни странно, перевернут задом наперед, и только после того, как о нашей помолвке был оповещен немногочисленный круг наших знакомых, я начал осознавать ту привлекательность Агнес, о которой говорилось выше. Впрочем, Агнес знала, как усилить это зарождающееся чувство до самой высокой степени.
Здесь, поразмыслив, я прихожу к выводу, что слово «знала» совсем не подходит. У нее было не знание, а инстинкт – столь же эффективный, как мудрость Змия. Например, какая женщина, вынашивающая коварный замысел, могла бы избрать такси местом для сцены, которая должна была побудить меня сделать ей предложение? Такая женщина выбрала бы какой-нибудь тихий, уютный, освещенный свечами уголок – и жертва непременно учуяла бы неладное. Другими словами, слишком много ума – это та же глупость. Но такси! Что могло успешнее усыпить все подозрения и свидетельствовать об искренности, о глубине подлинного чувства, о сердечной простоте и даже об отсутствии всякого расчета в ее рыданиях?
А после нашей помолвки – какие хитрости и уловки могли бы довести меня до той кондиции, которой Агнес добилась без всяких усилий? Сейчас объясню: после помолвки (до этого я еще ни разу ее не целовал – больше того, даже мысль об этом не приходила мне в голову) я, следуя правилам хорошего тона и испытывая первые приступы зарождающегося вожделения, раза два пытался схватиться со своей невестой вплотную, но из этого ничего не вышло. Она была порядочная девушка в самом старомодном понимании этого слова. Никакого коварства тут не было, просто она выросла в Рипли-Сити.
Рипли-Сити (названный, как я позже узнал, в честь бригадного генерала, заслужившего некоторую известность тем, что безжалостно истреблял индейцев до тех пор, пока они не заманили его в ловушку) – городок в штате Южная Дакота с несколькими тысячами жителей, где отец Агнес был лютеранским священником и в тамошней иерархии чем-то вроде четвертого, и не самого младшего, члена Святой Троицы. Мы договорились, что в июне, как только она защитит диссертацию, мы с ней поедем в Рипли-Сити, где ее отец проведет брачную церемонию. Попросту говоря, она ляжет со мной в постель только после того, как ее отец скажет, что это можно. У меня было смутное, но, безусловно, несколько неприятное чувство, что никто другой из представителей церкви или государства не мог бы заставить ее это сделать. Это был классический пример того, как отец в буквальном смысле отдает свою дочь замуж.
Тем временем я два раза в неделю приходил к ней домой, где она подавала мне херес (я тайно смешивал его у себя в желудке с принесенной водкой), кормила восхитительным обедом, во время которого мы вели отрывочный разговор о делах, а потом, позволив мне уговорить себя, садилась ко мне на колени, и мы, обнимаясь с должной сдержанностью, предавались мечтам о предстоящем блаженстве. Вечер за вечером мы рисовали картины нашей будущей жизни, где фигурировали нерушимая верность друг другу и науке, трое до невозможности смышленых белокурых детей, прекрасные книги, которые мы когда-нибудь напишем, совместное путешествие по Европе, избранный кружок интеллектуальных друзей, маленький коттедж на уединенном озере в штате Миннесота, где мы будем проводить лето, укрепляя здоровье и предаваясь медитации. В общем, нам виделся некий плавучий островок счастья, отрезанный от всего мира.
Поначалу наши объятья всегда были сдержанными, но под конец они стали понемногу выходить за рамки корректности – моя рука перебиралась с ее талии на грудь, ее губная помада оказывалась слегка размазанной (теперь, готовясь к этим нашим свиданиям, она красила губы, причем довольно щедро, хоть и неумело), она часто теряла нить разговора, ее взгляд устремлялся куда-то в пространство, а дыхание учащалось. Однажды она даже вскочила с моих колен и в каком-то отчаянном смущении, расплакавшись, попросила меня уйти – «прямо сейчас, ну пожалуйста, сейчас же, и не целуй меня на прощанье, да, я тебя люблю, но прошу тебя, уходи сейчас же».
Я надеялся, что, несмотря на все эти новые для меня и интересные переживания, смогу продержаться до 23 июня. Я все больше убеждался, что держаться было ради чего – более того, как только папаша выстрелит из стартового пистолета, начнется нечто вроде золотой лихорадки в Калифорнии.
И проигрыш здесь не грозит.
С воздуха Рипли-Сити выглядел крохотной проплешиной на зелено-пурпурной бархатистой поверхности безбрежных прерий. А в непосредственной близости он оказался обычным городком американского Запада – с широкими пустынными улицами, по которым гулял ветер, с универмагами и миниатюрным филиалом Пиплз-Траст-банка, которые пришли на смену барам и борделям более привольных времен, с продавцами и стенографистками, которые сменили охотников на буйволов, шулеров, бандитов в сапогах на высоких каблуках и женщин легкого поведения в тесных корсетах и туфлях на столь же высоких каблуках. Вместо прежних мустангов у коновязи теперь стояли «форды» и «шевроле» прошлогодних моделей, но небо там то же, что и было всегда, и имя ему, конечно же, – Одиночество.
Я еще никогда не бывал на Западе, и эта разновидность одиночества была для меня новой. Ее новизна, как мне показалось, заключалась в том, что здесь окружающие просторы разбегаются во все стороны, человек истекает ими, как кровью, и если он не в состоянии их остановить, то в конце концов от него, словно от дохлого кузнечика, остается всего лишь сухая, прозрачная скорлупка, сквозь которую беспрепятственно льются палящие лучи солнца. Поэтому люди здесь стараются сбиться в кучу, как скот перед бурей, только эта буря надвигается не с неба, и порождают ее не стихии. Больше того, ощущение надвигающейся опасности становится сильнее всего в самый безветренный день, когда горизонт, на глазах убегающий вдаль, зыблется в жарком сиянии. Эта буря – чисто метафизический смерч, который засасывает душу человека и уносит ее неизвестно куда. Нет, пожалуй, лучше будет вернуться к прежнему сравнению – человек как будто исходит кровью, которая понемногу растекается на все четыре стороны.
Во всяком случае, для меня такое одиночество было новым. Ибо, в отличие от этого истекания души в окружающие просторы, хорошо знакомое мне одиночество – одиночество Юга, а не Запада, – подобно внутреннему кровотечению: это излияние души в глубь самого себя, прочь от окружающего мира, во внутреннюю бесконечность, словно в бездонную яму. К такому одиночеству я привык с детства и сполна использовал все его возможности. Я был истинным, высокой пробы, художником одиночества, чемпионом Алабамы.
Гостеприимство Запада (тогда я не мог сравнить его с гостеприимством Юга, испытать которое на себе мне до тех пор не удавалось) – прямой результат одиночества Запада, это стремление робко сбившихся в кучу людей присоединить к себе еще один кусочек человеческого тепла. В наш первый день в Рипли-Сити мы с Агнес прибились к такой кучке ее родственников – их было человек двадцать, не считая их мужей, жен и детей, и, казалось, у всех были глаза лютеранской голубизны, а лица – цвета сыромятной кожи у мужчин и румяного яблока у женщин. Почти весь тот день мы провели за столом, поглотив, наверное, небольшое стадо коров, целый птичник кур, массу пирогов и печений и такое количество черного кофе, что его хватило бы заполнить целый бензовоз. На следующий день мы отправились в церковь и прибились к населению всего городка и окрестностей (поголовно лютеранскому). Отец Агнес прочел проповедь, она (мы сидели в первом ряду) благоговейно слушала, а я держал ее за руку. На следующий день в церкви состоялась незатейливая церемония венчания – я потел в первом своем «приличном» костюме темно-синего цвета (его выбирала Агнес, в своей невинности не понимавшая, что помогать мужчине покупать костюм – дело куда более интимное, чем оказаться с ним голой в постели), а Агнес была свежей, как огурчик, и ее глаза сияли голубизной, словно незабудки, покрытые сверкающими каплями росы. Потом состоялся прием в цокольном этаже церкви, на котором присутствовал весь город (по такому случаю закрылись все лавки – отец Агнес действительно был предводителем племени) и было съедено соответствующее количество парадных яств, омытых еще одним бензовозом кофе. После того как Агнес, ускользнув на время в сопровождении своих двоюродных сестер – подружек невесты, вернулась в своей обычной одежде вместо свадебного платья, мы, осыпаемые рисом и пожеланиями счастья, отбыли в сравнительно новом «плимуте», позаимствованном у дяди Агнес, в Ледниковый парк [9]9
Национальный парк США в Скалистых горах, недалеко от границы с Канадой.
[Закрыть].
Пока мы ехали на Запад, я размышлял о том, что если, собираясь в Рипли-Сити, питал весьма большие опасения, то теперь вспоминал свое пребывание там с элегическим удовольствием. Перед глазами у меня стоял достопочтенный Олаф Андресен – высокий, костлявый, в черном костюме, с пышным ободком белых волос, окаймлявшим высокий розовый лысый череп, и с глазами еще более невероятной голубизны, чем даже у его дочери, – который, встречая нас на маленьком сельском аэродроме, положил мне руку на плечо и с необыкновенной искренностью и простотой сказал: «Да благословит тебя Господь, сын мой, как благословил Он нас твоим приездом». Он был похож на ветхозаветного пророка, но глаза у него были, как у мудрого ребенка, и о Божьем гневе он, очевидно, ничего не слыхал, и слова его лились, как чистая родниковая вода, и у меня хватило такта покраснеть и промолчать.
Выезжая из города по автостраде, ведущей на запад, я оглянулся и увидел на горизонте, в предвечерней дымке, макушки семи элеваторов Рипли-Сити и шпиль церкви достопочтенного Андресена – словно верхушки мачт далекого корабля. Хотя несколько тонких ниточек и связывали Рипли-Сити с внешним миром – через город проходила железная дорога, по которой отправляли зерно из этих элеваторов, сейчас казавшихся белыми, словно высушенная солнцем кость, рядом пролегала автострада, шедшая с востока на запад, а на маленьком аэродроме два раза в неделю приземлялись самолетики местных линий, – тем не менее город был совершенно самодостаточен, полон собой, замкнут в себе. Не изолирован. Не затерян в глуши. Просто сам по себе.
Я украдкой взглянул на Агнес. Она сидела, погруженная в свои мысли. На ней было платье из какой-то очень легкой летней материи в редкий голубой горошек. Ее ступни в белых лайковых туфельках чинно стояли на полу машины. Руки были сложены на коленях. Голубые глаза неотрывно смотрели вперед, где над уходящей вдаль прямой, как стрела, автострадой плясали вихри горячего воздуха. Она выглядела именно так, как должна была бы выглядеть хорошенькая девушка из Рипли-Сити, штат Южная Дакота, которая только что вышла замуж за очень симпатичного, хорошо устроившегося в жизни молодого человека из того же города и теперь едет в свадебное путешествие в Ледниковый парк, где для них уже забронирован самый лучший номер в гостинице, а потом они вернутся в Рипли-Сити и будут жить там долго и счастливо.
Мое сердце затрепетало от восторга, словно какая-то птица, пролетая, задела его крылом. Это было действительно совсем новое ощущение.
Мы нашли уютный кемпинг, где нам рекомендовали остановиться в первую ночь. Агнес приняла ванну и переоделась в белое платье и сандалии на босу ногу. К нашему свадебному ужину одна из ее теток приготовила целую корзину съестного, а я вытащил бутылку бордо и бутылку хереса. Мы немного погуляли, потом вернулись и стали накрывать на стол. Я позвонил в контору кемпинга и велел принести льда, лимонов и содовой, а когда все это было доставлено, смело приложился к своему тайному запасу водки. Агнес удивленно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Сама она выпила только немного хереса.
После ужина, наскоро убрав со стола, мы еще немного прошлись. Яркая луна стояла уже высоко в небе над прерией, погруженной в глубокую тишину, лишь изредка нарушаемую далеким криком какой-то ночной птицы. Я обнимал Агнес за плечи, и мы словно плыли по этой тишине, как будто лежали на дне лодки, глядя на луну, не ощущая движения, но зная, что на уносящее нас течение можно положиться.
В тот самый момент, когда наступил оргазм, я рассмеялся от облегчения и радости. Агнесса вся напряглась, и я увидел, что она плачет. Опомнившись, я спросил:
– Дорогая моя, что случилось?
Она выбралась из-под меня и съежилась на своем краю кровати. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы она, все еще плача, в конце концов смогла выговорить:
– Ты смеешься надо мной. Да, смеешься – это ужасно!
– Дорогая моя смешная девочка, – сказал я, – это же от радости, просто от радости! Ну, знаешь, как сектанты-пятидесятники принимаются хохотать, когда на них накатывает святой дух.
Она сказала, что я кощунствую. Она сказала, что я насмехаюсь над ее отцом. Я возразил, что имел в виду просто небесное блаженство и кощунствовать не собирался.
В конце концов мне удалось ее успокоить, и она заснула, положив голову мне на плечо. Но в ту ночь мы больше не занимались любовью. Я долго не мог заснуть, глядя в потолок. А наутро решил, что лучше будет подождать следующей ночевки.
Агнес, как я и предполагал, была еще девушкой, а в девушках я разбирался плохо. Мне никогда не приходилось иметь с ними дела – я хочу сказать, так близко. Может быть, этим все и объяснялось.
В Чикаго, в нашей новой квартире, жизнь текла приятно, спокойно и размеренно. Агнес была очень мила, очень нежна, внимательна, а к тому же оказалось, что она прекрасно готовит и хорошо помнит, что мне нравится, а что нет. Мы оба много работали – я пытался писать свою дурацкую диссертацию, а она монографию «Уильям Блейк и Якоб Бёме: мечтатели-близнецы» – этим названием она немало гордилась. Когда в 6 часов вечера я приходил домой из библиотеки, она всегда встречала меня поцелуем, в спальне для меня неизменно были приготовлены чистая рубашка, домашняя куртка (подарок Агнес) и тапочки, а когда я, переодевшись, выходил, на столе уже стояли херес и рюмки. За ужином мы разговаривали о том, что произошло за день, а потом вместе убирали со стола. После этого она обычно проверяла принесенные с собой студенческие работы (она отличалась крайней добросовестностью), а я читал или разбирал свои заметки. По субботам мы принимали гостей или сами куда-нибудь отправлялись. По воскресеньям ходили в церковь, после обеда прогуливались, а если шел какой-нибудь по-настоящему хороший серьезный фильм, то шли в кино. Для половых сношений у нас были отведены ночи со среды на четверг и с субботы на воскресенье.
Ничего этого мы заранее не планировали – ни Агнес, ни я. Просто так уж была устроена Агнес, и что-то специально планировать ей не было нужды. Она обладала каким-то мистическим свойством: для всего в ее мире было свое, особое место, и все само собой это свое место занимало. Включая и меня.
Лишь однажды, в самом начале нашей совместной жизни, я выбился из предназначенной мне колеи. Агнес спросила меня, когда я повезу ее в Алабаму, чтобы познакомить со своей матерью, и я ответил: «Никогда».
Оправившись от изумления, она спросила почему.
Я сказал, что с самого окончания Блэкуэллского колледжа в 1939 году ни разу не был в Алабаме.
– Но это же твоя мать! – воскликнула она.
Я сказал, что видеть меня в Алабаме – это как раз то, чего мать ни за что не хочет, и что, когда у нас есть что сказать друг другу, мы переписываемся. Я сказал, что написал матери о своей женитьбе и послал ей фотографию Агнес (это была правда), которая матери очень понравилась (это была неправда). Вот что она мне написала на самом деле:
«Дорогой Джед, я всегда думала чем дольше человек ждет тем больше у него шансов но ты решил посвоиму и надеюсь получил что хотел только не знаю нужно это тебе или нет. Спасибо за фотку. Помоиму из училок всегда получаются хорошие жены они такие тихие а она для училки даже недурна собой судя по фотке. Передай ей привет. С мистером Симсом мы живем хорошо – больше 2 рюмок зараз он не пьет никогда да и то только по воскресеньям. Никаких носов мне больше ломать не приходилось ха-ха. Я понимаю это нехорошая шутка. Ты прости что я это сделала. Но тогда мне показалось что это надо сделать. Ты расказал своей новой жене как тебе сломали нос и кто? Хотела бы я видеть ее лицо когда ты будешь ей это расказывать.
Твоя любящая мать Эльвира (миссис Перк) Симс
P.S. Недавно я прочитала в газете что тот человек которого подцепила Розелла умер он вывалился из своей яхты когда Розелла была за рулем и потонул и теперь Розелла богатая вдовушка. Ну там богатая она или нет только уж лучше жениться на училке хоть красивой хоть некрасивой».
Когда я поведал Агнес про это письмо, она возмутилась:
– Но ты мне ничего про него не говорил!
Я сказал ей, что письмо потерял (это неправда, вот оно сейчас лежит передо мной, пожелтевшее и потертое) и что, как мне показалось, оно ей будет неинтересно.
– Но ты мне никогда ничего не рассказываешь, – сказала она чуть ли не со слезами. – Про то, как ты вырос, про свою мать – нет, я тебя просто не понимаю! Я хочу познакомиться с твоей матерью.
– Моя мать, – сказал я, – женщина с сильным характером и многими достоинствами, в числе которых – острое, сардоническое чувство юмора, но у нее только начальное образование, она не умеет мыслить абстрактными понятиями, и тебе с ней не о чем будет разговаривать. Еще могу о ней сказать, что в девичестве она была, наверное, очень хороша собой, но, как обычно случается с белым отребьем – а нас, вероятно, следовало отнести к этой категории, хотя мать с этим ни за что не согласилась бы, – от ее красоты давно уже ничего не осталось. Еще одна подробность: она довольно миниатюрная женщина, и руки у нее маленькие, но от тяжелой работы они давно уже стали жесткими, как железные. Ах да, вспомнил – в том письме она написала, чтобы я рассказал тебе, как у меня оказался сломан нос. В захолустном колледже, где я учился, меня даже прозвали Кривоносом.